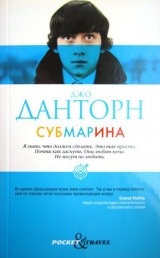
Текст книги "Субмарина"
Автор книги: Джо Данторн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
В школе над вами издевались? Виток, еще виток. Девушка бросила вас ради какого-то идиота с шеей как у Жирафа? Колесо снова крутится, только теперь вниз.
Я буду жертвой вечно, как Зоуи, которая сейчас наверняка сидит где-нибудь и предается тягостным размышлениям о своей несчастной судьбе. Можно сколько угодно переходить из школы в школу, но, если воспринимать себя как жертву, жертвой и останешься. Спорим, Зоуи не может даже заставить себя встать с дивана. Складки ее жирного тела наверняка уже срослись.
Чипс. Ну, этот все еще ребенок. И с каждым днем становится все больше похож на восьмилетнего. Когда пару недель назад я заглянул в дом его отца, он предложил мне глотнуть кислоты. Я отказался – ведь мне, по сути, сорок три. Он кивнул и поинтересовался, не против ли я, если он закинется в одиночку. Через час в парке он признался, что видит в небе черт знает что. Все небо черт знает в чем. Вскоре после этого он убежал, потому что у меня лицо якобы стало «чудным».
Старею.
Мне шестнадцать лет. Я живу в прошлом.
Набираю в поисковике: «Что случилось с Зоуи Прис?» Получаю ссылки на адвоката, всемирно известного хоккеиста и хиропрактика. Наша Зоуи отыскивается только на шестой странице. Она стала осветителем и звукооператором в «Версив» – молодежной театральной труппе. Должно быть, толстые вполне могут быть осветителями и звукооператорами. Наверняка Зоуи фантазирует о том, как зверски расправляется со смазливыми девчонками, которым достаются все главные роли.
Они ставят спектакль о мировой войне, той, что случилась последней. Называется «Гетто». Спектакль будут играть два дня, всего четыре представления утром и вечером в театре «Тальесин» в Суонси. Записываю на ладони номер кассы.
Спускаюсь вниз и открываю папин портфель, который висит на перилах. Достаю его бумажник, в котором он никогда не держит презервативы. И одалживаю на время его платиновую кредитку.
Опсимат
Я гуляю по ботаническому саду в Синглтон-парке читаю таблички на скамейках:
В память о Хэле Калкстейне, 1930–1995.
Отец, сын, друг, коллега, велосипедист и путешественник.
От любящих родных.
В память об Артуре Джонсе, муже, сыне, крестном отце.
Он любил гулять здесь.
Останавливаюсь напротив старичка, сидящего на скамейке. Стоя прямо у него перед глазами, осторожно беру в ладонь фиолетовый вьюнок, как, наверное, делали девушки во времена его юности. Я знаю, как радуются старички, когда видят, что подростки любят цветы. Он сидит, сложив руки на промежности. Он выглядит довольным собой: сейчас весна, и он пережил еще одну зиму. Я слегка надуваю губки и качаю бедрами, подтверждая все его представления о современной молодежи.
Выйдя на открытое пространство, держусь подальше от мощеных дорожек и шагаю по траве по направлению к университетским общежитиям, похожим на горки вафель из серого бетона.
Об университете сейчас говорят уже в школе. Мистер Линтон сказал, что если я хорошо подготовлюсь к выпускным экзаменам, то смогу попасть в класс усиленной подготовки ко вступительным по истории, а это уже верная дорожка в лучший университет, стопроцентное попадание на лучшую должность и гарантированное превращение в копию моего отца.
Старики говорят, что жизнь летит, только чтобы почувствовать себя лучше. Правда в том, что жизнь делится на маленькие отрезки времени – сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас – и нужно лишь от двадцати до тридцати таких «сейчас», чтобы осознать, что все закончится скамейкой в Синглтон-парке. Хотя не так уж это и плохо. Если бы я был старым и забыл сделать в жизни что-нибудь стоящее, то провел бы эти последние пару лет в ботаническом саду, убеждая себя, что время летит так быстро, что даже растения, у которых нет никаких обязательств, едва ли удостаиваются шанса сделать нечто стоящее в жизни – разве что произвести на свет пару-тройку красных или желтых цветков и, если повезет и подвернется насекомое, размножиться. Если старик удостаивается слов «отец и муж» на мемориальной табличке на скамье, то уже думает, что у него есть причины гордиться собой.
Помню, когда я смотрел «Короля Лира» в «Гранд-театре», то заметил, что на некоторых сиденьях таблички, посвященные каким-то людям или местным компаниям. Может, Зоуи к этому стремится, и ее главная цель – заполучить мемориальную табличку на одном из тех широких кресел.
Я просто неверно подгадал. Если бы у Зоуи была возможность прочитать мое руководство прежде чем она перешла в другую школу, как знать, где бы она была сейчас. Может, стала бы одной из тех девчонок, которых фотографирует «Ивнинг пост» с результатами экзамена в руках.
Но поскольку этого не случилось, она должна остаться такой же или стать хуже. Самооценку человека очень хорошо характеризует тот факт, что в жизни он или она занимается установкой хорошего освещения для других девчонок.
Они наверняка держат ее подальше от глаз, в операторской будке, под капельницей с мясной подливкой. Рычажки и ручки на ее пульте – единственное, что соединяет ее с внешним миром. Из темноты Зоуи наблюдает, как исполнитель главной роли поет, обратив глаза к осветительным приборам; она знает, что он поет для нее. Она включает самый яркий прожектор, покручивая ручку потным пальцем, и скользит рукой по толстому животу, проскальзывая под резинку своих треников и хватаясь за сгусток хлюпающей плоти, который, как она недавно узнала, является ее половыми органами.
В кафе театра «Тальесин» полно гордых, цветущих на вид родителей. Я спускаюсь в кассу (она же сувенирный магазин, она же галерея) и прошу выкупить зарезервированный билет, вручая папину кредитку женщине за стойкой.
У кассирши в глазу лопнул капилляр; на роговицу как будто капнули кроваво-красным соусом табаско. Замечаю желтый мазок синяка под глазом, но не придумываю историю о том, как она получила этот ушиб.
Она читает надпись на конверте: «Один билет на вечернее представление, Ллойд Тейт», – и протягивает его мне. Какое-то время я выжидаю, надеясь, что у нее возникнут сомнения насчет моего возраста. Но она улыбается и отдает мне кредитку.
Направляюсь прямо в бар и заказываю кулебяку с цыпленком и грибами. В школе мы прозвали Зоуи Кулебякой. Девушка за барной стойкой ставит пирог в микроволновку на полторы минуты. Пока он там вертится, я наблюдаю за тем, как раздуваются и провисают его бочка и морщится кожа. Пирог стареет на год с каждой секундой.
Сажусь за пустой столик и вилкой делаю прокол с каждого конца кулебяки. Через отверстия из пирожка-гейзера пробивается дым. Я жду, пока тягучая начинка остынет, и просматриваю программку спектакля «Гетто». Натыкаюсь на «Зоуи Прис – звукорежиссер, осветитель». Фотографии нет. На последней странице черно-белые фотографии с генеральной репетиции. Девчонки почти все выглядят одинаково: хорошенькие и с прямыми волосами. Пытаюсь вспомнить, как выглядит Зоуи. Я наверняка узнаю ее, когда увижу, но сейчас все, о чем я могу думать, – моя курино-грибная кулебяка.
Театр заполнен больше чем на половину. Я самый молодой зритель в ряду «Л».
В пьесе рассказывается о гетто в литовском Вильнюсе, где евреи создали театральную труппу. Они поют и исполняют песни. Их пение оказывается таким прекрасным, что депортацию в концлагерь откладывают на некоторое время. Повезло евреям, что нацисты не черта не понимают в хорошей музыке. Нацист Киттель назначает еврея Генса правителем гетто и начальником еврейской полиции. Генс устраивает бал, чтобы быть у нацистов на хорошем счету.
В антракте остаюсь на своем месте. Мне нравится наблюдать за ребятами в черных джинсах, таскающими декорации. Как будто их никто не видит.
Они выносят на сцену цветы, ковры и подушки. Четверо несут длинный прямоугольный обеденный стол, который затем накрывают: вино, довольно убедительный муляж салями в сетке и пластиковые жареные куры.
Начинается второе действие, и на сцене появляется двенадцать актеров: фольклорный ансамбль, состоящий из скрипача, трубача, гитариста и аккордеониста. Они играют довольно раздражающую мелодию, а четверо нацистов тем временем попивают вино и наблюдают за тем, как еврейские полицейские трахают пьяных еврейских проституток. Они делают это на столе.
Смотрю на лица родителей в моем ряду. У них серьезный, сосредоточенный вид. Один мужчина потирает подбородок; его челюсть сжата, напряженный рот чуть приоткрыт. Представляю, как папы юных актрис сейчас свыкаются с мыслью, что их дочери ощущают себя вполне уютно – и выглядят вполне убедительно – в роли девок, которые притворяются, будто им приятно, когда их трахает пьяный подросток, в свою очередь притворяющийся, что умеет трахаться.
Когда звуки совокупления становятся все громче, один папа поворачивается к жене и с полуулыбкой шепчет ей на ухо что-то смешное. Он хихикает, но она улыбается и ведет себя так, будто его нет; все ее мысли о бедных евреях. Он пытается разрядить обстановку в сложной ситуации; во второй раз, когда он разрешил бойфренду дочки переночевать у них, он убеждал себя что это батареи скрипят или ветер на заднем дворе – но так и не убедился и прислушивался всю ночь.
В конце спектакля я хлопаю в ладоши двадцать четыре раза.
Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
Актеры выходят и кланяются. Потом удаляются ненадолго за кулисы, но отсутствуют не так долго, чтобы зрители засомневались, продолжать хлопать или нет, и возвращаются на бис. Они простирают руки к Зоуи, которая сидит в своей берлоге, в своей клетке – будке звукооператора. Наверное, они приносят ей дополнительную порцию еды, если она не допустит ни одной ошибки. Они хлопают ей и смотрят наверх, на лампы.
Я приземляюсь на один из продолговатых диванов, расставленных змейкой вдоль стен фойе. Спектакль не произвел на меня впечатления. Нет ни внезапного уныния, ни нахлынувшей грусти. Более того, я чувствую себя не хуже, чем перед началом пьесы. В театре было жарковато, и пирог тяжеловато лег в желудке; может, я уснул и пропустил ту часть, которая бы меня взволновала?
Наблюдаю за группками родителей, которые ждут с цветами. Это похоже на зал прилета в аэропорту: присутствует элемент соревнования – кто выйдет первым? Не уверен, что узнаю Зоуи в лицо, поэтому придется внимательно следить за другими физическими характеристиками.
Первая девочка бежит прямо к своим родителям и обнимает обоих; те неуклюже наклоняются в коротком, но теплом тройном объятии. Другие родители хорошо скрывают свое недовольство. Девчонка улыбается родителям. У нее знакомое лицо, но может, это потому, что я видел ее на сцене. Ее отец что-то произносит. Она смеется. У нее красная сумка с нарисованным роботом из комикса, показывающим знак «мир». На ней красно-серый свитер в полоску с V-образным вырезом, мешковатый и скрывающий фигуру, хотя бугорки грудей хорошо видны; и длинные, сильно расклешенные джинсы, создающие впечатление, что у нее нет ступней.
Пытаюсь вспомнить, как одевалась Зоуи: белая рубашка, галстук, начищенные туфли? Ничего не приходит в голову. Хочу вспомнить ее лицо, но перед глазами стоит лицо этой девчонки. Которое похоже на ванильное мороженое. Каждая щечка – шарик.
И тут я вспоминаю: у Зоуи была чудесная кожа. Я встаю и подхожу на несколько шагов поближе, делая вид, что читаю программку. Девчонка так увлечена родителями, что не замечает меня за отцовской спиной. Ее кожа бледна, как пастеризованное молоко, щеки слегка раскраснелись. Брюки довольно плотно облегают верхнюю часть бедер, но я не вижу, никаких признаков ожирения. Помню, мы шутили, что жиртрестка – единственная в мире жирная девка, у которой маленькие сиськи, а какой смысл быть жирной, если у тебя даже сисек нет?
– Оливер! – Девчонка обращается ко мне. Ее родители отступают в сторону, приглашая меня в свой треугольник. – Ты же Оливер, верно? Что ты здесь делаешь?
– Зоуи?
Ее мама и папа, кажется, довольны, что я знаю имя их дочери.
– Мам, пап, это Оливер, мы с ним вместе учились в Дервен Фавр.
Мама и папа одновременно поднимают брови и кивают в унисон.
– Не волнуйся, – Зоуи кладет руку на локоть отца, – он хорошо ко мне относился.
Ее отец смеется. У него вытянутое загорелое лицо, а линией подбородка впору открывать конверты. Перевожу взгляд на Зоуи. Кажется, ей нравится быть такой, какая она стала. Она явно сама подобрала наряд. Лицо веселое и полно оживления.
Раньше я утверждал, что меня трудно разозлить, но, кажется, это перестало быть правдой. Смотрю ей в лицо. На губах улыбка. Но я чувствую, как пространство вокруг меня чернеет от злобы. Как в тот раз, когда папин секатор для живой изгороди наткнулся на осиное гнездо. Зоуи должна была быть живым доказательством того, что жертва всегда остается жертвой и невозможно исправиться лишь своими силами. Несчастные люди играют в жизни особую роль – они должны помогать нам чувствовать себя лучше. Если эта тупая жирная гусеница смогла стать бабочкой, что это говорит обо мне? Мне суждено быть вечно брошенным; всех моих девчонок украдут парни с уродливой шеей. Я даже подумать о жирафах не могу – сразу выхожу из себя. Я ненавижу даже этих женщин из горных племен, которые надевают себе на шею бронзовые кольца и благодаря этому всегда попадают в документальные фильмы.
Мне хочется, чтобы толстуха снова стала толстухой. Я бы вставил воронку ей в глотку и залил бы в нее все еще теплый жир, скопившийся на противне под решеткой супергриля Чипса.
– Рада знакомству, Оливер, – приветливо говорит мама Зоуи. – Тебе так же грустно, как нам?
У матери Зоуи черные корни отросли на дюйм; остальные волосы белые, сухие и такие короткие, что даже за уши не убрать. Ее глаза хлорно-голубого цвета.
– Да, – отвечаю я, – я просто в депрессии.
– Представь, каково мне, – произносит Зоуи, закатив глаза. Она говорит притворно мученическим тоном, пытаясь вновь перетянуть внимание на себя. – Каждый день – дважды всех моих друзей хладнокровно застреливают из пулемета, – продолжает она. – Не слишком полезно для психики, скажу я тебе.
Ее папа гордо и громко смеется. Мне хочется врезать Зоуи прямо по яичникам.
– Значит, ты тоже участвуешь в этом, Оливер? – спрашивает ее отец.
Не надо винить меня в том, кем стала ваша дочь.
– Нет, просто пришел посмотреть, – отвечаю я. – Люблю историю.
– Вот видишь! – Зоуи высовывает язык и, склонив голову, показывает его родителям. – По крайней мере один человек пришел посмотреть пьесу, потому что она хорошая, а не из-за своих драгоценных детишек. – Она игриво обнимает меня сбоку, и ее груди прижимаются к моему плечу. Раньше такой груди у нее не было. – Спасибо, Оливер, – говорит Зоуи и отходит.
Я улыбаюсь и смотрю ей в глаза. Моя злоба перерастает в тошноту. Это просто тошнотворно. Она даже не помнит, кем была раньше. Не хочу даже знать, каково это.
– Пьеса тоже интересная, – возражает ее мать.
– Да, мы же не виноваты, что все время отвлекались на нашу талантливую дочурку, – добавляет отец.
Меня сейчас вырвет. Мать и отец Зоуи как парочка из телевизора. Я даже могу представить, как они занимаются сексом по-взрослому, без всяких выкрутасов.
– Мне нужно в туалет, – сообщаю я им. Они ничего не отвечают.
Быстро разворачиваюсь и, петляя между ждущими родителями и пустыми металлическими столиками, тихонько бормочу про себя фразу «мне нужно в туалет». Мне становится хуже с каждым шагом; я в ужасе от своей неспособности произвести какое-либо впечатление, кроме приятного.
Туалет чересчур большой. Он сам как театр. Писсуары и раковины пусты, двери кабинок нараспашку – и никого. Нажимаю на кнопки всех трех сушилок для рук, и бью ладонью по всем шести автоматическим кранам: холодная – горячая, холодная – горячая. Думаю, что звук будет мощный, как в ушах, если нырнуть в водопад, но ничего подобного: они звучат просто жалко. Иду в кабинку и разматываю туалетную бумагу; она падает на пол слоями и напоминает жировые складки на животе толстяка. Встав на холодную плитку, наклоняюсь над унитазом и вдыхаю аромат дерьма и хлорки. Думаю о противне из-под супергриля. Открываю рот. Слышу, как затихает одна сушилка, и две оставшиеся вскоре следуют ее примеру. Один из кранов выключается; другие пять умолкают вслед за ним. Закрываю рот. Мой желудок молчит.
Сложно сказать, сильно ли похудела Зоуи. Вспоминая ее, я путаюсь между ее репутацией и реальностью. Но, даже если она похудела, не это расстраивает меня больше всего. А то, что она такая веселая.
Я открываю рот. И закрываю. Подхожу к писсуару и мочусь так громко и долго, как только могу. Но это не приносит облегчения.
Когда я возвращаюсь, в кафе уже полно веселых молодых людей. Девочки со свежими лицами и слоем толстого театрального грима на шее. Хулиганского вида мальчишки, смущенно выслушивающие комплименты. Все смеются. Это тоже игра. Мне кажется, все это могло бы быть продуманной дополнительной сценой из пьесы, и через минуту они запоют песенку о том, как нам повезло, что мы такие молодые и красивые и живем в Суонси в конце менее ужасной половины совершенно отстойного века.
Возвращаюсь к Зоуи и ее предкам.
– Я придумала все декорации. – Зоуи что-то им рассказывает. – Помните ту сцену, когда Генс просит Киттеля его застрелить? – Она говорит с родителями так, будто они ее друзья, и это меня пугает. Я смотрю, как двигается ее рот. Пытаюсь представить ее снимки «до» и «после».
– Да, – говорю я.
Она замолкает, показывая, что заметила мое возвращение.
– Так вот, в сценарии говорится «электричество выключается», но мне захотелось сделать иначе, – хвалится своими достижениями. Это просто невероятно. – И я установила свет таким образом, чтобы лампы выключались по очереди, из глубины сцены.
– О да, это было круто, – говорю я, хотя понятия не имею, о чем она.
– Ты, наверное, хочешь сказать «драматично», – поправляет она.
Не надо указывать мне, какое слово я должен использовать.
– Разве могут лампы быть драматичными? – спрашиваю я, пытаясь поддержать светскую беседу.
– Зависит от того, кто ими управляет, – не задумываясь, отвечает она.
Ее родители внимательно следят за нашим разговором. Они ждут от меня остроумного ответа, полного юношеского оптимизма.
– А управляешь ими ты, – отвечаю я.
Зоуи победила. И чтобы показать собственное превосходство, вежливо меняет тему.
– Ну, а с кем ты сейчас общаешься? – спрашивает она.
Мне хочется ответить: С Чипсом. Помнишь Чипса? Он стоял за твоей спиной в столовой три года назад, когда ты нашла бекон в волосах.Но по непонятной причине я передумываю.
– Хмм… ну, остались кое-какие хорошие ребята.
Она кивает, как психотерапевт.
– Дай мне свой электронный адрес, – говорит она и достает из сумочки оливково-зеленый блокнот.
Нацарапав Zoeinthedark@hotty.com на чистой странице, она вырывает ее и протягивает мне. Потом пишет «Олли, новый (старый) друг» вверху страницы и дает мне ручку. Записывая свой адрес, чувствую себя лишенным воображения: Olivertate@btinternet.eom.
Она кладет блокнот в сумку, и тут из зала выходит парень в длинных мешковатых джинсах и облегающей зеленой футболке. Он встает у нее за спиной и прикладывает палец к губам.
– Я тебе напишу, – говорит Зоуи.
Парень обнимает ее за талию, отклоняется назад и поднимает ее – у него очень гибкий позвоночник. Зоуи визжит, но недолго, и вид у нее не особенно смущенный. Ее живот ненадолго оголяется. Она совсем не толстая. У нее бледная нежная кожа. И еле заметный пушок, как капельки росы. Лануго – это пушок, который растет на лице и груди у людей, больных анорексией. Он похож на паутину.
Зоуи обнимает его.
– Оливер, это Аарон. Мам, пап, Аарона вы знаете.
– Привет! – здороваюсь я с сияющей улыбкой.
– Аарона мы знаем, – кивает мама Зоуи.
Длинная темная челка падает на лоб парня и делит его на две части. На его зеленой футболке надпись «Кейптаун». Большой нос совсем не портит его лицо. В его ноздри запросто можно вставить пятидесятипенсовик.
– Аарон, мы с Оливером вместе учились… – Зоуи кладет руку ему на плечо и шепчет в ухо, – …в Дервен Фавр.
У Аарона отвисает челюсть, глаза и губы морщатся от притворного отвращения.
– Тогда давай сделаем вид, что не ненавидим друг друга, – шутит он и протягивает мне руку, – ради ее родителей.
Родители Зоуи улыбаются. У Аарона мелодичный голос, как и должен быть у настоящего валлийца, – он становится то громче, то тише, как коротковолновое радио. Мы пожимаем друг другу руки, и он спрашивает:
– Освещение было просто супер, как думаешь?
– Точно, – отвечаю я.
– Зоуи просто супер, – говорит он.
– Ой, ну ладно, – она хлопает ресничками, потупив взгляд, и притворяется смущенной.
Аарон кладет руку мне на плечо. Он действительно красив.
– Тебе наверняка теперь грустно, да? – обращается ко мне он.
Когда я выхожу из ворот Синглтон-парка, уже темно. Я бесцельно шагаю вдоль круговой дорожки, по которой мы с Джорданой гуляли с Фредом. Мимо проходят два собачника, но они не напоминают мне о ней.
14.4.98
Привет, Олли! Обещала же, что напишу. Я была так удивлена, когда тебя увидела! Странно, но я сразу тебя узнала. Ты совсем не изменился. И почему мы не дружили, когда я ходила в ДФ? Наверное, потому что я тогда была полновата, а ты… ты был вроде как одиночкой. В жизни бы не подумала, что ты любишь театр!
Ты будешь смеяться, но в новой школе я словно обрела новое «я». Стала веселой, кокетливой. И мне это нравится!
Обязательно приходи завтра опять! Будет утреннее и вечернее представление, но лучше приходи утром – не так много народу, легче протащить тебя в будку!
Не волнуйся, ты не будешь меня отвлекать, я могла бы сыграть этот спектакль с закрытыми глазами и со связанными за спиной руками!
И чтобы ты знал – зрители обычно приносят цветы. Если интересно, я люблю хризантемы;-)
Увидимся завтра,
Зоуи <3 Электронные сердечки выглядят ужасно <3
Кстати, ты понравился маме. Кажется, она в тебя влюбилась.
XX
Трудно сопоставить поверить, что Кулебяка, толстуха, чья плиссированная юбка запачкана сахарной пудрой в районе промежности, и Зоуи, почти женщина, в чьей власти одним лишь кончиком пальца повергнуть зал в молчание, это один и тот же человек.
Она больше нравилась мне, когда в ней был чистый нераскрытый потенциал: сексуальный котенок, запертый в теле девочки-тролля. Наверное, я должен быть поражен. Она последовала моему совету даже не зная того: научилась быть другой с небольшой помощью друзей-актеров. Я насчитал в ее письме шесть восклицательных знаков.
Но я все еще вижу трещины, сквозь которые проглядывает Толстуха. Набрав в Интернете слова «жертва любит обидчика», на шестнадцатой странице обнаруживаю кое-то интересное: «Стокгольмский синдром – психологическая реакция жертвы или заложника, проявляющих привязанность к обидчику».
И все встает на свои места. Для Зоуи я по-прежнему остаюсь фигурой, обладающей огромной властью. Я сжег ее дневник, столкнул ее в пруд. Неудивительно, что она меня хочет. Она знает, что я вижу насквозь ее «новое „я“». Она как бумажная салфетка, которая становится прозрачной от жира, стекающего с горячего куриного крылышка.








