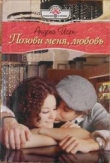Текст книги "Жестокое царство"
Автор книги: Джин Филлипс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Она не позволяет себе сомневаться.
Она как будто чувствует за спиной присутствие детской чашки.
19:06
Джоан оглядывает слоновий вольер, но животных не видно. Лишь посеребренная луной трава и земля. Ее взгляд прикован к чему-то находящемуся примерно в четверти мили от края вольера. Когда она наблюдала за тяжелой поступью слонов, их вольер казался ей бескрайним, но теперь его пространство не кажется таким уж большим. Иллюзия Африки сохраняется только до широкой полосы сосен, за которой виднеются освещенные луной рельсы детской железной дороги. За железной дорогой сквозь деревья видны уличные фонари, горящая вывеска аптеки «Уолгринс» и машины, медленно вписывающиеся в поворот.
Эти машины шокируют ее. Неспешно и ровно проезжают мимо с включенными фарами. Разве не должен хоть кто-нибудь остановить людей, едущих за туалетной бумагой или бутылкой мартини? Разве не должны быть здесь только оранжевые конусы, ленты ограждения, сирены, а возможно, и танки с бронеавтомобилями?
Эти машины, беспечно проезжающие мимо, просто невыносимы.
Взгляд Джоан вновь возвращается к твердым изгибам железной дороги. Рельсы отливают серебром, посверкивая то там, то здесь, когда на них падает лунный свет. Она сосредоточивается на этом сверкании. Ее дядя иногда брал Джоан с собой на пикник и рыбалку, и это было здорово, поскольку, будь на это воля матери, Джоан не бывала бы нигде, кроме дома, школы и торгового центра. В сельской местности были только коровы и фермы, а земля была усеяна слюдой, которую Джоан умела разделять на толстые серебристые слои. Она думала, слюда имеет ценность, но дядя сказал: нет, она просто блестит, и Джоан вообразила себе, что кусочки слюды – это осколки метеора. Такая красивая эта слюда, настоящее открытие. Однажды Джоан набрала кусочки в сумку, как ученый собирает ценные образцы породы, и принесла домой показать маме, которая никогда не ездила на природу. Они с дядей Джоан, будучи совершенно разными существами, не признавали никаких аргументов в пользу генов, передающихся по наследству. Но в тот день ее мать выщипывала брови, вся стойка в ванной была усыпана крошечными черными запятыми. Когда Джоан показала матери слюду, та сказала: «Не приноси в дом камни». Джоан была еще маленькой и заупрямилась, пытаясь объяснить: «Надо отодрать верхний слой, и она засверкает, как сокровище, посмотри сюда», но мать сказала что-то вроде: «Она ничего не стоит, Джоан», и, конечно, Джоан это понимала. Но у нее не нашлось слов, чтобы убедить маму, какое это чудо, какая прелесть. Так или иначе, мама ее не слушала и не хотела даже заглянуть в сумку. Ни разочка. Она стояла перед зеркалом, одной рукой дергая себя за бровь, а выщипанные волоски падали на стойку.
Джоан отводит взгляд от железной дороги и трется щекой о голову Линкольна. Он никогда не видел слюды. Ей хочется показать ему, как можно ногтем отдирать слои.
Потом она вдруг слышит треск и хруст, как от легкого удара, и моментально опускается на колено, обвившись вокруг Линкольна, но вскоре понимает, что это, вероятно, упавшая ветка или орех. Она внимательно оглядывается по сторонам, но ничего не замечает, кроме светлых и темных пятен, теней и растений.
Не поднимаясь, она молчит и наблюдает.
Наконец она встает. Невыносимо думать о том, что может случиться здесь, на этом кусочке бетона. На кусочке бетона длиной в десять футов. Или двадцать футов, в тени массивной соломенной крыши.
Джоан делает робкий шажок.
Снова бросает взгляд на рельсы. Бессчетное число раз поезд подвозил их с Линкольном так близко к внешнему ограждению, что они могли бы соскочить с поезда – он шел очень медленно – и прижаться ладонями к металлу или кирпичам ограждения, могли оказаться так близко к свободе.
Размышляя о железнодорожном пути, Джоан продолжает шагать. Они с Линкольном по-прежнему движутся параллельно слоновьему вольеру, приближаясь к павильону закусочной. Из громкоговорителей несется песня «I Put a Spell on You», и голос певца поражает ее. Она пытается разглядеть громкоговоритель, но они еще далеко от него.
– Можно я пойду сам? – шепчет Линкольн, и почему-то звук его голоса удивляет ее так же, как музыка.
– Хочешь пойти сам?
По пальцам одной руки может она сосчитать, сколько раз он просил пойти сам, когда она несла его.
– Да, – говорит он.
И она опускает его на землю, продолжая держать за руку. Облегчение, которое она испытывает, освободившись от его веса – эта внезапная легкость, – уравновешивается пустотой. Она еще крепче сжимает его руку. Он шагает рядом с бамбуковой загородкой, увлекая ее за собой.
– Что это? – спрашивает он.
Она следует взглядом за его пальцем. Ночью слоновий вольер выглядит необычно – в этом нет сомнения. Кажется, что приземистые деревья и низкорослый кустарник возносятся над выпуклыми холмиками, песок отсвечивает золотом, и этот ландшафт представляется ей каким-то внеземным, как Луна или Марс.
– То растение? – спрашивает она, заметив куст, ветви которого напоминают щупальца.
– Нет, – говорит он. – То, что лежит на земле.
Она всматривается вновь и через несколько мгновений начинает различать чернильно-черный силуэт на земле, не сразу поняв, что этот такое.
Те люди убили слона.
Тело массивное, темное и неподвижное, по земле извивается хобот, и почему-то она воспринимает его отдельно от тела, как будто он еще жив в своем стремлении освободиться и уползти прочь. Но он недвижим.
– Что это, мамочка? – упорствует Линкольн.
– Слон, – шепчет она.
Небо расчищается от облаков, и ей кажется, она различает на грубой шкуре слона колеблемые ветром волоски.
– Лежит? – спрашивает Линкольн.
– Да.
– Почему он лежит?
Можно было бы сказать сыну, что слон спит. Вероятно, это более мягкий ответ, но ей не хочется так говорить. Как-то некрасиво лгать ему прямо в лицо, после того как он пережил эти часы вместе с ней, щека к щеке, рука в руке. Кроме того, она хочет поделиться с кем-то этими словами, а он здесь единственный собеседник.
– Он мертвый, – говорит она.
– О-о! Его убили те люди?
– Да.
Джоан не в силах оторвать взгляд от слона. У него такой жалкий хвост, напоминающий червяка.
– Как его зовут?
– Не знаю, – откликается она. – Какое, по-твоему, у него было имя?
Он хмыкает, словно раздумывая.
Пошатываясь, Джоан идет дальше, увлекая сына за собой, сердясь, что потратила энергию и время на слона, вместо того чтобы обращать внимание на углы, стены и укромные места вокруг. Он идет с ней, но голова его по-прежнему повернута в сторону слона. Ему нравится давать вещам имена: у него есть семья маленьких игрушечных кроликов в одежде. Одного зовут Софтбол, другого Бейсбол, есть также брат по имени Крошка-Кролик-Без-Ушей – Мадлз отгрыз ему уши – и сестра по имени Сьюзи-Кэт. Когда-то была малышка по имени Сьюзи-Ведьма, но Мадлз сгрыз ее целиком. У Линкольна тьма пластмассовых футболистов и складное поле, и он дает игрокам разные имена. Одного нападающего зовут Изжеванный Губан. Есть принимающий по имени Сьюзан.
– Было? – переспрашивает Линкольн.
Она успела потерять нить разговора.
– Что?
– Разве у него больше нет имени? Разве, когда кто-то умирает, у него не остается имя?
– Я имела в виду «есть», – уточняет она. – Как, по-твоему, его зовут?
– Маршмэллоу, – говорит он.
Она крепче сжимает его руку.
Когда он играет со своими пластмассовыми футболистами, то заставляет квотербеков выкрикивать ободряющие возгласы: Играем энергично! Играем быстро! Разве мы делаем плохие блокировки? Нет! Хорошие блокировки? Да!
Исключительно милый ребенок. Его легко огорчить.
Линкольн снова останавливается и поворачивается, чтобы посмотреть на слона. А может, его внимание привлек мотылек или падающий лист.
– Линкольн, – наклонившись к его уху, шепчет она. – Нам надо идти. Нам нельзя смотреть на вещи, которые не имеют значения.
Вокруг так много пространства. Так много вероятных укрытий, которые невозможно обнаружить, пока кто-нибудь не выйдет оттуда с поднятым оружием. Она продолжает озираться по сторонам, понимая, что не в состоянии увидеть всё.
Если начать думать об этом – о том, как многого ей не видно, – становится трудно дышать.
Иди быстрее. Будь внимательна, но иди быстрее.
Слон остался уже в нескольких ярдах позади. Они подходят к ресторану с его павильоном и громкоговорителями. Заглушая все остальные звуки, гремит музыка, и Джоан догадывается, что на заборе висит еще один громкоговоритель. Все же она продолжает прижиматься к бамбуковой ограде и темной полоске травы, куда не доходит свет фонаря. Она тянет Линкольна за руку. Невмоготу оставаться здесь дольше. Мало того что ничего не видно, но из-за ревущей музыки – «Werewolves of London» – ничего не слышно.
Ресторан справа от нее, а павильон с соломенной крышей – прямо по ходу. Но между ней и этим зданием лежит освещенная площадка, где дети обычно бегают, падают и пьют сок из пакетиков. Здесь сходятся дорожки, ведущие к разным вольерам, и место это ужасно открытое. Если они вступят на эту площадку, то окажутся незащищенными и слышны будут лишь вой волков да грохот клавишных.
Из-за музыки у нее начинает стучать в голове.
Она решает, что они дойдут до вольера с черепахами, где над бетонной дорожкой раскинулось огромное дерево, и пересекут бетонную площадку под тенью этого дерева. Приняв это решение, она сосредоточивается на нем. Пригнувшись к забору, они медленно продвигаются вперед, и ее отвлекает только то, что вой в громкоговорителях на несколько секунд затихает, а потом начинается следующая песня.
В этот момент тишины она слышит крик младенца. Сначала она думает, что это обезьяна, но потом дыхание как будто захлебывается, и она понимает: это не животное. Плач яростный, клокочущий, и он близко. Настолько близко, что она вспоминает, как лежит в постели, в доме предрассветная тишина, кроватка Линкольна в соседней комнате, в десяти футах от нее; вспоминает, как просыпалась в долю секунды, стоило ему пискнуть, опускала ноги на пол, толком не успев разлепить глаза.
Джоан резко поворачивает голову к скамейке, стоящей в десяти футах от них – с нее удобно наблюдать за слонами, – ожидая увидеть длинноволосую маму, успокаивающую ребенка, но скамейка пуста.
Затем музыка возобновляется, ритмы диско заглушают все остальное, и она почти убеждает себя, что придумала все это, что воображение сыграло с ней злую шутку. Но она уже знает. И ей не надо принимать какие-то новые решения. Подходя к скамейке, установленной в нише у забора, она всего лишь придерживается выбранного маршрута, и рядом нет ничего, кроме металлического мусорного бака.
Джоан медлит, ссутулившись и не выходя из тени. Никого нет. Здесь явно никого нет – ни ребенка, ни матери. Линкольн дергает ее за руку, но не потому, что хочет вырваться, а потому что испытывает нетерпение. Она чувствует, он наклоняется вперед, как бы поторапливая ее.
Здесь явно никого нет.
Но она притягивает Линкольна к себе, ставит его перед собой, и они двигаются вперед. Дойдя до мусорного бака, она кладет руки на прохладный, немного липкий металл крышки и рывком поднимает ее. Она знает, что именно там найдет, однако убеждает себя в том, что этого не случится. Да, подняв крышку, она видит кричащего ребенка.
Она едва слышит его из-за музыки, хотя видит, как двигаются его губы. Свет от луны тусклый, но его достаточно. Ребенок лежит на одеяльце, закрывающем почти весь мусор, примерно в футе от верха бака. Крошечный, мягкий, дрыгающий ножками младенец. Моисей в корзине.
Положив крышку бака на бетон, она наклоняется и пытается успокоить его, сама не слыша своего голоса. Протягивает руку к маленьким пальчикам. На голове пушок из темных волос. Значит, он не новорожденный, ему несколько месяцев. Малыш неплотно завернут во второе одеяло пастельных оттенков – зеленых, желтых или белых? – и сумел высвободиться. Джоан видит его боди, тоже пастельных оттенков, и толстенькие ляжки. Но больше всего она загипнотизирована его гневом – эти зажмуренные глаза, наморщенный лоб и широко разинутый рот, который при всем желании не может соперничать с громкоговорителями.
Та женщина – или какая-то другая – оставила ребенка в помойке. В помойке!
Это уму непостижимо!
Линкольн тянет ее за руку и что-то говорит. Она не имеет понятия, что именно, а потому наклоняется ближе к нему:
– Скажи мне на ухо.
– Что это, мама? – кричит он, но она по-прежнему едва слышит его.
До нее доходит, что ему не видно. Ему не дотянуться до края мусорного бака, и он не слышит ничего, кроме музыки. Она стоит оцепенев.
– Ничего, – отвечает она, сама не понимая, зачем лжет ему.
– Тогда на что ты смотришь?
Она выпрямляется, глядя на ребенка. Потом замечает, что руки ее сами тянутся к баку. Она отступает назад.
– Мне показалось, я что-то услышала, – говорит она.
Должно быть, мать ребенка запаниковала. Может быть, она увидела приближающихся преступников, или просто ослабла, или смалодушничала. Не сумела успокоить ребенка и сдалась. Спасла себя. Вероятно, спряталась в каком-то укромном месте, оставив ребенка среди пустых банок из-под содовой и оберток от гамбургеров. Джоан ненавидит ее всеми силами души. Ее руки вновь нависают над мусорным баком, но почему она не дотрагивается до ребенка?
Линкольн тянет ее за юбку.
Джоан не в силах оторвать взгляд от ребенка. Если побороть в себе первую реакцию на мусорный бак, то не такое уж это ужасное укрытие. Если примириться с фактом, что женщина буквально выбросила ребенка, это замечательное место. Рядом с громкоговорителями ребенок – интересно, это девочка или мальчик? – может кричать, сколько ему вздумается, и никто не услышит. А кричать он, разумеется, будет, потому что он один, ему страшно, и, наверное, он голоден, и рядом нет теплого маминого тела. Младенцы чувствительны к запахам, а здесь незнакомый мерзкий запах гниения. Однако звук плача заглушается, к тому же мусорный бак – некое грубое подобие колыбели, обнесенной стенами, из которой ребенок не может выбраться.
Но здесь попадаются крысы и тараканы, которые могут заползти в глаза и рот. Тараканы. Тут небезопасно. Это мусорный бак. Линкольн может идти сам, а ребенок почти ничего не весит. Иногда она может нести их обоих.
Эта музыка диско звенит у нее в мозгу.
Она протягивает руку к лицу ребенка, багрово-красному даже при лунном свете. Кожа мягкая, как она и ожидала. Плач не утихает. Ребенок хватает губами ее большой палец, и она дает ему немного пососать. Рядом с его личиком конфетная обертка, и Джоан отбрасывает ее. Ребенок дрыгает ножкой, и она замечает что-то под его бледной мягкой ляжкой. Просунув руку, она находит соску-пустышку.
Она вытирает соску о рукав и дает ее ребенку. И тут вспоминается еще одна вещь: идеальная буква «О» маленького ротика и довольное причмокивание, когда соска во рту.
Немного пососав, ребенок выплевывает соску и принимается кричать. Она представляет себе, как держит его на руках.
Линкольн продолжает дергать ее за юбку. Она смотрит на сына, и он дергает все сильнее.
– Кажется, ты говорила, – кричит он ей в ухо, – что нам нельзя смотреть на всякие пустяки.
Джоан быстро выпрямляется. До нее доходит, что она освещена – то же пятно света, которое падает на ребенка, освещает и ее руки. К тому же она отпустила руку Линкольна. Она впервые отпустила его с того момента, как они вылезли из вольера дикобраза. И она не следила за ним. Если бы он отошел в сторону, она не заметила бы. Будь рядом преступники с поднятым оружием, она не увидела бы.
Она не смотрела.
Ребенок по-прежнему кричит.
Она опускается на корточки, в тень, обхватив сына рукой:
– Да, ты прав.
Надо поторопиться. Другого выхода нет. Она встает, чуть пригнувшись, и снова дотрагивается до головки ребенка. Потом разрешает ему ухватить губами свой палец – зубов еще нет – и вновь засовывает ему в рот соску. И быстро отворачивается, питая надежду, что на этот раз ребенок не выпустит соску. Потом поднимает с земли крышку мусорного бака.
Она ставит крышку на место. Это не так быстро, как хотелось бы – приходится точно совмещать края, – и все время она всматривается в какую-то точку в темноте. Какой-то миг она видит смутные трепещущие очертания, потом они исчезают, и остается лишь темный купол мусорного бака.
– Пойдем, – говорит она Линкольну.
Она снова пригибается к земле и делает несколько шагов. Музыка звучит немного тише, не стучит в голове. Еще один шаг, и еще, ей просто надо идти, стараясь ни о чем не думать.
Ей просто надо оберегать сына от опасности.
– Что там было? – прижимаясь лицом к ее волосам, спрашивает Линкольн.
– Ничего, – отвечает она.
Он продолжает что-то выспрашивать, но она ускоряет шаг, оставляя мусорный бак позади. Музыка звучит громче. Исступленные аккорды электрогитары уносятся ввысь, и порывы ветра образуют маленькие вихри листьев, желтых даже в полумраке. Дойдя до внушительного дерева, растущего у вольера с черепахами, они, взявшись за руки, бегут через затененную бетонную площадку и потом опускаются на колени у низкого заборчика. Передышка и оценка ситуации. Они всего в нескольких шагах от торговых автоматов, которые по большей части скрыты бамбуковыми зарослями, но между тонкими стволами просвечивают лампочки, горящие красно-белыми полосками.
Еще несколько шагов. Открыв сумку, она шарит в боковом кармане и достает кредитную карту.
– Какие у них есть крекеры? – спрашивает Линкольн.
– С сыром, конечно, – отвечает она, неразумно сердясь на него за то, что он опять вспомнил о крекерах. – Говори шепотом.
– Я хочу с сыром.
Она чувствует, что он замедлил шаг, и его сопротивление усиливается, как это бывает с леской, которую тянет пойманная рыба. Боком Джоан задевает бамбуковую загородку, охраняющую закуски.
Еще десять или двенадцать шагов, и она сможет накормить его.
– Не хочу арахисового масла, – громко произносит он. – Хочу с сыром. Если только там есть печенье с арахисовым маслом, какое любит папа.
– Тише! – шикает она.
Нет, это уму непостижимо! Ведь пока они говорят об арахисовом масле, их в любую минуту могут убить! Неужели он не понимает, что она для него сделала? Слава богу, конечно же, не понимает! Но она не станет спорить с ним о крекерах.
Она старается говорить спокойно:
– Наверное, с сыром есть.
– Обещай мне, – говорит он.
К глазам подступают слезы – она ошибалась: не гнев она подавляла в себе. Привлекая сына к себе, она чувствует, как ее рука слегка прилипает к его ладошке. Она не станет думать о липкой крышке мусорного бака. Приблизившись к матери, Линкольн издает рычащий звук, как будто сердится, что она пытается разбудить его рано утром. Вот они уже миновали забор.
Она вдруг замирает.
Потом неловко пятится назад и прячется за ограду, прижимая Линкольна к ногам. Она вновь напугана, и это хорошо, ибо страх сжигает все другие эмоции.
Пространство между бамбуковой оградой, где они стоят, и кирпичной стеной кафе «Саванна» освещено почти как днем. У стены выстроились светящиеся автоматы: кока-кола, пепси и минеральная вода, а в дальнем конце – металлический ящик с маленькими пакетиками. Она никогда не видела их вечером. Веселые огоньки излучают механическую агрессию. Автоматы находятся в полном неведении об их затруднительной ситуации, и она ненавидит эти автоматы за сверкание.
Ей приходится прикрыть глаза от света.
Слева от автоматов бамбуковый забор изгибается, в конечном итоге упираясь в стену кафе. Вдоль дуги забора плотно растут банановые пальмы, так что, по крайней мере, с этой стороны есть что-то вроде барьера.
Но с той стороны автоматов, где у них прорези для карточек – Боже, прошу Тебя, пусть считывающее устройство для карт сработает, ведь иногда оно не работает, а у нее обычно не бывает монет, – с той стороны нет никакого укрытия. Ничего, кроме бетона. Мало того что автоматы освещаются изнутри, так еще и по карнизу здания развешаны горящие фонари.
Джоан изучает заросли бананов по ту сторону от автоматов. Листья раскинуты, как зонтики, а под ними толстые стволы наклонно уходят в мульчу клумб. В угол забора втиснуты три мусорных бака, а угол рядом со зданием темный и пустой. Банановые пальмы могут служить укрытием, и она считает, что они с Линкольном могут залезть глубоко в эти заросли, ближе к забору.
Нет смысла долго здесь стоять. Это небезопасно.
Она изучает все предметы в поле ее зрения. Затем вновь поднимает Линкольна, который обхватывает ее руками и ногами.
– Сюда, – говорит она ему, устремляясь через освещенный участок – на бетоне появляется ее массивная бесформенная тень, – мимо автоматов с напитками и едой, прямо к краю банановых зарослей.
Рядом с собой она видит декоративные камни, вкопанные в землю, прямоугольные плитки черного и белого цвета. Она опускает сына на листья, прижимаясь к кирпичной стене кафе. Автомат с закусками совсем близко, только руку протяни. Он загораживает их от некоторых точек обзора. Она осторожно отнимает свою руку и подталкивает сына назад, шаг за шагом, к клумбе.
– Стой на этом камне, – шепчет она. – Побудь здесь, а я достану еды.
Она довольна его укрытием. Даже находясь близко, она почти не видит его.
Подходя к автомату с этой стороны, она стоит в тени, освещена лишь ее рука с картой. Неловкими пальцами – кончики пальцев такие сухие – она вставляет карту, и машина принимает ее. Джоан выбирает крекеры с сыром и злаками и, не дожидаясь, пока крекеры упадут на дно, просовывает руку в прорезь внизу автомата и хватает крекеры. Вытащив их, она прислушивается. Потом покупает вторую пачку – но, право, насколько опаснее лишние пять секунд, – только она нажимает не ту кнопку, и выскакивает шоколадный батончик «Зеро», но она хватает и его.
Потом она отступает в тень, ощущая на шее влажные листья бананов.
19:12
Когда он устраивается у нее на коленях, его рубашка задирается, и она думает о том, какой он худенький. Он родился очень крупным – больше десяти фунтов – и какое-то время был весьма пухлым. Эта прелестная младенческая пухлость заставляла незнакомых женщин останавливаться на улице, чтобы потискать его за ляжки. Он довольно долго был упитанным, но каким-то образом превратился в высокого и худого мальчика.
Она разворачивает крекеры и протягивает ему один. Обертка хрустит громче, чем ей хотелось бы, но она разрывает ее посредине, и крекеры высыпаются на обертку. Джоан устраивается на камне. На голову и плечи ей опустились широкие и плоские прохладные листья. Теперь из динамиков несется мелодия, которая всегда ассоциируется у нее со Злой Волшебницей из «Волшебника страны Оз». Неистовствуют деревянные духовые инструменты. Звуки резкие, но она не хочет, чтобы мелодия прекратилась. Она не хочет слушать ничего другого.
Не успела она и глазом моргнуть, как Линкольн съел два крекера. Джоан выуживает из сумки его бутылку с водой, и, к счастью, она наполовину полная. Джоан снимает крышку и ставит бутылку между его коленями, которые зажаты ее ногами.
– Спасибо, – говорит он.
Он слегка подпрыгивает на месте, отрывая попу от земли. Крекеры произвели на него едва ли не магическое действие.
– Ты купила шоколадный батончик? – спрашивает он. – А какой? Можно попробовать?
Отломив кусочек, она протягивает ему. Помолчав, она говорит:
– Он называется «Зеро». Белый шоколад с карамелью.
– Ты не любишь белый шоколад. Тебя от него тошнит.
Вообще-то, это правда. Напоминание о жизни в Таиланде. Сначала она работала с монахинями в Ирландии, а потом отправилась в Бангкок. Был Великий пост, и она отказалась от шоколада, поскольку, находясь рядом с монахинями, поневоле впитываешь идеи самоограничения. Потом в Таиланде наступила Пасха, и Джоан купила кролика из белого шоколада – зачем в Таиланде вообще нужны пасхальные сладости? – и съела его целиком, а потом ее вырвало, и на этом ее знакомство с белым шоколадом завершилось.
– Когда-то давно мне нравился белый шоколад, – говорит она.
Край острого камня впивается ей в бедро, и она пытается усесться поудобней, но при этом оцарапывает руку о камень. Ей больно, и по ладони начинает что-то течь – вновь вскрылся порез.
– До моего рождения? – спрашивает Линкольн.
– Да, – отвечает она, сжимая и разжимая кулак и ощущая липкость крови. – Задолго до твоего рождения.
– Когда ты ездила в разные страны?
– Да, тогда.
Он осторожно пробует шоколадный батончик, потом с довольным видом хмыкает, и весь кусок исчезает у него во рту.
– Ты постоянно ела его до моего рождения. Когда тебе нравился белый шоколад. Но до моего рождения не было белого шоколада, так что это неправда.
– Неправда? – повторяет она.
В автомате с кока-колой какая-то неисправность – видимо, короткое замыкание. Постоянно мигает кнопка спрайта.
– До моего рождения шоколада не было вовсе. Не было домов. Только замки. Не было мебели. Ни тарелок, ни шляп, ни одежды. Были динозавры. Не было мира. Ничего не было. Но была одна больница, где я родился.
Она смотрит на него.
Однажды он принялся плакать, испугавшись голоса в динамике бакалейного магазина. Он считает монстров из «Скуби-Ду» очень страшными. И похоже, в данный момент он не вспоминает о прошедшем часе. Он вернулся в обычное состояние.
– Я этого не знала, – шепчет она.
– Знаю, что ты не знала.
Скоро им придется уйти отсюда. Они сейчас около здания, в стороне от главной аллеи. Джоан прижимается к кирпичной стене, стараясь, чтобы они были в тени, но сквозь листья просачивается немного света, и Джоан смотрит, как он ест.
– Вкусно, детка? – шепчет она.
– Ням-ням, – говорит он с полным ртом. Он снова взялся за крекеры. – Ням-ням. Так вкусно, пальчики оближешь.
– Ш-ш-ш! – говорит она. – Потише! Не торопись проглотить все сразу. Ешь с удовольствием.
– Я ем с удовольствием, – шепчет он, доказывая это тем, что откусывает от крекера крошечный кусочек.
Она часто просит его посмаковать еду, но сейчас в особенности хочет, чтобы он ел медленно. Ей нравится наблюдать, как он с удовольствием поглощает плавленый сыр. Он громко жует, и, хотя рот у него закрыт, челюсти двигаются чересчур энергично. Он облизывает руку, и Джоан заключает, что на ней были крошки.
Она хочет, чтобы он думал только о крекерах.
Он еще плотнее прижимается к ней, и она вспоминает о своем дяде, когда тот, сидя в старом кресле с откидной спинкой, отодвигался, чтобы дать маленькой племяннице место, говоря: «Один из нас, похоже, растолстел». От дяди всегда пахло скошенной травой и духмяным потом, а когда она втискивалась в кресло рядом с ним, он, бывало, прислонялся щекой к ее голове, и она ощущала, как у виска бьется его сердце – так она чувствовала себя под надежной защитой.
Из собственного опыта – обедов с подругами, из фильмов и книг – она знает, что люди не бывают довольными. Им нужна другая работа, другой спутник жизни. В ее же возрасте она должна переживать некий экзистенциальный кризис, когда ей надлежит оценить новые альтернативы и стремиться начать все сначала. Все осложняется тем, что она женщина, и у нее ребенок, и она работает. Считается, что ей надо желать этого, но при каждом повороте судьбы она будет терзаться, раздираемая между желанием выгородить для себя место в этом мире и материнскими чаяниями.
Но она не испытывает подобных чувств.
Однажды в детстве, увлекаясь всем тем, что связано с самопроизвольным возгоранием человека или с вуду, она прочитала рассказ, вероятно, из одной из своих толстых книг о привидениях. Там рассказывалось о человеке, которому дьявол подарил часы, и эти часы могли останавливать время. Человеку надо было только нажать на часах кнопку, и его жизнь навсегда осталась бы неизменной. Он никогда не умер бы. Никогда не состарился бы. Каждый день он проживал бы в точности так, как сегодняшний. Ему надо было лишь выбрать время и нажать кнопку. Но он всякий раз не был готов нажать ее – раздумывал о том, что ему хочется встретить подходящую женщину, потом, думая, что встретил ее, решал, что хочет стать отцом, а когда рождался ребенок, он начинал сомневаться: та ли это женщина, а затем он желал заработать много денег и в конце концов превращался в старика и за его душой приходил дьявол. Дьявол говорил ему, что издавна наловчился на этом трюке, и весь фокус в том, что никто никогда не нажимает кнопку. Ни один человек не осмеливается сказать, что именно этот момент его жизни идеален.
Она остановила бы часы. В любой день. В любой момент.
Не исключено, что удовлетворение жизнью – одно из ее больших достоинств. Она ценит то, что имеет. К ней прижимается теплое тело сына, и этого почти достаточно, чтобы перечеркнуть все остальное.
Только вот ладонь у нее опять мокрая, и по пальцам стекает кровь.
Она поднимает руку, чтобы перевязать чем-нибудь пораненную ладонь, но замечает еще одну кровоточащую ранку над запястьем. Не сразу до нее доходит, что она поранилась об острый край камня.
Не найдя, чем перевязать ранку, она прижимает руку к юбке.
Ей хотелось бы остановить те часы. Скоро она увидит свое отражение в зеркале, когда на ней будет кружевная ночная сорочка, может быть, та, с прозрачным лифом и разрезами до бедра, которую иногда ее просит надеть Пол, и она подумает: «Однажды я не смогу это надеть. Однажды у меня будет отвислая кожа со складками жира, и я стану старухой, которой не пристало носить сексуальное белье, и однажды Пол умрет, и, так или иначе, носить это белье будет не для кого». Или она будет делать колесо для Линкольна, считая – восемнадцать, девятнадцать, двадцать – и какой-то частью своего существа гордясь и радуясь, а другой частью думая: «Когда-нибудь я не смогу делать колесо, но надеюсь, он запомнит те дни, когда я могла. А если завтра я погибну в автомобильной аварии, будет ли он вспоминать меня прежнюю, вспоминать, как мы произносили волшебные слова, чтобы сигнал светофора переключился на зеленый, и как мы превращали обеденный стол в крепость?»
Она не помнит, когда начала представлять себе конец всего. Возможно, толчком послужило то, что ей недавно исполнилось сорок. А возможно, с того момента, как Линкольн стал превращаться из ребенка в мальчика, он начал подталкивать ее к этому. Она осознавала, что скоро он начнет от нее отдаляться, пока наконец не вырастет и не исчезнет совсем. Наверное, эти черные мысли посещают ее, поскольку больше всего она хочет, чтобы жизнь оставалась в точности такой, как сейчас, ни в чем не изменяясь, и, может быть, она любит эту жизнь еще больше, потому что знает: она не вечна. Неужели у всех людей возникают подобные мысли об автомобильных авариях и мертвых мужьях или она просто ненормальная? – недоумевает Джоан.
– Что случилось с моим «Поворотом на Трансильванию»? – спрашивает бас из динамика.
У Линкольна в пачке остался один крекер. Пора двигаться. Им надо найти какое-то более удаленное место.