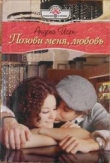Текст книги "Жестокое царство"
Автор книги: Джин Филлипс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
ОСТАВАЙТЕСЬ ТАМ.
Неужели он думает, что ее убедят заглавные буквы?
«Знаешь, что…» – начинает она, но потом ее пальцы замирают, и она замечает, что они изогнулись, как у исполнительницы танца хула, вполне отдавая себе отчет в том, что любуется собственными пальцами.
Одна секунда. Две секунды. Три секунды.
Она прислушивается.
Что-то заставило ее остановиться. На краткий миг она воспринимает это как что-то, но в следующую секунду понимает: это что-то – звук.
Потом она вновь слышит этот звук. Такие звуки она издавала сама, идя по извилистым бетонным дорожкам, когда подошвы обуви скользят по гравию. Поскрипывание и шарканье подошв. Возможно, шепот. Звуки раздаются с тропы за забором-сеткой, из обширного темного пространства за их укрытием.
Джоан быстро выключает телефон и прижимает Линкольна к себе. Ей кажется, она всегда тянется к нему, хватает его, прижимает к себе, беспокоясь, что он удаляется от нее – не так далеко, не так громко, не так быстро, – за исключением тех случаев, конечно, когда он хватается за нее, тянет к себе, беспокоясь, что она далеко.
«Мама, на ручки, позалуста», – говорил он, когда еще не умел произносить «ж».
На ручки, позалуста. На ручки, позалуста. На ручки, позалуста.
Джоан всматривается в темноту – теперь уже полную – и за пределами их вольера не видит ничего. Она знает: где-то там бамбуковые заросли, и железнодорожные рельсы, и бетонные дорожки. И надеется, что, может быть, там в поисках укрытия снова бродит женщина с ребенком или кто-нибудь еще, и на этот раз, обещает она Богу, на этот раз она позовет их, чтобы разделить с ними свое укрытие, если они и вправду нуждаются в этом.
Она не видит. Но она слышит.
Шепот, теперь уже безошибочный. Шепчутся мужчины, словно с трудом пробивается какая-то радиостанция.
Они не заперлись в помещении.
– Тише, – говорит она Линкольну, хотя он не производит ни звука. – Плохие дяди.
– Ч?.. – начинает он, но она шикает на него, и он слушается, а она произносит торопливую благодарственную молитву, снова думая, что Бог, возможно, наказывает ее за то, что она ставит жизнь своего ребенка выше жизни другого.
Она снова, не задумываясь, сделала бы то же самое и не испытывала бы сожалений, пусть даже на нее давит чувство вины. По временам она спрашивает себя: а что для нее есть Бог?
Они подходят ближе, думает она, почти наверняка по асфальтовой дорожке, параллельной рельсам. Она слышит шаги, то и дело раздается хруст.
Сумрак однородный, непроницаемый.
Она полагает, их с Линкольном не видно. Она представляет себе фонарь, висящий над навесом помоста, и знает, что один край вольера освещен, но каменистый участок, где прячутся они, кажется ей совершенно темным. Пошевелив пальцами, она с трудом различает их движение.
Правда, телефон. Если они заметили свет от телефона.
– Здесь, – тихо произносит голос, ближе, чем она ожидала, и это самое ужасное слово, какое ей доводилось слышать.
– Там? – переспрашивает другой голос.
– Нет. Вот здесь.
Она по-прежнему их не видит. Но создается ощущение, что они в нескольких футах от забора. Может быть, в двадцати футах от них? Тридцати? Достаточно близко, поэтому слышно каждое сказанное слово, хотя и приходится напрягать слух. Похоже, они стоят на месте, выжидая.
Увидели ли они ее? И может быть, сейчас целятся, глядя на нее?
Ее щеки едва касается тяжелыми крылышками мотылек. Над головой скрипит ветка. Волосы попали ей в рот, но она не отводит их.
– Ничего не вижу, – говорит один из них.
– Тише.
Она опускает глаза на телефон, который засунула под ногу, пусть даже она и не видит его в темноте. Она уверена, что они заметили подсветку экрана, и не сомневается, что продолжат поиски, пока не найдут. Это целиком и полностью ее промах. Она понимала, что рискует, но не оценила степень этого риска.
Цена ее ошибки чересчур высока.
– Мамочка, – шепчет Линкольн прямо ей в ухо.
Она не может понять, так ли громко он говорит, как ей кажется.
Иногда они чмокают друг друга в ухо как можно громче. Линкольн говорит: «Сейчас я сделаю тебе чмок» – и звонко целует ее в ушную раковину. Этот сладкий поцелуй и его легкое влажное дыхание, как сейчас, словно переливаются из него и впитываются ее кожей, а потом исчезают в воздухе.
– Исчезни, – шепчет она так тихо, что не знает, услышал ли он ее.
Но вероятно, услышал, потому что он опускает голову ей на плечо.
До нее доходит, что она каким-то образом успела подняться на колени, упираясь одной ногой в землю, приготовившись вскочить и бежать. Ей хочется побежать. Но ничего нельзя разглядеть, а если бы и разглядела, она не знает, куда бежать. Они услышат ее. Ей придется перелезть через ограду с сыном на руках, а ограда хорошо освещена.
Ей следует сидеть на месте.
Она не знает, выдержит ли. Не знает, сможет ли допустить, чтобы они приблизились к ней.
– Уверен? – спрашивает голос.
Она полагает, это те же два человека, которые проходили через корпус приматов, но не уверена до конца. Она больше не различает их голоса. Оба говорят приглушенно.
– Там кто-то есть, – произносит другой голос.
– Прячутся, да?
Другой голос не отвечает. Какое-то время слышен только шум ветра, шуршащих листьев и отдаленное уханье. Она не шевелится, лишь гладит Линкольна по голове.
У забора что-то звякает. Наверное, задели ногой или рукой за сетку или один из них оступился. Ей кажется, она различает в темноте силуэты голов и плеч – плоские и невыразительные, как у бумажных кукол.
– «Ты пропал, но теперь нашелся, – нараспев произносит голос, хотя человек не совсем поет, а фальшиво выпевает слова. – За тобой гнались, вышвыривали, изгоняли, но теперь ты мой».
Голос продолжает. Громче. Она представляет себе, что человек улыбается, и ждет, когда он начнет отбивать ритм.
– «Ты шел впереди, но знал, что я пойду следом. У тебя голая шея, но опусти голову. У меня твой ошейник».
Теперь голос звучит громко, и она хорошо слышит его. Она думает, это тот тихий парень. Его голос тоньше, выше по тону. Для человека, считающего себя экспертом в погоне, он совсем не старается остаться незамеченным.
Или, может быть, он просто настолько в себе уверен.
– «У меня твой ошейник», – повторяет он, проводя рукой – о нет, чем-то металлическим – по забору из сетки, производя почти музыкальный звук.
Она пытается выровнять дыхание, слыша, как часто и тяжело она дышит. Пытается унять дрожь.
– Один сквоб просил меня оставить его в покое, – говорит один из них, нарочито растягивая слова, но, по крайней мере, пение прекратилось.
Сейчас они разговаривают громко, и она понимает, что это не из-за чрезмерной беспечности или чрезмерной уверенности. Просто они хотят, чтобы их услышали, кто бы это ни был.
Скрежещущий звук от сетки. Неизменный, металлический. С тихим треском падает желудь.
– И что же ты сделал? – спрашивает другой?
– Что я сделал, пупсик? – Растягивает слова. – Я отделал его под орех, и он успокоился.
Оба смеются, и их смех какой-то успокаивающий, согласованный, как старая шутка. Это наводит ее на мысль, что они копируют какое-то шоу.
И хотя слов она не узнает, но уверена, что не ошиблась. У нее был бойфренд, помнящий наизусть целые диалоги из «Челюстей». А когда с ними еще жил ее брат – она с трудом припоминает то время, – он вставлял строчки из «Звездных войн» в обычные разговоры, и это звучало именно так. Ее бойфренд и брат небрежно смешивали слова из разных языков, вкладывая в них разные значения, которые от нее ускользали, и так же смакуя те слова, как эти говорящие нараспев парни.
Итак, в воду вошли тысяча сто человек, триста шестнадцать вышли, остальных сожрали акулы.
Это не те дройды, которых вы ищете.
Забор гремит, когда парни раскачивают его. Разумеется, они его не снесут, единственная их цель – наделать шуму.
Они пересекли дорожку, подойдя ближе к бамбуку. Она различает движение, перемещение теней. Они трясут и этот забор тоже.
– Мой маленький глазок что-то разглядел, – говорит один.
Но они ничего не видят, она это знает. Они играют в игру. Надеются вспугнуть добычу, как ее отец, пока еще был с ними, с помощью своего лабрадора вспугивал голубей. Голуби взлетали, отец стрелял, и собака приносила ему одного. Если голубь был еще живой, отец отсекал ему голову и бросал ее на землю, говоря, что так голубю лучше. Из шеи голубя капала кровь, и в траве лежала маленькая головка с клювом. Джоан припоминает, что он брал ее на охоту только один раз.
– И что ты разглядел? – спрашивает один обычным голосом.
– Что-то темное, – отвечает другой.
Они снова смеются. Уж не выпили ли они? – думает она.
Уткнувшись ей в шею, Линкольн тихо рычит, как Мадлз, когда ему наступают на лапу.
Когда парни смеются, ее страх утихает, и она с удивлением понимает, что разозлилась. Эти идиоты размахивают перед ней винтовками и поют детские песенки. Заставляют ее сына хныкать и прижиматься к ней. Она вспоминает, как в студенческие годы была однажды в доме с привидениями и перед ней шел крупный мужчина – ростом больше шести футов, с фигурой футболиста, – шел так близко, что она натыкалась на него, когда он резко останавливался. Она пришла со своим парнем, но здоровяк был более надежным щитом. И вдруг в свете строба выскочил зомби в маске, в трех дюймах от ее лица держа в руках бензопилу. Она неожиданно громко закричала, и здоровяк, должно быть, тоже испугался, потому что он – при вспышке белого света – стукнул зомби по лицу. На полу вместо зомби оказался подросток, который стащил с себя маску. Он стонал, изо рта у него текла кровь. Ей совсем не было жалко этого парня, и она была благодарна футболисту.
Они подростки, думает она, эти парни с оружием. Вовсе они не мужчины. Дебилы какие-то. Она не допустит, чтобы ее сына убили тупые, тупые подростки, распевающие песни.
Если они хотят поиграть, ну что ж, она тоже смотрит фильмы, и сама не прочь поиграть. И если она всего лишь персонаж, так проще действовать. Она высвобождает одну руку – другая по-прежнему теребит спутанные кудряшки сына – и шарит в траве в поисках куска бетона, который недавно бросила туда. Ее пальцы почти сразу натыкаются на него. Увесистый кусок с острыми краями помещается в ладони, как бейсбольный мяч. Она кладет его около себя и начинает шарить по земле, растопырив пальцы. Другой камень, больше первого, не умещается целиком в ладони.
Джоан чуть отклоняется в сторону, подвинув Линкольна вперед, чтобы можно было отвести руку назад. Не понимая, умно поступает или глупо, она сжимает камень в руке и, напрягая плечо, бросает его через задний забор вольера в сторону железнодорожных рельсов и окружающего их подлеска.
Она нарочно старается не задумываться о цели своих действий.
Раз. Два. Она отсчитывает секунды с застывшей в воздухе рукой, слыша, как камень ударился о ветки или листья. Звук громче, чем она ожидала, и не так далеко, как она рассчитывала, но камень определенно перескочил через вольер, приземлившись где-то рядом с рельсами. Он упал за много ярдов от парней, если они по-прежнему стоят у другого забора.
Интересно, догадались ли они, что кто-то бросил камень, чтобы отвлечь их внимание?
Очевидно, нет, потому что они, издав возбужденное хрюканье, послушно устремляются на звук, продираясь сквозь заросли ежевики, заполонившие нехоженые участки дорожек. Их поспешные шаги неуклюжи и неловки.
Она думает: вряд ли можно надеяться, что кто-нибудь из них сломает лодыжку.
Слыша, как они с хрустом продираются сквозь заросли, она достает телефон. Холодящий руку кусок пластика, ничего больше. Нет, больше. Телефон – причина того, что они сидят здесь, прячась от людей, которые с трудом перемещаются в темноте.
Другой звук – выстрелы. На этот раз он удивительно похож на звук пишущей машинки, на которой кто-то печатает очень медленно и твердо. Она даже не вздрагивает, не понимая, почему так осмелела. Вероятно, привыкла, и, похоже, они стреляют не в их сторону. К тому же у нее возникло желание действовать, а не просто волноваться.
Джоан делает медленный глубокий вдох. Дрожь прекратилась. Она спокойна, тверда и готова к осуществлению своей цели. Джоан проводит большим пальцем по телефону, экран загорается, и она со всей силы швыряет его над забором из сетки в сторону бамбуковых зарослей, где видела подстилку из сосновых игл. Вправо от того места, где стояли парни перед тем, как побежали за ее камнем. Конечно, не исключено, что парни увидят летящий по воздуху светящийся предмет, и не исключено, что телефон ударится о бетон и разобьется, но, более того, он сообщит, что его швырнули – удар будет очевиден, – и это разрушит все. Но она не станет больше беспомощно съеживаться. Она смотрит, как ее телефон, быстро вращаясь, летит, как некий обтекаемый аппарат, созданный именно для этой ситуации. Треска не слышно, только негромкий хлопок при приземлении, и она не уверена, услышали ли они.
– Что? – спрашивает один из них, и грубые ножищи, приминающие сорняки, замирают.
Они услышали этот звук. Это может быть хорошо или плохо, но это то, что она сделала, потянула их за ниточки, как они тянули за ниточки ее. Ей вдруг становится жарко.
Внутри Джоан копится какая-то энергия.
Отсюда ей виден экран телефона, яркой точкой светящийся через алмазные ячейки забора из сетки. У нее была достойная цель, хотя и не идеальная. Телефон лежит экраном вверх – так, как она надеялась, – на расстоянии несколько футов в зарослях бамбука. Экран освещает небольшой участок гладких стволов и трепещущих листьев.
– Там, – говорит один.
Она видит, как колеблются тени, когда они бегут по бетону, попадая в лучи света от фонаря на карнизе крыши корпуса приматов. Потом, миновав круг света, они склоняются над ее телефоном, и на миг их руки и лица становятся призрачными.
Один из них подносит телефон к лицу. Он чисто выбрит и светловолос, и он белый, как и предполагала Джоан. У него худое невыразительное лицо, и она пытается угадать: он ли обладатель тихого голоса и соответствует ли голосу его лицо?
Однако Джоан еще не все сделала.
Пока парень смотрит на экран, она отводит руку назад и, схватив второй камень, целится мимо парней, дальше вдоль дорожки, в направлении, противоположном рельсам. В сторону центральной части зоопарка с его выставками и вольерами. Сумей она вычертить план с брошенными ею предметами, они оказались бы на прямой линии, и эта линия привела бы обратно к тротуарам, душевым, скамейкам и столам – к заметным укрытиям, знакам и надписям. Она привела бы куда угодно, только не сюда.
Линкольн тихо ворчит, напуганный движением ее руки, а потом Джоан вновь бросает камень и слышит, как он ударяется во что-то твердое, но рыхлое. Почва, думает она.
– Они бегут, – произносит тихий высокий голос – он принадлежит парню, держащему телефон.
Должно быть, он отключил ее телефон, или засунул его в карман, или что-то еще, потому что свет исчез. Она слышит, как они топают по дорожке, гонясь за ее камнем, прочь от нее и Линкольна, но не слишком быстро, поскольку ни о чем не беспокоятся. Они кайфуют от этого.
То, что она сделала, – не такая уж хитрая вещь. Возможно, она видела нечто подобное при повторном показе фильма «Пугало и миссис Кинг», или в «Хищнике», или в любом другом шоу в формате экшен. Как странно представить себя перед телевизором на диване, с прижавшимся к ней Линкольном, посасывающим воду из бутылки, и его бесконечные вопросы, ведь он не в состоянии смотреть любую передачу хотя бы минуту, не задавая вопросов. Она убеждена, что эти парни видели миллион подобных шоу, но догадывается, что их самоуверенность и глупость не позволили им поразмыслить над увиденным.
Их шаги все еще различимы. Ритмичные и легкие шаги по бетону.
Линкольн вел себя так тихо, вдруг понимает она. Если бы не боль в руке и тяжесть на бедре, она почти забыла бы о нем.
– Детка? – окликает она его.
Он лишь придвигается к ней ближе, даже не поднимая головы.
* * *
Они с Марком бегут плечом к плечу, шумно дыша в унисон. Пусть они не успели заметить, кто бросил телефон, их быстрый бег все сглаживает. Робби никогда не чувствовал себя таким ловким, как этим вечером. Никогда не воспринимал свое тело мощным инструментом, готовым выполнить что угодно. На их пути стоит металлическая скамья без спинки, проще было бы ее обойти, но он перепрыгивает через нее, с шумом наступив ногой на металл. Когда он бежит, то перестает быть Робби, иногда точно так же действует на него винтовка в руке, но не всегда. Окружающая их темнота, вспышки света над головой и большие листья, колеблемые ветром, – все это кажется таким справедливым. К этому он всегда стремился – к справедливости.
Тогда с кабанами он почувствовал себя обиженным, и то лишь потому, что забыл – он больше не Робби. Только Робби может ощущать себя таким потерянным, каким-то обрубком без рук, ног и мозгов.
– Сюда, – шепчет Марк, поворачивая налево к жирафам.
Он не удосуживается подождать и посмотреть, идет ли за ним Робби. Робби всегда идет следом.
Марк перешел на трусцу. Из тощей шеи выпирает кадык, голова подскакивает вверх-вниз, и никогда этот парень в большей степени не напоминал гидроцефала с синдромом качающейся головы. Со времени учебы в средних классах он не набрал и десяти фунтов. Мать Робби, посмеиваясь, называла его доходягой. Но Робби-то знал, что она смеется, потому что не понимает. Вот тогда Робби впервые и пригласил Марка к ним домой. Марк, заметив на полке диски DVD, схватил один с воплем «Затаившиеся?!». Так вопить мог бы парень, нашедший порно. Потом Марк, даже не спросив, взял пульт. Они смотрели первую сцену – ту, что Робби видел уже раз десять: экран заполнен тьмой, а потом в черноте медленно появляются крошечные точки света.
Как будто смотришь в космос, но затем камера отъезжает, и ты фактически заглядываешь в дупло в стволе дерева. Точки света – это какие-то насекомые вроде личинок или термитов, только они светятся, а потом перед тобой огромное дерево и еще другие деревья, и ты понимаешь, что это джунгли, но они не похожи на обычные джунгли. Неба никогда не видно. Деревья такие толстые и огромные, что затеняют все вокруг, а листья вырастают до размера взрослого человека. Эти гигантские листья хлопают по шлемам и обвиваются вокруг винтовок, и Робби всегда думал, что в таком лесу будет трудно дышать, хотя деревья должны вырабатывать кислород, по крайней мере земные деревья. И это на самом деле самое классное в том фильме – ты так и не понимаешь, Земля это или другая планета. Хотя там действуют человеческие особи, но по ночам листья светятся, как жвачка «Экстра гам», а существа, на которых охотятся мужчины, всегда имеют на голове украшения – перья, дреды и все такое.
– Ты знаешь, что мы ее потеряли, верно? – спрашивает Марк, останавливаясь после каждой пары слов, чтобы отдышаться. Он никогда не отличался спортивностью. – Мы не знаем, где она.
Робби все еще думает о том фильме и не сразу приходит в себя.
– Она? – переспрашивает он.
– Женщина, которая обронила телефон.
– Откуда ты знаешь, что это она?
Марк поднимает телефон, поворачивая его крышкой к свету. Робби различает какое-то неясное изображение.
– Фотография ее детеныша, – говорит Марк. – Должно быть, женщина.
Робби в этом не уверен, но спорить бесполезно.
– Тогда зачем мы продолжаем бежать? – спрашивает он.
Марк поднимает руку, после чего раздается звон разбившегося о тротуар телефона, и звук этот прекрасен. В следующую секунду они перепрыгивают через обломки экрана, корпуса и содержимого.
– Охота продолжается, – говорит Марк. – Мы – порядок. Мы – надежда.
Робби понимает, что Марк тоже это чувствует. Что они оставили все прочее за воротами, на парковке. И здесь у них нет истории.
«Старбакс» – восемь месяцев. «Эпплбиз» – четыре месяца. «Бадс бургерс» – пять месяцев. Господи, он был готов уйти из этого кафе, потому что там было полно по-настоящему жирных фриков, как будто в дверь пускали только толстых людей с животами, обвислыми, как тесто, выпирающее из формы для пирога. У него возникало желание взять нож, отрезать это тесто и посмотреть, как будет выглядеть бедняга без лишнего жира.
Потом был букинистический магазин, «Чик-фил-Эй» и «Сирс» – два месяца, а теперь аптека «Си-Ви-Эс», месяца не прошло.
Его дурацкий босс много из себя воображает, потому что он менеджер аптеки. Ну да, тебе сорок, и ты руководишь аптекой – ну прямо решаешь мировые проблемы. Луиза Брансон, он уверен, совсем неплохо провела с ним время в боулинге. Но когда он позвонил ей на следующий вечер, она, разговаривая с ним, даже не выключила телик. Она сказала: мать говорит, мол, надо не на свиданки бегать, а заниматься учебой, но он-то знает, что мать просто не хочет, чтобы Луиза с ним встречалась. Потому что так считают родители, особенно мать Луизы. У нее глаза навыкате, как у лягушки, и за всю жизнь она ни дня не проработала. Одна из тех ужасных женщин, и, наверное, она такая с рождения, и родителям следовало утопить ее, как котенка. А до этого он встречался с Анжелой Уилард, которая поначалу была милой и робкой, но потом оказалась тупой шлюхой. Ему следовало догадаться с самого начала.
«Шлюха», «милая» и «робкая» – эти слова его подошвы вколачивают в тротуар.
Его восьмилетняя кузина спросила как-то, платит ли Робби своей матери арендную плату. Интересно, какие разговоры она услышала от родителей, если спрашивает такое? Родственники с той стороны называют себя христианами, но им нравится терзать людей. Они противные, недалекие люди. Так много неприятных людей – целый свет, – но никто не замечает грубость друг друга, нет-нет, все только и думают, что Робби неумеха, лентяй, а сами такие жалкие и даже этого не понимают.
Все они стерты из памяти. Всё это стерто.
Мы – порядок. Мы – надежда.
Мы – порядок. Мы – надежда.
Этот припев звучит громче, пока камера отъезжает, и ритм его напоминает ритм строевой солдатской песни, когда на последнем слове «надежда» голоса повышаются. Ненадолго экран заполняют только деревья, а потом появляется бегущая фигура. За ней гонится темноволосый солдат в ладно сидящей на нем форме, и тебе почти становится жалко это призрачное существо – тонкое и голое, если не считать огромный головной убор. Потом, едва солдат хватает это существо за руку – это рука или что-то странное? – другая его рука дотрагивается до лица солдата, и солдат замирает на месте, затем выгибается назад и валится на землю.
Подходят другие солдаты – ровной шеренгой, шагая в ногу, – и существо ныряет в кусты. Ты впервые видишь лейтенанта Хардинга. Он, не говоря ни слова, поднимает руку, потом подходит к кусту и вытаскивает оттуда за ногу брыкающееся и невнятно лопочущее существо. Рукой в перчатке он держит его за запястья, не давая прикоснуться к себе ядовитым конечностям. Он с улыбкой напевает: «Ты пропала, но теперь нашлась» – и с этого момента, глядя в лицо Хардинга, когда он смыкает пальцы вокруг ее шеи, можно догадаться, что это она, потому что у нее есть груди, хотя и прикрытые каким-то доспехом из багряного металла. Ты понимаешь, что эти существа дурные, а солдаты хорошие. И когда лейтенант сворачивает ей шею, ты радуешься.
– Обратно к озеру, – говорит Марк, подтягивая джинсы. – Замкнем круг.
– Ладно, – отвечает Робби.
– Тише, – предупреждает Марк.
Ты радуешься, когда Хардинг осознает, что первоначальная миссия сдерживания этих существ, сквобов, провалилась. Сдерживания недостаточно. Ибо сквобы начинают выходить из джунглей и проникать в безымянный город, и лейтенант Хардинг предполагает, что эти существа могут легко уничтожить все население. Поэтому надо уничтожить их самих.
Сквобы говорят, что не хотят ничего дурного. Они посылают в солдатский лагерь делегацию из трех лепечущих существ, и один из них выходит вперед – ветер раздувает перья и дреды у него на голове. Они твердят одно слово: мир, мир, мир, как будто других не знают. И поднимают руки вверх, но их руки – это оружие, не так ли? Они убивают прикосновением.
Хардинг приносит с собой длинную иглу, а ночью у костра вынимает эту иглу и принимается вскрывать волдыри на ступнях, натертых сапогами. Он втыкает иглу в свою пупырчатую кожу, болячки вскрываются, и на землю вытекает гной. Не меняя выражения лица, он надевает сапоги. Позже он снова и снова вонзает иглу в тощую шею сквоба, сквоб пронзительно кричит, и по его лицу текут слезы. Слезы, падающие на землю, очень напоминают гной.
На вид сквобы такие слабые. Это в них бесит Робби больше всего. Хардинг умнее и сильнее, и в нем нет слабости. Этим следует восхищаться, так ведь? Парень, не совершающий ошибок? А если все же совершит, никто не заметит, и в этом настоящий талант, верно?
Когда его увольняли из «Си-Ви-Эс», он сказал, что опоздал, потому что снова не услышал будильник. И что ему было делать? Босс, с его козлиной бородкой, самомнением и узкими джинсами, сказал, что будильник Робби – не его проблема. Может быть, он прав. Может быть, опоздания – проблема Робби. Но что поделаешь? Как можно исправить что-то уже случившееся? Он что, должен изобрести машину времени, вернуться назад и заставить себя проснуться? За свою жизнь он так и не понял, почему его надо винить за вещи, которые он не в силах контролировать. Почему его постоянно наказывают за такие вещи? Он не виноват, что так крепко спит. Он не виноват, что забыл взглянуть на спидометр и случайно разогнался в школьной зоне до скорости пятьдесят миль в час. Он не виноват, что ошибся при распечатке заказа и на стол подали бургеры с беконом вместо бургеров с черными бобами. Он не нарочно. Даже если люди правы и он действительно ленивый, грубый или эгоистичный, что поделаешь, что есть, то есть, верно? Генетика. Это не его выбор. Но это не имеет значения, да? Никому и дела нет до того, что он старается!
Но нет, это Робби старается. А он не Робби. Он не тот бестолковый парень, который сегодня ушел из дому.
Ты слепой, что ли, пупсик?
Иногда он думает, что сквобы – умнейшие из существующих злодеев. У них ярко-розовая кровь, и невозможно понять: дело тут в необычном освещении или она у них нечеловеческая. Кровь разбрызгивается и капает на мох. Это напоминает ему задания по рисованию, которые он выполнял в каникулярной библейской школе.
«Это цвет того антибиотика, – сказал Марк в тот первый день. – Знаешь амоксициллин? Ты его когда-нибудь принимал?»
И Робби подумал: да, в самом деле, кровь такого же цвета, как амоксициллин. Он помнил вкус этого сиропа – сладкого, густого и приятного. Он сказал Марку, что ему нравилось это лекарство.
«Нравилось?» – спросил тогда Марк и добавил, что не встречал никого, кто не считал бы его противным. Марк рассказал, что в детстве он ночью тайком спускался вниз и выпивал по целой бутылочке.
Уже давно Робби не чувствовал себя таким же, как кто-то другой.
Некоторое время спустя, ничего не говоря и не глядя на них, его мать принесла им миску «Доритос», и Робби стало не по себе, поскольку он думал, она понимает, что он не хочет, чтобы она напоминала Марку о своем существовании. Он не знал, обидело ли ее это. Он подумал: может быть, она пытается вызвать у него чувство вины? А потом он заметил, что она оглядывается через плечо, и он до сих пор помнит, как она улыбалась тогда. Она была так счастлива, что он нашел друга. У нее словно гора с плеч свалилась.
По временам он почти ненавидит ее. И ненавидит за это себя, и это уже кое-что.
– Отметка о прибытии, – отдуваясь, говорит Марк и переходит на ходьбу.
Робби бросает взгляд на свои часы, кажущиеся неуместными на его запястье, но они все хотели часы.
– Угу.
– Если только мы еще не прибыли, – говорит Марк.
Они уже почти подошли к озеру. Робби видит вспыхивающие фонарики, освещающие едва различимые украшения к Хеллоуину.
– Не прибыли, – отвечает Робби.
– Все, что нам нужно сделать, – в сотый раз повторяет Марк, – это перелезть через забор. Обследуем ближайшие тропы, найдем темное место и выскочим на Черри-стрит или дальше на Хейверс. Вернемся к моей машине – и были таковы. Никто ничего не узнает.
Вот каков Марк в двух словах – ничего не хочет усложнять. Не желает платить по счету. Если на уроке проводится письменная работа, он не напишет ни странички, объясняя преподавателю, что у него болит голова, а потом ноет, что получил «ноль». А вот Робби просиживает в компьютерном классе до ночи, но делает лишь пару страниц и получает пятьдесят или шестьдесят баллов, и они оба в пролете. Так кто же на самом деле умнее?
– А что мы сделаем потом? – спрашивает Робби. – Поедем в Перу и будем вечно жить на побережье?
– В Перу нет побережья, тупица, – отвечает Марк. – Все, что угодно. Поедем домой и съедим пиццу. Это не имеет никакого смысла, Робби. Для него все окончится одинаково. Он получит то, что хочет. Мы сделали то, что обещали сделать.
Они сходят с бетонной дорожки, ступая по траве и сосновым иглам. Робби замечает в кустах какое-то движение, но это всего лишь утка, разгуливающая по ту сторону забора из сетки.
– Нет, – говорит Робби. – Я уже сказал тебе «нет».
Поскольку Робби никогда не спорит, Марк не знает, как убедить его. Из него вышел бы паршивый продавец – он просто повторяет одно и то же.
– Мы можем уйти, – подходя ближе, говорит Марк. – А завтра утром проснемся дома.
В детстве Робби как-то смотрел мультик о роботе или о мышке, а может быть, о собаке. В мультике все эти персонажи могли выглядеть очень похожими. Но когда на экране появился этот робото-мыше-пес, какой-то зычный голос прокричал: «А теперь звезда шоу!»
Робби слышит в голове этот голос, когда видит Дестина, человека, из-за которого все и произошло. Человека, разглядевшего в них нечто особенное. Звезд шоу. Робби собирается завершить это так, как обещал Дестину.
Концовка действительно самая важная часть.
Робби смотрит на огни, сияющие на озере. Он улыбается.
18:40
Я хочу есть, – произносит Линкольн.
Джоан с трудом разбирает его слова. Он давно уже ничего не говорил. Они сидели молча, Линкольн прислонился к ее груди. Слишком темно, и играть в человечков невозможно.
Слишком темно для любых вещей.
Она до нелепого радуется его голосу, хотя жалеет, что он не сказал что-то другое.
– Дай посмотрю, – говорит она, хотя и уверена, что у нее ничего нет.
Сначала ощупав карманы, она принимается шарить в сумке.
– Итак, – начинает она, – как, по-твоему, тренируется Бэтмен? Чтобы стать быстрее и сильнее? – (Линкольн ничего не отвечает.) – Думаю, он толкает штангу.
Джоан нащупывает обломки цветных мелков и удивляется, почему до сих пор не выбросила этот мусор.
– Наверное, он крутит хулахуп, – в отчаянии произносит она. – Или занимается балетом. – Наконец она вытаскивает помятый мини-сникерс и, развернув, протягивает ему. – Вот шоколадный батончик, детка. Сникерс.