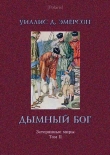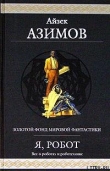Текст книги "Я — Илайджа Траш"
Автор книги: Джеймс Парди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Иди сюда, мой херувимчик, – сказала Миллисент Де Фрейн Райскому Птенчику, когда он нерешительно, но отнюдь не пугливо вошел в ее гостевую. Она взяла мальчика за руку.
– Ты похож на звездную корону рядом с этим черным ягуаром – от его вкрадчивых движений меня бросает в дрожь. Мой рот переполняется мускусом от его поцелуев… Поверишь ли, мой самый дорогой подопечный, некогда я видела мир в безоблачно-голубом свете, который замечаю и в твоих глазах. Я тоже кое-чего ждала, но, если позволишь мне немного откровенности, твоя голубизна уже затуманивается. Вини в этом меня, если хочешь. Я готова к обвинениям. Сядь на табуретку, воробушек, и позволь мне потеребить твои кудряшки. Ты боишься меня, но я не причиню тебе вреда, – она придвинула его поближе к коленям, и он уронил на них голову, словно отрубленную невидимым мечом.
– У меня есть то, что я сочла в общем и целом лучше любви, Птенчик. Разумеется, ты хочешь любви и поэтому намерен бросить меня. Я знала, что черная бестия охотится за твоим медком. Я ничего не запрещаю. Меня еще называют самой могущественной тираншей на свете, и если бы я не копила энергию, то рассмеялась бы над этим. Люди делают то, что они делают, и я им не мешаю. Разумеется, я могу немного вспылить, отдаю приказы и веду себя властно, но разве обладание пятидесятимиллионным капиталом в этом огромном городе не дает мне права на кое-какие капризы? Тем временем ты сносишь мои ласки, бедный юнец. Я, конечно, знаю, что ты планируешь побег, – когда она сказала это, Птенчик подальше отвел голову и заглянул ей в глаза. – В этом вопрошающем взоре – все голубые небеса, которые когда-либо висели над этой печальной землей, – она несколько раз поцеловала его в лоб и щеки. – Сколько вкусов и ароматов у человеческого лица! Столько же, сколько на свете цветов и трав! Но ты отвергаешь меня. Разве я ругаю тебя за это? Разумеется, нет. Разве я не даю черному орлу и этому старому хрычу – твоему прадедушке – любить тебя, сколько им влезет?.. Зная уже почти сто лет, что под этим тусклым солнцем нет никакой любви, я никогда не отрицала ее у тех, кто заключал меня в самые жаркие объятья. Как ты знаешь, я привезла тебя сюда по многим причинам, – с этими словами она достала из внутреннего кармана длинную золотую цепочку и повесила ее мальчику на шею. Он чуть пошевелился, потрогал цепочку, но не проявил к ней больше никакого интереса. – И ни одну из этих причин общество не назвало бы приличной: использование тебя вместо приманки и так далее. На самом деле, все это – побудительные мотивы, но главный мотив в том, что мне просто захотелось вас обоих, а ему захотелось тебя больше, чем любого другого человека – живого, мертвого или еще не рожденного. Да, ты безропотно сносишь мои ласки, дорогой. И если ты пойдешь к Илайдже (а я знаю, что ты собираешься это сделать), у тебя останется лишь любовь. Но позволь мне вкратце описать тебе его жизнь. С самого рождения и по сегодняшний день ты знал лишь гигиену, чистоту, изысканные яства, лилейные простыни, развлечения и катание в парке. Разумеется, все были тебе безразличны, Господь отметил тебя печатью вечной немоты, и тебе, любимый мой бедняжка, было уютнее с птицами, нежели с людьми. Но когда тебя перевезет к Миму чернокожий мемуарист (живущий под неминуемой угрозой смертного приговора), ты попадешь в мир грязи, неразберихи и чрезмерных эмоциональных запросов, на извозчичий двор с тараканами, крысами, умирающими от голода голубями, мотыльками и пауками, которые будут тебя жалить. Но ты все равно уйдешь, ведь здесь ничто не волнует твое кроткое птичье сердечко. Поэтому ни одна дверь не будет заперта на засов, и ты сбежишь со своим чернокожим любовником. Иди, и черт с тобой, ведь я никогда не протяну длань закона, дабы вернуть тебя в это райское совершенство. Но возрадуйся, ангел мой, тому, что ты не можешь говорить. В твоем недуге – твое блаженство. Из-за умения говорить человек пал ниже прочих тварей, и это самая пагубная ошибка Господа, из которой проистекают все прочие. Если бы зверь не заговорил, здесь было бы светлее и зеленее, а история – этот залатанный, искусственный, второсортный и скучный кошмар, терзающий мозг даже мне, – так никогда бы и не началась. По счастливой случайности, результат такого беспорядочного умножения уже подходит к своему бесславному концу.
Он уснул подле нее, и она без особого труда уложила его себе на колени. После нескольких небрежных движений ее унизанных драгоценностями пальцев его нижняя одежда упала, обнажив шарик полового органа, который она, залюбовавшись, поцеловала в знак скорого прощанья и признания его ухода.
Илайджа Траш, в одних бусах, спускавшихся, правда, до самых коленных чашечек, произносил нараспев утреннюю молитву к Аполлону (он поклонялся всем основным греческим божествам) и даже не подал вида, что узнал меня, когда я встал перед ним. Его глаза казались закрытыми, хоть и были широко распахнуты, и в свечении крошечной лампочки он и впрямь выглядел так, как, помнится, кто-то его описывал: высеченным из янтаря. Он ненадолго вышел из задумчивости, ткнул в меня изогнутой рукой, а затем махнул ею вниз, и я упал на колени, повинуясь его приказу. Я простоял так добрую четверть часа, пока он все стонал, вздыхал, вздымал руки и ронял голову на грудь. Молитвы меня всегда сильно утомляли, но я никогда прежде не догадывался, какие слабые у меня колени, ведь болели они теперь ужасно.
– Ты позаботился об этой матери всякого зла? – наконец прогремел он, закончив молиться.
– Я отбил у нее мальчика, – ответил я, предчувствуя недоброе.
– Чертова стерва, разумеется, знает о наших планах, – сказал он, подняв меня все же с пола, и я кивнул.
– Когда ты приведешь мальчика сюда? – спросил он, сложив ладони рупором перед губами.
– Когда пожелаете, Илайджа…
– Думаешь, у нас получится?… А потом, когда дело будет в шляпе, куда мы поспешим?
– Мы можем отправиться куда угодно, – сказал я, и, услыхав это, он разразился целым потоком смеющихся нот – от самого нижнего до очень высокого регистра. Тут я вспомнил, что он еще и певец.
– Она только что прислала мне вот это, – проговорил он почти шепотом, разворачивая еще одну желтую телеграмму, которую затем сунул мне в руку. Текст гласил:
ВСЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШАТСЯ ЕСЛИ ТЫ СОГЛАСИШЬСЯ ВЗЯТЬ МЕНЯ ЖЕНЫ. РАЙСКИЙ ПТЕНЧИК И СКОЛЬКО УГОДНО ДРУГИХ ТВОИХ ЛЮБИМЦЕВ ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ НАШЕМ ДОМЕ. НО МЫ ДОЛЖНЫ ПОЖЕНИТЬСЯ! ЭТОГО ТРЕБУЕТ ВРЕМЯ. ЕСЛИ ТЫ ОТКАЖЕШЬСЯ МНЕ ОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ СТЕРЕТЬ ТЕБЯ ПОРОШОК. ОДУМАЙСЯ ИЛИ ГОТОВЬСЯ К ЗАБВЕНИЮ.
МИЛЛИСЕНТ ДЕ ФРЕЙН
Настала моя очередь смеяться, но у меня был довольно ограниченный диапазон нот.
Придя в привычную ярость, Илайджа вырвал телеграмму у меня из рук, прошагал к себе в гардеробную и вмиг вышел обратно в самом, наверное, замысловатом костюме, который я до этого видел, – полностью сшитом из лоскутков.
– Придурочный клоун, ты таращишься, как персонаж немого фильма, – упрекнул он меня.
– Как вы собираетесь ответить на это сообщение? – поинтересовался я, пытаясь подавить обиду и гнев, вызванные его словами.
– Ты считаешь, что такой выдающийся человек, как я, отвечает на подобные просьбы старой деклассированной франтихи вроде нее? Странно, что телеграф не выдал ордер на ее арест. Разумеется, тамошние чиновники не знакомы с фразеологией, не говоря уж о языке, и я уверен, что бабуины могли бы передавать сообщения не хуже. Ведь более полувека я получал от нее телеграммы почти ежедневно. Они перестали приходить лишь раз – сорок лет назад, когда у нее была рожа, хоть я подозреваю, что на самом деле это был целый букет различных венерических заболеваний: незадолго до этого она съездила на Мадагаскар, где перепробовала сперму целого племени мальчиков-дикарей, живущих в горах. По возвращении она выглядела необычайно молодо, но заплатила за свою миграцию десятилетней болезнью. Меня огорчает одна простая вещь (и я даже удивляюсь, что, в конце концов, сам не сошел с ума): неужели для того, чтобы чувствовать себя живым, мне требуются ее навязчивая страсть и жестокость?… Ты слушаешь меня, Альберт? В последнее время ты так безразличен. Теперь будь повнимательнее. Разве я (слышишь меня, Альберт?), разве я – это на самом деле она?
Но мысль о собственном неловком положении, наряду с головной болью, охватила меня с такой силой, что я испугался, как бы мне тоже не лишиться рассудка. Физическая боль была убийственна: я опустил голову Миму на плечо и прижался к нему.
– Дорогой Альберт, неужели в действительности я – Миллисент Де Фрейн?
– Я видел вас вместе, – ответил я. – Значит, вы должны быть разными людьми. – Затем, без паузы, я сказал: – Мой дорогой Илайджа, я схожу с ума…
– Выброси эти мысли из головы: ты слишком молод для подлинного безумия, да и такой первобытный человек, как ты, просто не в состоянии по-настоящему помешаться. К тому же, Альберт, не забывай, что ты – похититель Райского Птенчика. Как только привезешь его сегодня вечером, нам обоим полегчает. Я говорил тебе, – по крайней мере, мне так кажется, – что буду всегда о тебе заботиться, если ты совершишь это похищение. Недавно я познакомился с новым меценатом, который обещает снабжать меня огромными суммами… Альберт, посмотри на меня…
Мне было ужасно плохо. Я упал к его ногам, с моих губ и языка на его босые ступни стекала пена, испещренная кровью. В чувства меня привело лишь его собственное «сумасшедшее» спокойствие.
– Тебе совершенно нечего бояться, добрый мой ангел, – сказал он. – Я нежно тебя люблю. Возможно, не той образцовой любовью, какую питаю к Райскому Птенчику, но – ах! – всем сердцем, Альберт…
– Одно существо – крылатое и прекрасное – обладает надо мной полной властью, дорогой Илайджа, – я попытался открыть ему правду. – Это и есть моя привычка.
– Да-да, он владеет всеми нами, но ты будешь спасен, – сказал он, осыпав меня знаками любви, и мое безумие внезапно прошло. Я уселся рядом, и мы выпили вместе по чашке шоколада.
Стоя перед ее кремовой тринадцатифутовой дверью, я слышал отчасти знакомый голос пианиста, Юджина Белами, обращавшегося к Миллисент.
– Неужели вы не можете меня пощадить? Почему я должен действовать против того, кого люблю?
– Пощадить тебя? – Де Фрейн возразила так мощно, что дверь передо мной бешено затряслась. – Скажи мне, Юджин, ты когда-нибудь слышал, чтобы я щадила себя? Сейчас же ответь и прекрати это мерзкое нытье!
– Откуда мне знать, щадили вы себя или нет, чертова фанфаронка! – парировал Юджин. Меня так изумила его дерзость, что я убрал руку с дверной ручки.
После паузы я услышал, как он заговорил вновь:
– Простите меня, мисс Де Фрейн, пожалуйста, прошу вас. Я просто вышел из себя.
– Как я уже говорила, – начала она сдержанным рассудительным тоном оскорбленной добрячки, – я очень обиделась, когда ты сказал мне прямо в лицо, что предпочитаешь Мима. Ты же знаешь, где тебе намазывают маслом хлеб – вовсе не в «Садах Арктура»… Но вернемся к нашему спору. Я просто прошу тебя на время предать Мима. После этого он станет моим, простит тебя (ты, конечно, об этом знаешь), и ты вернешься в прежнее свое положение. Ты – единственный из оставшихся, кто способен обмануть его так, как мне это необходимо…
– Нет, нет! – закричал Юджин.
Я услышал несколько пощечин подряд, а затем плач Юджина.
– Мое терпение лопнуло, – заорала она. Я услышал звон льда о стекло и громкие глотки. – Либо ты предашь его по моей методе, дорогой Юджин, – она остановилась на миг, чтобы еще немного отпить, – либо клянусь, что выдам тебя иммиграционной службе…
Не в силах больше слушать, как она запугивает Юджина, я поспешил прочь от двери, как вдруг услыхал крик Миллисент:
– Кто там подслушивает за дверью, эй!.. Я сказала, кто там рыщет? Назовите себя!
В смятении я пошел по коридору не в ту сторону и, решив из-за этой неразберихи, что дверь прямо передо мной ведет к выходу, шагнул вместо этого в огромную комнату, которой никогда раньше не видел, и, к своему изумлению, увидел восемь полицейских в синих мундирах, сидевших за большим дубовым столом и игравших в карты. Они даже не подняли голов. Я мгновенно подошел к ним и уселся на полированный табурет. Мое появление едва ли привлекло хоть капельку их внимания, и, окинув взглядом самого себя, я заметил, что и впрямь одет в униформу домашнего слуги, но вскоре забыл о них, услышав все вновь – отчетливо, будто через трубочку: усиливающийся голос Миллисент и жалобные мольбы Юджина о пощаде.
– Если ты боишься Пеггса-мемуариста, мне стыдно за тебя, – слова Миллисент звучали так близко, словно она прижимала рот к моему уху, и я почти чувствовал поток выдыхаемого воздуха, точь-в-точь как в прошлые времена – сидя у ее ног. – Когда флаги приспущены (он чернокожий, и значит, они приспущены всегда), когда имя ему скорбь, а жилище – преисподняя, он сделает для тебя все, если сочтет, что ты можешь облегчить его страдания хоть на долю секунды… Знаю, ты влюбился в него – я пошла на этот риск, наняв сей образчик непревзойденной, хоть и слегка стареющей физической красоты… Но неужели ты не понимаешь: если он предает Илайджу, ты тоже предаешь его? Я не прошу тебя заколоть его ножом – во всяком случае, пока. Убей его каким-нибудь другим способом, чтобы он весь истек кровью…
В эту минуту самый молодой из полицейских, с зубами из рекламы зубной пасты, подмигнул мне и передал одну карту, которая, разумеется, оказалась, пятеркой пик. Я запихнул ее в носок.
– Какой только шум поднимает наш народ вокруг Господа нашего, распятого на кресте, – вновь зазвучало энергичное контральто Миллисент. – Однако Его страдания имели начало и конец, да и в любом случае все было предрешено. Но задумайся над моим случаем… – Тот же полицейский подтолкнул меня локтем и передал другую карту, на сей раз двойку бубен, которую я потихоньку засунул за отворот штанины. – К тому же у моей Голгофы не было ни начала, ни конца, и я уже начинаю опасаться, что она продлится до скончания века…
Я встал, тяжело дыша, но полицейский потянул меня вниз, точно шафер, не дающий участнику уйти, пока не кончится служба.
– И не забудь, что Черныш похитит Птенчика завтра ночью – будь хоть полнолуние, хоть ураган… Но перед тем как выйти отсюда, ради Бога вытри лицо, иначе все вокруг поймут, что ты ревел.
Я уже двинулся без особых церемоний к двери, через которую вошел, как вдруг услышал голос полицейского с картами:
– Выходя из комнаты, Альберт, вы должны извиниться.
И все полицейские за столом рассмеялись, но я застал их врасплох, когда начал кланяться так низко, как не кланялся ни один чернокожий, черномазый или белый, находившийся у них под арестом: ведь я хорошо изучил и досконально освоил пантомимический репертуар Мима, точно был лучшим его учеником.
Все присутствующие копы встретили мое выступление бурной овацией, а я продолжал угодливо кланяться, пока не добрался до двери, а затем быстро закрыл ее за собой.
– Львы! Пеликаны! Слоновий формат! – заорал я, благополучно дойдя до помещения для прислуги, и Нора застыла с каменным лицом, как только меня охватил припадок.
Я готов был смириться со всем остальным – опасностью, деньгами, унижением и ненавистью к этому огромному дому, где я служил штатным мемуаристом, но разговорный язык, уже становившийся моим, просто сводил меня с ума.
– Я слишком мелкая пешка, и мне все равно, что случится со мной теперь, Нора… Принеси мне вина, слышишь, огромную-преогромную бутыль и, черт возьми, подбавь газу в свою жирную белую задницу. Перед тем, как похитить Птенчика, я выпью целое море вина, а не то эти легавые ввосьмером выпустят мне кишки… Копуша из копуш! – завизжал я на Нору, когда она выбежала по ступенькам из подвала с бутылкой, а затем откупорила ее и налила мне бокал.
– Кругом подводные камни, как сказала бы твоя хозяйка, Нора, но запомни хорошенько, что это сказал тебе я.
И, улегшись на пол и полностью расстегнувшись, я стал медленно лить вино себе на нёбо тонкой струйкой, по капле, постепенно уменьшая этот непрерывный поток.
– Мой единственный ангел, не считая еще одного, и дражайший мой дорогуша, – обратился я к Райскому Птенчику, который лежал без сна на своей раскладушечке, крепко подпирая нос большим пальцем, со слегка подсохшими после плача глазами (он рыдал денно и нощно). – Ты готов вырваться вместе со мной через крышу на волю, как ты пообещал на последнем нашем свидании?
Он удрученно кивнул.
– Ты по-прежнему любишь и уважаешь меня, сиротинушка?
Он поднял голову и жалобно зачирикал.
Я поцеловал каждый розовый пальчик у него на ногах и пощекотал ему ребра, но он не проявил никакого интереса или расположения.
– Значит, мы убежим вместе, невзирая на то, любишь ты меня или нет… Теплая шуба, хорошо, – подытожил я, просмотрев его гардероб, – ботинки на меху, гм, и твой наряд шотландского горца. Да ты важная шишка, – сказал я, и тогда он чуть усмехнулся.
Внезапно послышался голос Миллисент из комнаты в конце коридора:
– Эй, скоты, вино, которое вы мне подали, отдает пробкой! Ох уж эти головоломщики! Я чуть не подавилась! Да будь я проклята, если не разукрашу вас синяками всех цветов радуги! Живо взяли ноги в руки, спустили свои мослы в подвал и принесли мне бутылку, откупоренную как следует! Да, и я снова отлуплю вас, если только захочу, ведь после того, что я про вас узнала, у вас больше нет никаких прав. Марш вниз, говорю!
– Пока ты не скажешь, что любишь меня, Птенчик, клянусь, я никуда не убегу с тобой, – прошептал я, когда старушка ненадолго угомонилась.
Сиротка жеманно поцеловал меня в щеку.
– Так-то лучше, Птенчик, – я зашнуровал ему ботинки.
– По-моему, ты все еще боишься, что тебе попадет за жженую пробку, – говорил я с закипающим гневом в голосе. И тогда Птенчик растрогал меня, обняв и зарыдав. – Тсс, – зашипел я, – пусть она теперь напьется и уснет, не поднимай шума… Так-то лучше, Птенчик, теперь мы уже совсем скоро будем счастливы, правда?
– В этом доме кутить могу лишь я, и разрази меня гром, если сегодня я снова почувствую привкус пробки на языке, – голос Миллисент вновь послышался совсем рядом. Я погасил ночник, и сиротка крепко сжал меня в объятиях.
– Наверное, эта чертова черномазая трясогузка снова продает свою сперму прислуге, – завопила она, а затем, надолго задержавшись перед нашей дверью, потащилась обратно в свою опочивальню.
– Мы скоро выберемся отсюда – и поминай, как звали, – теперь он крепко прижимался ко мне, как и подобает прижиматься к своему похитителю. – По городским крышам, понимаешь, домой к дедуле…
Тут вдруг у меня начался припадок, я рухнул на пол, носом пошла кровь, и я задрожал, словно увидел всадника на коне бледном. Птенчик сам включил свет и уставился на меня. Его розовое личико вовсе не было испуганным – я хочу сказать, при виде крови у него даже не зашевелились волосы. Я вытер на себе самые крупные пятна, а затем, посадив его на спину, открыл окно. Мы прыгнули на пожарную лестницу и поднялись по ней на крышу.
Там примерно в пятнадцати шагах стояли, как минимум, трое из восьми полицейских, игравших в карты.
– Стоять – или будем…
Потом мы услышали свист пуль – какой-то нереальный: так они свистят, когда целятся прямо в тебя, и я почувствовал, как что-то ужалило в локоть, но либо мы оказались слишком проворными, либо копы решили, что мы улизнули. Мы перепрыгивали одно здание за другим, а затем – вниз, вниз, вниз, на улицу и, сквозь мягкую снежную пелену, к Десятой авеню.
Меня слегка задело несколько полицейских пуль. Мы не могли идти к Миму, пока я не осмотрю себя, и к тому же Птенчик потерял на бегу свою обувь, штаны и прекрасную меховую шапку. Мы промокли до костей и дрожали. Нашли заброшенный товарный склад и спрятались в задней его части за какими-то тюками шерсти. Дежурные полицейские машины почти тотчас же проехали мимо, направив красные прожекторы прямо туда, где мы прятались, и сирены истошно завыли.
Раздевшись, я обнаружил лишь зарубки от пуль, но как только мое тело полностью обнажилось, мальчик заметил предмет, который я утаивал от людей. Ведь, даже раскрывая свое тело перед белыми, я всегда прятал свой секрет – источник моей привычки, о которой я должен сейчас кое-что рассказать, ибо моя история, да и жизнь подходят к концу…
Рана моя была открыта, мальчик засунул туда руку, и выступило немного гноя. Птенчик не почувствовал ни отвращения, ни тошноты, и, пока я жег спички одну за другой, мне в голову пришла выморочная мысль: если бы он убежал со мной вдвоем, порвал с Мимом и стал для меня всем, я мог бы отказаться от другой своей привязанности, если можно ее так назвать.
Ухватившись за слово привязанность и держа мальчика за руку, я поведал ему о невероятном – о мире моих «нумеров».
– Ты слышал об Aquila chrysaëtos – уже почти вымершем виде?.. – Тут я рассказал ему о птице, которую выкрал ночью с одного острова, вырастил, как свою собственную, и однажды ночью, когда она умирала… Подняв головы, мы посмотрели в лица двум полицейским…
Один сразу схватил Птенчика и убежал с ним, а второй начал надевать на меня наручники, но я оказался сильнее и мешал ему, поэтому он стал бить меня наручниками по губам.
Как бы смягчившись, он отпустил меня, и вдруг первый коп, забравший мальчика, пронзительно завопил:
– Малец убёг!
Как только он скрылся, я не спеша оделся, а затем прошагал в заднюю часть здания. Там текла река, похожая на смолу, луна не светила, сыпался мокрый снег, а вдалеке на пирсе, – прекрасно видимый, точно его озаряли десять лун, – стоял Райский Птенчик.
Я побежал, но силы покинули меня, и он зашагал мне навстречу, как будто настал солнечный день в парке, а мы не были беглецами или похитителями.
– Чего ты хочешь, Птенчик: убежать со мной или пойти к прадедушке?
Он нерешительно кивнул.
– Я спрашиваю: тебе нужен я или Мим? – снова пытал я, а затем опустился на колени, чтобы посмотреть на его губы и в глаза. – Я буду заботиться о тебе до последнего вздоха – сделаю тебя своей привычкой.
Он юно улыбнулся и осторожно взял меня за руку.
– Но я должен признаться тебе, от чего отказываюсь.
Я не могу больше оставаться с Aquila chrysaëtos – Золотым Орлом.
Он ждал, потупившись.
– Этот малый был до тебя самым поразительным чудом, которое я встречал, и единственным, кто мне доверял, но, в конце концов, он стал требовать слишком много. Я ежедневно тратил тысячи долларов на его импортное питание, однако он нуждался в свежем – от живого человека, понимаешь, и когда все другие средства кончились, мне пришлось стать его живой пищей, чтобы не потерять его, – я показал на свою рану. – Под солнцем нет другой такой же сильной боли, Птенчик, но удовольствие столь же огромно, ведь оно приравнивает меня к богам. О да, по высокому повелению Орла я становлюсь духом… Но если ты пойдешь со мной, мы бросим его… Поверь, лучше его убить, ведь кто станет, подобно мне, кормить его своей живой кровью? Обойди всю землю, и ты не найдешь второго Альберта Пеггса… Ты следишь за моим рассказом? Сейчас я поведал об этом первому человеку, когда-либо…
– Путешествия заканчиваются любовными свиданиями! – послышался хриплый голос, и я внезапно остановился. Нам даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять: это Мим, размахивая тяжелым красным фонарем, отобранным на улице у какого-то ремонтного мастера, жестом приглашал нас в запряженный лошадьми экипаж – вроде того, на который глазеют туристы, когда он проезжает через парк.
– Нельзя терять ни секунды, – прошептал он, как только подобрал нас и усадил рядом с собой в кабриолет. После того, как он сказал кучеру пару слов на парижском французском, мы стремглав пронеслись вдоль вереницы ожидающих патрульных машин, – ни один полицейский в каске не обратил на нас внимания, – а затем направились к бруклинским докам.
– Тише, ну тише, Альберт, – успокаивал меня Мим, пока я рыдал у него на руках, прислушиваясь к стуку лошадиных подков о мостовую. – После жизни с этой злодейкой с Пятой авеню у тебя внутри что-то лопнуло. Возможно, и впрямь воспаление мозга, откуда мне знать… Что касается орла, который тебя якобы трогал, – какой вздор! А насчет того, что он лакомился тобой, – ну где же это видано… Но даже если все твои небылицы – святая правда, неужели ты думаешь, что у нас есть время ехать в «нумера», где нас могут задержать стражи порядка? Поэтому забудь, что ты был любовником гигантской хищной птицы, переутомившееся мое золотко, – утешал он меня, взяв за руку. – И пожалуйста, не злоупотребляй моим добродушием и позволь человеку слегка постарше предостеречь тебя от использования некоторых модных нынче стимуляторов, с коими, как я заметил, ты хорошо знаком. Если ты слишком щедро осыпаешь своими милостями всякого, кто делает тебе самый лестный комплимент, это тоже изнашивает нервы. Послушай, не стимулируй себя сверх меры! Ты должен сохранять свою юность и приятную наружность, как это делаю я, ведь когда и то, и другое исчезнет, тебе придется трудиться в поте мышц твоих, которые, хотя они и посрамят ближнего твоего, все же не принесут тебе тех кругленьких сумм, что ты зарабатываешь сейчас своей неотразимостью… Нет, Альберт, не поедем мы в «нумера», дабы взглянуть на Клауд-Ленд. Это плоско…
Я засунул голову между его коленями и так отчаянно вскрикнул, что он начал слабеть и велел кучеру чуть притормозить.
– Как подумаю, какой чепухи ты нагородил этому бедному мальчику! – посетовал он и, отпихнув меня, начал гладить своего правнука по волосам. – Что́ подумает паренек после рассказов о том, как крылатая тварь лакомилась твоей сырой плотью!… Я вижу, ничего не остается, кроме как развернуться и поехать в «нумера», чтобы доказать хотя бы мальчику, что такого животного, которое ты себе вообразил, нет и никогда не было…
– О, благодарю вас, Илайджа, – сказал я, попытавшись схватить его за руку.
– Ты видишь, ну разумеется, видишь, что твое обаяние вынуждает меня поступать вопреки здравому смыслу, – проворчал он. – Промедление может стоить нам очень дорого – нас упекут за решетку на всю оставшуюся жизнь… Ничего не бойся, – успокоил он правнука, который вопрошающе посмотрел в лицо Илайдже. – Ничто не может нам навредить. Судьба – на нашей стороне…
Отдав кучеру подробные распоряжения, куда ехать, он продолжил:
– Знаешь ли ты, Альберт, что ради нашего сегодняшнего побега я заложил всю свою собственность – серебро, фарфор, старинные картины, кольца. И вот, когда свобода уже близка, мы возвращаемся в город из-за твоего каприза: чтобы доказать, что твой любовник – орел! Господи, мы все держим курс на психбольницу. Пеггс, ты разбил мне сердце… Тебе еще долго жить, прошу, научись когда-нибудь благодарности, если сможешь…
Экипаж остановился.
– Это здесь, Альберт Пеггс? – рявкнул он на меня, и я кивнул. – Очень хорошо, теперь все выходим, пожалуйста, и пойдем снимать позолоту с имбирного пряника… Мне хочется шлепать тебя, пока ты не заснешь…
Лифт в этот час не работал, – с наступлением темноты жильцам и впрямь запрещалось входить в здание, как я уже указывал раньше, – и нам пришлось пройти четыре лестничных марша. Ах, как дрожали в темноте мои пальцы, перебирая ключи! Я открыл первую дверь (мальчик и Мим следовали за мной по пятам), затем вторую – побольше, и наконец мы остановились перед фиолетовой дверкой, усеянной серебряными звездами. Я мог бы поклясться, что услышал шум его крыльев.
– Ты не спишь, милый? – проговорил я в древесные щели.
– Ну и фантазер, – пробормотал Мим. – Это уму непостижимо.
– Ответь мне, ведь ты знаешь, что я принадлежу тебе, – продолжил я и тихо всхлипнул. – Он ушел, Мим, ушел навсегда. Вы с Миллисент отняли у меня единственную радость.
– Во имя всего святого, к кому ты обращаешься сквозь эту щелочку? Нам нельзя терять ни минуты! Полиция – практически у ворот, ей приказано стрелять в нас без предупреждения, а ты тут грезишь и порешь чушь. Я не допущу этого, черт бы побрал твою душу! – Резко навалившись на дверь (что свидетельствовало о недюжинной силе), он выломал ее, и мы столкнулись… с пустотой.
– Здесь нет даже насеста, на котором могла бы сидеть твоя крылатая тварь, – и, обозрев пол, он продолжил: – Ни кучки помета и ни единого перышка – ты сумасшедший!
Но не успел он вымолвить это слово, как все мы одновременно заметили письмо, лежавшее на полу. Мим подобрал его.
– Я вскрою послание? – спросил он. – Наверняка, от нее, ведь она – величайшая анонимщица, когда-либо водившая пером по бумаге. Тем не менее, возможно, это станет для тебя, Альберт, неприятным сюрпризом…
Я был так потрясен утратой и пропажей своего Aquila chrysaëtos, известного hoi polloi, как сказала бы Миллисент, под именем Золотого Орла, что не мог даже дышать. Но, как это ни странно, зная о том, что он исчез, я не почувствовал приближения своего обычного припадка. Я был спокоен, хладнокровен и собран, но в мои жилы как бы проникла настоящая смерть. Теперь, когда он исчез, не было смысла жить дальше, и, словно для того, чтобы доказать наконец Миму, что он задел меня за живое, я снял драгоценности, покрывавшие мой живот, и обнажил область вокруг пупка, которая представляла одну сплошную рану.
– Зачем ты постоянно оголяешься? – злобно крикнул он, оторвавшись от письма. – Разве твои лучшие члены недостаточно восхвалены? Прошу тебя, не будь столь примитивен. Застегнись и послушай это письмо, которое написала нам наша старая блядь:
Я ВСЕГО ДВУХ ШАГАХ ДОРОГИЕ МОИ. КУДА БЫ НИ ЗАНЕС ВАС ДОРОЖНЫЙ ВЕТЕР ОН НЕПРЕМЕННО ПРИВЕДЕТ ВАС ТОЙ ЧТО ДЕЛАЕТ ВСЕ РАДИ ВАШЕГО БЛАГА. УСПОКОЙ АЛЬБЕРТА СВЯЗИ ЕГО УТРАТОЙ НО ПРЕДУПРЕДИ ЕГО: ОН НЕ МОЖЕТ ДЕЛИТЬ МОЮ ЛЮБОВЬ ДРУГИМ!
М. ДЕ Ф.
И вот мы вновь очутились в экипаже, а Мим торжествовал, сумев выставить меня одновременно дураком и лжецом, как вдруг с какой-то отдаленной улицы опять послышалась стрельба.
– Не обращай внимания на эти ружейные выстрелы, – посоветовал он, изучив мое лицо, – и наоборот, радуйся, что где-то там идет уличный бой, который отвлечет полицию от погони за нами. Что ж, Альберт, из-за твоего болезненного воображения мы опоздали на пароход, но мы – главные пассажиры, и нас обязаны подождать… Будь добр, поверни здесь налево, приятель, – окликнул он кучера, при этом его слюну отнесло ветром назад, и она забрызгала мне лицо. Я протянул руку к широкому шейному платку правнука и вытерся.
– Попрошу объяснить смысл этого изящного жеста, – сказал Мим и переключил все внимание на меня…
– Если хотите знать, вы заплевали меня своей мокротой, – резко ответил я.
– За все годы выступлений перед публикой четырех континентов, дорогой мемуарист, меня ни разу не обвиняли в столь омерзительном проступке… Изволь попросить у меня прощения, будь так любезен. Я настаиваю…