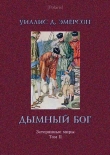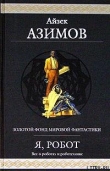Текст книги "Я — Илайджа Траш"
Автор книги: Джеймс Парди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Теперь мальчик высунулся, насколько мог, сквозь решетку и начал чмокать: звуки сильно напоминали воркование спаривающихся птиц.
– Если б ты только знал, как радостно мне слышать твою ответную песнь после стольких дней разлуки, Птенчик! – Илайджа придвинулся как можно ближе к решетке, и в эту минуту мальчик простер ладонь к вытянутой руке Мима.
– Ты любишь меня, мое самое дорогое существо? – вскрикнул Илайджа, но тут же выронил ладонь мальчика в невероятном волнении, ибо заметил перемену освещения в комнате Птенчика, и чья-то тяжелая тень придвинулась ближе к окну.
– Скажи, дитя мое, пока у нас осталось еще несколько кратких секунд, любишь ли ты меня?
Тогда Птенчик чмокнул два раза подряд (позже я узнал, что это означало да), но в ту же минуту большая тень, приблизившаяся к мальчику, увеличилась, заслонив все окно, и раздался резкий, громкий, протяжный грохот, с которым закрылась деревянная ставня, разлучившая влюбленных.
Илайджа упал на колени перед зарешеченным окном, напоминая испанского кавалера минувших времен, поющего серенаду своей возлюбленной, – только без гитары.
Я слишком увлекся этой сценой безысходной любви и, позабыв, что я – платный шпион, подошел к Илайдже и помог ему встать с тротуара.
Он тоже забыл, что я не должен был здесь находиться и что мое присутствие означало измену: он сердечно поздоровался со мной и прижал меня к себе, а мои слезы, смешавшись с каплями пота, потекли тоненькими ручейками по моим щекам.
– Ты узнал о единственной великой любви всей моей жизни, Альберт, – сказал он, как только мы отошли от «тюрьмы», – и ирония этой ситуации, ну и разумеется, всей моей жизни в том, что я не могу выразить свою любовь, а вынужден стоять здесь перед зарешеченным окном, подобно отщепенцу, валяясь в грязи. Я знаю, что они дурно обращаются с ребенком, ведь он с каждым днем все бледнее.
– Он немой, Альберт, – продолжил Мим, затем остановился и посмотрел мне прямо в глаза. – Мой любимый правнук не может произнести ни единого слова. Но он знает и понимает все, что я говорю ему. Он смышленый ребенок и чувствует, что я люблю его всем сердцем.
Повернувшись затем к окну, он погрозил крепко сжатым мускулистым кулаком табличке с надписью:
ПИЩЕВОЙ ФОНД
– Они давным-давно объявили меня вне закона. Разумеется, я имею в виду власти, Альберт, – Мим пытался говорить спокойно. – Мне запретили воспитывать мальчика на том основании, что любой великий художник – прокаженный, и, стало быть, мое общество не годится для моей же кровинушки. Вот в какой стране мы с тобой живем, Альберт, – в филистерской империи критиков, толстосумов и ненавистников человеческих чувств.
Но пока Илайджа говорил мне на прощание, что поделился со мной великой тайной своей жизни – Птенчиком, я замечтался и глубоко задумался над тем, как совладать со своей личной бедой. А когда очнулся, он уже ушел и вернулся в студию – к «холодной власти разума». Узнав о запрете общаться с правнуком, который наложили на него из нравственных побуждений, я отчасти согласился с Мимом, что мы оба связаны каким-то «поистине мистическим образом» и голая канва нашей жизни довольно сходна.
Внезапно я возвратился к собственному унижению благодаря белому человеку, резко отличавшемуся от Илайджи Траша, ведь какими бы слабостями ни обладал Мим и как бы ни был глубок его главный предрассудок, он принимал меня таким, каков я есть, и считал, что я обязан любить его всем сердцем, не поощряя при этом никаких отговорок, как например: цвет кожи, предшествующая биография или положение. В то же время свои отношения с Тедом Мауфрицем, либеральным радикалом в отставке, я до сих пор не могу для себя ничем оправдать. Этот белый джентльмен из богатой семьи банкиров имел привычку укладывать меня на бархатную кушетку, защищенную от пятен козлиной шкурой и пластиковым чехлом. Затем он вскрывал одну из лучших моих вен и выпивал большое количество моей крови, надеясь, – по его словам, только лишь надеясь, – что «достоин» благородной расы, чьим отпрыском я являюсь.
– Вспомни меня, когда вы получите власть и славу этого мира, – восклицал он, опьяненный моим физическим совершенством.
Возможно, потеря крови не вредила моему здоровью, и, наверное, я бы продолжил общение с «недостойным» Тедом Мауфрицем, позволяя ему приближаться к восходящей звезде моей расы, если бы однажды вечером, когда я по заведенному обычаю разделся, чтобы он мог вскрыть одну из моих вен, он случайно не обнаружил еще одно большое перо, прилипшее к моей отчаянно вспотевшей груди.
Теда Мауфрица охватил такой жуткий приступ ярости, что он не смог выпить даже пол-унции моей крови, хоть я лежал перед ним и истекал ею, ведь он уже успел вскрыть вену.
Впрочем, он расстался со мной как друг, однако на пике своего гнева довольно неразумно назвал меня ямайцем. Но я все же пожал ему руку, после того как оделся.
Я снимал «нумера» близ Тринити-Черч, в районе Уолл-стрит на острове Манхэттен, но вскоре после того, как меня разжаловал Тед Мауфриц и я остался без гроша в кармане, меня ждал еще один страшный сюрприз: Джаддсон, надзиравший за моими личными комнатами, сообщил мне о вышедшем новом постановлении, согласно которому те, кто занимали сейчас особые помещения, больше не могли пользоваться ими для сна или приготовления пищи. Излишне говорить, что я поселился в «нумерах» из-за своей привычки, но всегда ночевал там же на полу. И вот отныне с наступлением темноты мне пришлось бы превращаться в обычного бродягу, которому негде преклонить утомленную голову.
Я отругал белого Джаддсона и вышел. Еще пару лет назад он мог бы уязвить меня бранным словом, но теперь, благодаря победам моих собратьев, ему оставалось лишь закусить свои бледные губы и отпустить меня.
Именно тогда я решил стать шпионом Миллисент. В первые недели слежки за Илайджей мне было негде спать, но я не желал сообщать об отсутствии крова ни ей, ни Миму.
Однако беда моя в это время заключалась не в отсутствии места для ночлега, а в новом недуге, который так же трудно описать, как и мою привычку. Я не просто подпал под обаяние Илайджи Траша – я по уши в него влюбился.
– Разумеется, я это предвидела, – объяснила мне Миллисент одним августовским утром. (Она встала около пяти утра и внимательно обозревала небо – ее единственное истинное удовольствие.) – Все заканчивается тем, что шпион либо влюбляется в Илайджу, либо оставляет свой пост…
Внезапно разбогатев благодаря случайному знакомству с Миллисент Де Фрейн, я купил шелковый костюм и зарегистрировался в отеле «Райские кущи Божественного Отца», где моя «царственная» наружность позволила мне снять один из лучших спальных номеров с видом на реку и получить место в столовой совсем рядом с тем столиком, за которым Божественный Отец обедал при жизни и куда его призрак регулярно наведывается даже сейчас. Миллисент Де Фрейн также было сподручнее оставлять для меня сообщения в столь респектабельном заведении.
Даже не знаю, пошла ли с тех пор моя жизнь в гору или же под уклон. В спокойные часы мне кажется, что, не стань я восторженным шпионом Миллисент Де Фрейн и поклонником духовного мира Илайджи Траша, возможно, я отказался бы от своей расточительной привычки и стал бы рядовым чернокожим, пытающимся прокормиться, но, как сказал Илайджа, есть ведь еще и судьба. А судьбой мне, безусловно, было предначертано, во-первых, приобрести мою претенциозную привычку, ибо я считаю ее единственной в своем роде, и во-вторых (что вытекает из первого), очутиться в упоительном обществе сих недюжинных людей – Миллисент и Илайджи.
Вскоре я обнаружил, что Миллисент меня обманывает. Одним августовским полуднем она сказала, что я могу пару дней отдохнуть и в это время мне не нужно заходить к Миму. Я сразу понял, что это приказ. Когда она передавала мне чашку чая, рука у нее дрожала. Миллисент прикрывала вены на шее мехами, поднимая их все выше. Она ни разу не посмотрела мне в глаза.
– Вы – любезнейшая из дам, – сказал я.
– Ты вовсе так не думаешь.
– Миллисент, Миллисент, – я повел себя крайне дерзко, назвав ее по имени – белому имени.
Она положила правую руку, унизанную несколькими перстнями, на переносицу своего огромного орлиного носа, и так как нос этот был теперь накрыт, я впервые понял, что он напоминает. Мне почти тотчас стало дурно, и я с грохотом поставил хрупкую чайную чашку на стол.
– Ты должен простить меня, – она убрала руку, но я не мог поднять на нее взгляд.
– Тебе знакома безысходная любовь, Альберт Пеггс?
– Да, во всех видах, – всхлипнул я. – Все виды безысходности.
– Удивительно, да, просто удивительно, – она принялась меня успокаивать. – Сядь сюда, мой дорогой, на табуреточку.
Я отпил еще чуть-чуть чаю и затем выполнил ее просьбу.
– Ты должен уехать на пару дней. Тебе нужен отдых.
Я судорожно затрясся. Услышал звук какой-то возни, а затем почувствовал, как мою левую ладонь подняли и что-то грубо нанизали на указательный палец. Я открыл глаза и увидел, что она надела на него один из своих перстней с жемчугом.
– Не говори того, что готов сказать. Если привратник заметит у тебя на пальце перстень и остановит тебя, непременно скажи, чтоб он позвонил мне. Этот перстень – твой, Альберт, при условии, если ты скроешься на пару дней… Так что за безысходная любовь у тебя была? – спросила она.
– Я восхищался одной особой, – сказал я.
– Какого цвета?
– Белого, – ответил я.
– Судьба стирает нас в порошок, – произнесла она. – Не мог бы ты вытереть лицо, Альберт?
Остаток дня я просидел за своим столиком в столовой «Райских кущей Божественного Отца», любуясь подаренным ею перстнем. Я никогда не чувствовал себя таким сильным и в то же время таким больным. Наверное, мне казалось, будто я умираю, набираясь при этом сил. Порой мне мерещилось, что я уже умер и попал в рай для белых, что Илайджа и Миллисент – Бог и Богиня, стерегущие сад, а я – Сын их Единородный. Но при этом я понимал, что подлинная моя судьба ютится в съемных «нумерах».
Я встал у пожарного выхода из «Садов Арктура» Илайджи Траша. Я предчувствовал, что Миллисент придет днем, ведь в шесть вечера она ела копченую скумбрию с каперсами, затем ее клонило в сон, и она уже не могла выйти на улицу, по-настоящему бодрствуя лишь пару дневных часов.
Она пришла в полдень, пока я жарился на солнцепеке. Наверное, они знали, что я стою снаружи, и именно поэтому оба подошли ближе, чтобы я мог их слышать. Мои неудобства были вознаграждены сторицею.
– Сколько бы я ни менял замок, чтобы ты не вошла, тебе всегда удается раздобыть подходящий ключ и войти, точно воровка моего времени и совершенства, каковою ты и являешься, – донесся до меня голос Илайджи. Сидя за фортепьяно, он сыграл пару нот, и я понял, что обращается он к Миллисент: – Ты еще больше постарела с тех пор, как вломилась сюда месяц назад!
– А ты не меняешься, Илайджа, – словно сквозь паутину, послышался голос Миллисент. – Восхитительный, как никогда.
– Прекрати эти нелепые нежности.
– Когда мы поженимся?
– Когда в аду замерзнут старейшие «лучшие жильцы».
Я услышал, как кто-то осыпал кого-то десятками поцелуев, и Мим слабо вскрикнул с недовольством и отвращением…
– Ужасно, когда ты запускаешь когти в тех из нас, у кого есть оружие для сопротивления, – вновь заговорил Илайджа, – но когда ты выбираешь своей жертвой бедного паренька другой расы, не способного отбиваться…
– Бедный паренек? Ну и ну… Да он зрелый двадцатидевятилетний мужчина и силен, как пара ломовых лошадей.
– Но на вид – сущий младенец. По-моему, у него и борода-то еще не растет!
– Что ж, если хочешь знать, на нем достаточно перьев – хватит, чтобы возместить гладкость щек!
– Чуть не забыл об этих чертовых перьях, – внезапно воскликнул Илайджа. – Что, по-твоему, они означают? – Теперь он заговорил непринужденным тоном, словно запамятовав, что беседует с заклятым врагом.
– Наверное, в нем все же течет каннибальская кровь, ты так не считаешь? – Миллисент сменила тему, а затем, после паузы: – Знаешь, все, что я говорю, его обижает. Я боготворю его, но не могу признаться ему в любви. У него кожа цвета наилучшего красного дерева, а глаза разбивают мне сердце – они миндалевидные, ты же знаешь. Я часами пла́чу после его ухода, ведь его физическое совершенство по-прежнему остается в комнате – в шторах и мебели, на которой он сидел…
– Ты – старая маразматичка! – заорал Илайджа. – С чего ты взяла, что Альберт удостоит такую престарелую каргу, как ты, хотя бы одним мизинцем на ноге!
Миллисент рассмеялась:
– Если бы возраст был для него помехой, он не питал бы такой слабости к тебе, дорогой. Ты разве не знал? Он влюблен в тебя до такой степени, что принимает тебя за белого бога, ну и так далее. Стоит лишь упомянуть твое имя, и глаза у него подергиваются пеленой… Но ради денег он тебя предаст – разоблачит, как только ты переборщишь с ним.
– Ты прочла в этой студии свою последнюю речь, старая недотепа! – закричал Илайджа, охрипнув от гнева. – Белами, – позвал он пианиста, – войди сюда и выставь эту болтливую сороку за дверь!
Я опьянел от их препирательств. После того, как они расхвалили мое тело, душу, известные и неизвестные достоинства, я уже не мог сдержаться. Сняв с себя все, что на мне было, я пролез в окно пожарного выхода и, держа одежду в левой руке, вошел, дабы предложить им свою любовь.
Они не обратили на меня ни малейшего внимания. Я медленно начал понимать, что их ссору, тянувшуюся еще с 1913 года, не может прервать какой-то голый негр.
– Надень халат, Альберт, а не то подхватишь простуду, как пить дать, – Миллисент нашла время, чтобы обратиться ко мне, пока Белами помогал ей надеть шляпу и с ее позволения вытер кривую полоску помады возле рта, появившуюся, как я узнал позднее, оттого что Мим ударил ее по губам.
– Будь с ним любезен ровно настолько, насколько это необходимо, дитя мое! – предупредила меня Миллисент, и дверь за ней захлопнулась.
Я сразу повернулся к Илайдже, ожидая от него новых похвал и новых слов любви.
Но он даже не взглянул на меня. Сидя за фортепьяно, Мим играл отрывок из Готтшалька[3], а всякий раз, когда я пытался привлечь его внимание, отворачивался.
Я занимался этим не из-за денег, поскольку не знаю, как заниматься чем-либо ради них, но деньги все же появлялись, причем регулярно и в избытке.
– Мы будем делать это вот так, под сурдинку, – вечно приговаривала Миллисент, засовывая хрустящие стодолларовые банкноты мне в ладонь и всегда поражаясь, что она влажная от напряжения. – Тебя что-то беспокоит, дорогой, – добавляла она. – Алабама?
Илайджа тоже меня отчитывал:
– Ты не можешь полностью сосредоточиться на том, что я тебе говорю, и на величайшем значении моей личности, Альберт… Правда, ты сколачиваешь на мне состояние, но, сидя на этом стуле «бове», прекрасно сознаешь, что принадлежишь мне душой и телом… И, тем не менее, есть кое-кто еще! Я знал это с самого начала… Ну вот, ты опять омерзительно распускаешь слюни. Когда ты так делаешь, то становишься действительно гадким… Ах, Альберт, почему ты не можешь быть верным мне до конца, стать со мной единым целым?
Он заслонял себе лицо длинными красноватыми пальцами со слегка грязными ногтями.
– Илайджа сказал мне, что есть кое-то еще, – теперь Миллисент тоже подняла эту тему. Она казалась более обеспокоенной, чем он. На ногах у нее были розовые туфли с громадными золотыми пряжками, и из-за приступа ревматизма она сильно выдвигала голову вперед, так что возникало впечатление, будто она разговаривает с низеньким «немым официантом»[4]. – Сегодня он был очень груб со мной по телефону, а затем его ярость переключилась на тебя, Альберт… Он знает, что в твоей жизни есть кто-то другой…
– Так уж прямо нельзя сказать, – я все же нарушил данное самому себе обещание помалкивать и проговорился.
Несмотря на ломоту в костях и шее, она подняла голову и уставилась на меня.
– Этого не может – не должно быть! – запротестовала она.
– Но у меня была одна… привязанность до того, как я встретил вас! – Я слегка всплакнул.
– Но дорогой, я думала, что для тебя мы, Илайджа и я, – это всё. Мы, безусловно, обязаны быть для тебя всем.
– Есть… кое-кто еще, – сказал я, наконец, на их манер, ибо не мог чистосердечно признаться в своей дилемме или привязанности – как ее ни назови. Я вспомнил о месте, где родился в Алабаме – Бон-Секуре и о городках моего деда и прадеда – Этморе, Каноэ и Таннел-Спрингсе.
– Внимательнее, внимательнее! – услышал я голос Миллисент. – Последнюю пару недель ты витаешь в облаках, Альберт. Это разбивает мне сердце. Если ты подведешь меня, я не знаю, каким еще способом мне добраться до него (Илайджи), и возможно, это станет концом пути. Ты сильно заблуждаешься насчет власти денег. Они ничего не решают. Ни одна женщина со времен Эдема не страдала так, как я. Я продолжаю жить, но каждый мой день все пенибельнее[5]. Сегодня он сказал мне очень язвительные слова, по-моему, самые обескураживающие и язвительные слова, которые мне когда-либо говорили. У меня такое чувство, будто меня отправили на пыльный чердак… Подойди ближе, дорогой, я не хочу, чтобы кто-нибудь из прислуги подслушал…
Когда я приблизился к ее стулу, она прошептала:
– Знаешь, Альберт, дитя мое, на чем, по мнению Мима, я сижу?
По ее щекам заструились слезы, смывая французские румяна той же марки, какой пользовался Мим: позже я узнал, что она и впрямь покупала ему всю косметику.
– Ну же, Альберт, ты ведь учился в университете, правда, всего один год, но большинство людей не добиваются даже этого, независимо от происхождения.
– Мне понадобится немного времени, чтобы догадаться, Миллисент, – предупредил я.
– Разве у нас нет вечности?… У меня, по крайней мере, – есть.
Она притянула меня к себе, и капля косметики упала на мое запястье. Миллисент мгновенно промокнула ее большим носовым платком.
– Слушай внимательно. Он сказал, что я сижу на пуфике… – Взмахом руки она указала на свое сиденье, стоявшее на приподнятом помосте. – Разве ты не чувствуешь дьявольской злобы в выборе этого слова? Пуфик!
Я ухмыльнулся во весь рот, а она испытующе посмотрела на меня.
– Я понятия не имею, что делать с другой твоей привязанностью. Он сказал мне, что не будет с тобой общаться, пока ты не бросишь этого второго человека…
– Но никакого второго человека нет…
– Альберт, ты слишком красив для того, чтобы не иметь наперсников, – возразила она.
– Ах, вот оно что, – я сел на крошечный стульчик подле ее «пуфика», а затем, вспомнив словечко, которое она употребила – «наперсники», – не смог удержаться и открыто расхохотался.
– Ну давай, груби и хами, – сказала она. – Но ты не дождешься жалости или понимания от Илайджи. Он превратит мою жизнь в ад, если ты чистосердечно во всем не признаешься. Куда ты, например, ходишь, когда тебя нет с твоим народом в «Райских кущах», Альберт…
– Неужели у меня не может быть личной жизни…
– Мы не следим за тобой, и ты знаешь об этом, Альберт, – теперь она совсем разобиделась и позвонила прислуге.
– Я взяла тебя после первой же встречи, полагаясь на интуицию, да еще из-за твоих изумительных глаз. К тому же твое дыхание благоуханно, словно мед из цветов апельсина – говоря по правде, это и определило мой выбор… Нора, – обратилась она к вошедшей служанке, – принеси поднос с лучшим ликером и, погоди минутку, ради Бога, не выбегай, как курица с перерезанной яремной веной. Будь так любезна, принеси два граненых бокала для вина, побольше, если можно, и погоди минуту, остановись, не мечись так, я хочу к ликеру пресное печенье. Теперь можешь убегать, и надеюсь, что ты… Эта женщина не выносит меня, Альберт, – заметила она, когда служанка ушла. – Я нашла у нее в спальне литературу – она последовательница какого-то популярного культа и верит в то, что наш мир близится к скорому концу. Отсюда ее флегматично-высокомерное отношение ко мне.
– Наверное, вы с Илайджей удивились бы, если бы я пролил перед вами на пол свою сперму, – разумеется, ради вашего же развлечения, – и поразились бы, что она не коричневая! – Перед тем как сделать это заявление, я встал.
– Ужасно смешно, – она задумалась над моими словами, которые я произнес, почти не осознавая, что вообще собираюсь что-то сказать, и точно так же – нет, еще больше, чем она, удивился, когда услышал, что сказал. – Похоже, ты не учел первый урок нашей первой встречи. Меня не интересует ни одна раса, не говоря уж о роде людском в целом. Я согласилась бы жить с бабуинами, если бы они не отличались, по слухам, неприязненным нравом, но, вероятно, они ничуть не хуже этой набожной дуры Норы, которая любит Иисуса, но при этом терпеть не может свою хозяйку и кормилицу.
– А если бы я сказал вам, что влюблен в птицу? – произнес я, потянув ее за платье.
– Альберт, – продолжала она так, словно я ничего не сказал, – однажды после обеда, пару недель назад, из кармана твоих брюк выпал клочок бумаги, исписанный твоей рукой. Я подобрала его с некоторым трудом, но мне не хотелось, чтобы служанка нашла какую-нибудь улику, которую можно использовать против меня, а также против тебя; если желаешь, я верну записку тебе. Я храню ее наверху в надежном месте. На клочке было написано: «Истинны ли беды белых, реальны ли они?» Я долго не могла забыть эту фразу. Но у меня есть для тебя ответ, Альберт. Да, они реальны. Ты не поверишь, но, Бог свидетель, это – факт… Минуту назад ты употребил совершенно однозначное сексуальное выражение. Ты должен выбросить из своей благородной головы мысль о том, что Илайджа или я жаждем твоего тела, хотя его линии изящны и благородны и я день за днем любовалась изгибами твоих рук и бедер. Я совершила все ошибки, присущие человеческому разуму, поэтому во мне почти не осталось ни капли ханжества. Нам не нужна твоя сперма, если воспользоваться тем странным словом, которым ты назвал свой дар миру белых. Нам нужна твоя душа.
Точь-в-точь как Миллисент не слышала некоторых моих заявлений, мне кажется, я тоже не до конца уловил суть этих слов. Тем не менее, позже в «Райских кущах» (слезы наворачивались мне на глаза так настойчиво, что под конец пришлось извиниться перед собратьями, сказав, что у меня сенная лихорадка, хотя на самом деле осень уже переходила в зиму) я обдумал все то, что Миллисент говорила обо мне, себе самой и Илайдже…
– Ты не увидишься с Мимом, пока не пойдет снег, запомни! Только тогда он открывает «Сады Арктура» и танцует на публике! – Ее слова всплыли у меня в памяти, когда я по рассеянности раскрыл кошелек и выронил четыре тысячных банкноты на глазах у потрясенной официантки.
– Я получил наследство, – объяснил я, заглянув в ее пытливое лицо. В эту самую минуту Миллисент Де Фрейн разговаривала с Илайджей Трашем по телефону:
– Он говорит мне, что влюблен в птицу.
– Дорогая, либо на сей раз ты лишилась рассудка и за тобой скоро приедут (что станет счастливым избавлением для всего рода людского), либо эта твоя адская прислуга проткнула тебе из мести барабанные перепонки… Когда у тебя прояснится в голове, свяжись с моим пианистом, если тебе нужно будет сообщить что-нибудь важное. И пришли мне денег, слышишь, скаредная ты тварь!
– Он думает, что нам нужна лишь его сперма, – продолжала разговор Миллисент, но тут вдруг послышалось щелканье на линии, и Мим повесил трубку.
– Мне надо было умереть в 1917‑м, – Миллисент сидела с золоченым розовым телефоном на коленях. – Я хотела бы, чтобы это случилось в месяц тюльпанов. Я не выношу осенние цветы с их буйной растительностью и лопастными листьями. Я отдала бы все на свете за целую комнату тюльпанов. Думаю, это меня осчастливило бы.
На самом деле, Миллисент Де Фрейн нисколько не постарела с 1913‑го: в этом году она влюбилась в Илайджу Траша, которого в афишах театра «Ипподром» называли «Самым красивым мужчиной на свете», и после первой же их встречи за кулисами она каждый день думала о несбыточности их любви. Он отчасти вдохновил ее на то, чтобы посвятить всю свою жизнь безответной страсти, и ни один другой человек никогда ее так не вдохновлял.
Когда ударили зимние морозы, Миллисент отметила наступление холодов, переменив лишь одну деталь своего гардероба: она надела жемчужное колье. Мехов же она носила ничуть не больше, чем в июле.
Миллисент и Мим находились теперь в чрезвычайном возбуждении, ведь Илайджа вновь выступал на сцене, хотя его спектакли, да и сами зрители (которые не платили за вход, а получали приглашения) не имели почти никакого отношения к нью-йоркскому театральному сезону.
– Нью-Йорк, любезнейший Альберт, умер, – говорила мне Миллисент с малинового сиденья своего пуфика. – На самом деле, он умер еще в 1917‑м, но мы потакали ему, делая вид, будто он по-прежнему жив. Наверное, ты вернешься в тот городок в Алабаме, как ты там его называл… Этмор, Каноэ, Кофейные Ключи, Жженое Зерно или что-то в этом роде. Я смотрела карту твоего штата, и если эти места так же интересны, как их названия, я бы, возможно, там перезимовала. Но когда Нью-Йорк прикажет долго жить, полагаю, ты вернешься в Алабаму.
– Альберт! – вскрикнула она вдруг в сильном раздражении. – Твои глаза потускнели из-за невнимательности.
– Прошу прощения, Миллисент, – сказал я. – Сегодня я очень подавлен.
– Если б я могла понять причину твоей подавленности…
Затем вошла Нора с крошечным золотым подносом, двумя люцерновыми таблетками и стаканом воды. Нахмурившись, Миллисент проглотила таблетки и так жадно осушила стакан, словно была лошадью.
– Мим утверждает, – начала она вдруг, пересказывая недавно вскрытое письмо, – что если в этом сезоне он не будет прекрасен и публика не полюбит его до исступления, он покончит с собой… Ты же знаешь, мне запрещено посещать любые его выступления…
– Я сын фермера, хочешь – верь, а хочешь – рассмейся над моим признанием, – сказал Илайджа Траш, чтобы отчасти подготовить меня к своей Большой Премьере в «Садах Арктура». – Мой отец был фермером из Иллинойса, а затем семья решила по какой-то непонятной для меня причине податься на равнины Монтаны. Там я остался бы навсегда, дорогой мой Альберт, и крутил бы хвосты лошадям на гречишном поле, если бы однажды вечером не попал в Оперный театр и не увидел танцевальную труппу, приехавшую с постановкой «Кармен». Тогда я понял, что брошу своих набожных родителей и уеду в Чикаго. Мне было пятнадцать. Я нежно любил своего папу, ведь он всегда мирился с моими шалостями, но моя мать, помешанная на религии, не признавала ничего, кроме тяжелого труда и молитвы. Даже не попрощавшись с ними, я запрыгнул в товарный поезд, где мне поручили присматривать за скотом, и прибыл в Чикаго с четырьмя долларами в кармане штанов, не зная ни единой души в городе… Но личность моя уже полностью сложилась, и если позволишь мне так выразиться, – хоть я и знаю, что чуть дряхл по нынешним меркам, – я покорял сердца всех встречных. В самом деле, едва я прошел два квартала по Мичиган-авеню, как один известный импресарио той эпохи по фамилии Адамс заметил меня и тотчас ангажировал на роль юноши, носящего знамена в некоторых шекспировских пьесах, – это был «Генрих VI», акты I, II и III. Но вскорости, устав от этих ролей, я уплыл четвертым классом в Грецию и дебютировал на ступенях Парфенона… Затем – Париж…
Я неоднократно пересказывал эту историю Миллисент Де Фрейн, хоть она слышала ее тысячу раз из уст Мима, да и знала по собственным обширным записным книжкам…
– Так оно и было, – отозвалась она, сонно приподняв голову, и с улыбкой кивнула.
– Выгляни на улицу, – закричала Миллисент, охваченная каким-то благоговейным трепетом. – Снег идет. Лето кончилось – и начался сезон! Ты слышишь меня, Альберт?.. «Сады Арктура» откроются с минуты на минуту…
Да, действительно шел снег – валили огромные хлопья вещества, столь чуждого моей коже и моему сердцу, и все же в жилах моих лето неистовствовало, как никогда, а на моей верхней губе постоянно скапливалась как бы лужица пота, который, сколько бы Миллисент ни приказывала мне или служанке все насухо вытереть, вновь просачивался, подобно крови из большой проколотой артерии. Она разочаровалась во мне и, полностью сосредоточившись на премьере Мима, перестала обращать на меня внимание.
Она велела достать свои самые лучшие платья и заказала новые туфли-лодочки. Послала за ювелиром, осмотрела новые ожерелья и купила новое кольцо.
– Пойми, меня не пустят, – говорила она мне. – Не потому, что я опоздаю на два часа, а из принципа. Он должен отвергнуть меня – выгнать прямо на глазах у зрителей. Я сгубила его жизнь, и об этом нужно рассказать публике. А я буду унижена и сконфужена, словно все это – по-настоящему. Да, Альберт, беды белых реальны, хоть ты и считаешь нас лишь иллюзией.
– Я никогда не говорил…
– Ты это написал, и я буду хранить твое письмо в надежном месте, пока весь этот город не обратится в прах, – похоже, ее всколыхнула неистовая страсть.
– О тебе-то заботятся, – вскрикнула она, почти задыхаясь. – Но кто хоть когда-нибудь позаботился обо мне. Ты знаешь, что такое рабство? Глупец! А как насчет рабства, которое познала я? Теперь сядь, – сказала она, когда я подошел к ее пуфику. – Ты не должен упустить ни единой детали сегодняшнего представления.
Ее календарь лежал раскрытым, будто повелевая: воскресенье, 28 ноября.
Хотя перед моим первым визитом в «Сады Арктура» Миллисент подкрепила меня холодными бутербродами с мясом цесарки, вином «либфрауэнмильх», крепким кофе и бренди, ноги у меня стали ватные, когда я постучал в дверь частного театра Илайджи, ожидая вступления в новую жизнь. Ведь, общаясь с Илайджей дружески как шпион Миллисент Де Фрейн, я вовсе не был готов увидеть его в обличье Самого Красивого Мужчины на Свете. Поэтому, постучав и став ждать, я почувствовал себя не в своей тарелке; впрочем, это чувство постоянно усиливалось, начиная с той июльской встречи с Миллисент. Я был закутан в тяжелую шубу ее четвертого мужа. Высокую дверь открыла почтенная пожилая дама и спросила, как меня зовут. Вторая старуха, седовласая и чересчур напудренная, с крошечными гагатовыми сережками, выглядывала из-за плеча первой.
Она просмотрела список приглашенных на спектакль, но так и не нашла имени Альберт Пеггс.
– Но меня же прислала Миллисент Де Фрейн! – воскликнул я, и некоторые ранние зрители в небольшом зале закашлялись.
– Уверяю вас, – заговорила прочувствованно-негодующим тоном матушка Маколей, первая седовласая дама, – и могу еще раз заверить вас, что мы не можем впустить сюда ни одного друга Миллисент Де Фрейн.
– После того, сколько денег она прислала Миму, – возмутился я вслух.
– Да она и ломаного гроша ему никогда не дала, – заговорила вторая дама. – Будьте столь любезны удалиться, молодой человек.