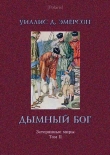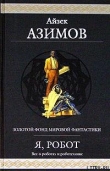Текст книги "Я — Илайджа Траш"
Автор книги: Джеймс Парди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– На свете нет никого, – завопил я что было мочи, дабы меня услышали по всему зданию, – никого и нигде, кто любил бы и уважал Илайджу Траша так же, как я. Я не приму отрицательного ответа и не удалюсь, – протиснувшись мимо них, я успел услышать старый знакомый громогласный крик:
– Усадите его на большое плюшевое тронное сиденье, матушка Маколей, в первом ряду, и, ради Бога, прекратите эти ваши с Эбигейл Таттл пререкания. Неужели сияние славы всегда должны омрачать несведущие ревнители? Как только усадите его, идите на свои места и впускайте сегодня всех. Не прогоняйте никого, слышали?
– А если придет мисс Де Фрейн? – спросила матушка Маколей, которую покоробило от язвительных слов, сказанных им о ней сегодня.
– Впустите и эту линялую безалаберную старуху, если ей удастся дотащить свои кости в такую пургу, – голос Илайджи начал затихать, но я успел выкрикнуть в ту сторону, откуда он доносился:
– Благодарю вас, любезнейший друг, что похлопотали обо мне.
Мне показалось, что я услышал в ответ воздушный поцелуй.
Да, снаружи валил густой снег, а здесь было слишком жарко, слышался очень сильный аромат ветиверии, и висели плотные клубы благовоний «кашмирский шафран» и «квайпурская роза», от которых глаза мои почти сразу же затуманились.
В жилах моих бушевал пламень, подобный горящей нефти, но я вдруг задрожал и даже не снял тяжелую шубу, хотя матушка Маколей несколько раз подходила ко мне и показывала жестами, что могла бы унести мою ношу, если я того пожелаю.
Небольшой зал был теперь полон, и я успел взглянуть на стены, увешанные картинами в золоченых рамках: на них маслом был изображен средний период жизни Мима. Мим в роли Гайаваты, младенца Моисея, Аполлона и Иисуса с Марией Магдалиной в Гефсиманском саду, вдобавок к длинной портретной галерее ангельских юношей. Пока я глазел на них, старуха рядом со мной перегнулась и прошептала:
– Это его покойные любовники. У всех одинаковая судьба, – она покачала головой и нахмурилась: – Они подвели его, – она собиралась продолжить, но прозвучал гонг, и свет начал меркнуть.
Вдалеке я услышал низкий и скорбный молящийся голос.
Затем хлопнула чья-то рука, и молниеносно (мне и впрямь показалось, будто на сцену бросили шарообразную шутиху) перед моим потрясенным взором возник Мим – сам Илайджа, выглядевший не старше двадцати пяти и, несмотря на кошмарные украшения и макияж, почти такой же красивый, как боги на стене. Он посылал всем воздушные поцелуи.
Недуг мой обострился то ли из-за благовоний, то ли просто от волнения, и я счел уместным шмякнуться на пол, дабы не возбуждать свои нервы более, нежели, по моему мнению, они возбудились бы от того, чему я должен был подвергнуться. И я положил голову на ботинки молодого белого джентльмена, который сказал, чтобы я отбросил условности и устраивался поудобнее, и, словно уже предупрежденный Илайджей или Миллисент Де Фрейн, стал вытирать мою верхнюю губу, усеянную ледяными каплями.
После первого гипнотического появления Илайджи, вызвавшего целую бурю аплодисментов, матушка Маколей поднялась на сцену и объявила первый номер Мима, прочитав предварительно краткий биографический очерк, с коим я уже ознакомил всех читателей сей повести; упомянутый же номер назывался «Нарцисс осушает последний кубок радости».
В этой части концерта Илайджа был облачен лишь в вишневую шаль.
– Подумать только – ему ведь уже за девяносто, – сказал юноша, на чьих ботинках я развалился. Мне так нездоровилось, что я не мог ответить словами, но поскольку руки мои всегда сохраняли свою силу, я дернул его за шнурки.
Теперь я уже начал сомневаться, действительно ли это Илайджа, ведь, будь ему хоть девяносто, хоть семьдесят, хоть сто, тело его было крепким, как яблочко, а гениталии внушали надежду, что он способен еще зачать множество детей. Тем не менее, его профессия требовала всякий раз выглядеть иначе.
Затем последовал антракт, в котором молодой человек, сидевший рядом, проникнувшись любовью ко мне, вероятно, из-за моего африканского происхождения, угостил меня коньяком из своей личной бутылочки.
– Я всегда нахожу здесь кого-нибудь полезного, – сказал он. – Не пропускаю ни одного сезона.
– А чем вы зараба… – Хотел было я спросить, как вдруг вновь прозвучал гонг и погас свет.
Заново пережив волнение того вечера, я чуть не забыл сообщить читателю, что Юджин Белами, пианист, был во фраке и выглядел совершенно по-ньюйоркски: с красивыми темными кругами на бледном, как луна, лице, и геранью в петлице. Он метал в меня взгляды, исполненные злобы и ненависти, если только не играл Сесиль Шаминад или Эрика Коутса.[6]
– Вы закадычный друг Мима? – прошептал мне на ухо молодой человек.
– Кажется, я теряю сознание, – ответил я, – возможно, вам придется позаботиться обо мне.
Но мое головокружение почему-то не встревожило ни меня самого, ни моего соседа, который все так же мурлыкал мелодии, доносившиеся из фортепьяно.
Наверное, были уже показаны несколько номеров: помнится, «Пьеро» – нескончаемая сценка во французском саду с Мимом в зеленом трико и, наконец, чувственная оргия под названием «Вакханалия в пустыне Сахара», где Илайджа надел колокольчики дромедара, которые, увы, так сильно напоминали «Армию спасения» на Рождество, что весь номер утратил для меня свою несомненную прелесть.
Но посреди этого представления за дверью послышался страшный грохот, и, сдержав обещание, в зал ворвалась Миллисент Де Фрейн вместе с молодым человеком, одетым в костюм пожарника и несшим топор. Он, разумеется, выломал дверь: завсегдатаи сразу поняли, что он никакой не служащий пожарного депо.
– Немедленно прекратите этот неуместный спектакль! – Моих ушей достиг вопль Миллисент. Я был потрясен: ведь так не обращаются с человеком, которого любят с 1913 года. – Прекратите, я сказала! – прокричала она: Миллисент тоже выглядела удивительно молодо – ни следа ревматизма и восьмидесяти с лишним лет. Дурнота, похоже, отступила, и я выпрямился на полу, надеясь, – видимо, тщетно, – что Миллисент узнает меня, ведь она была так блистательна и эффектна, и мне захотелось, чтобы она поздоровалась со мной на глазах у всех этих интересных людей.
– Проклятый старый мешок с костями! Так вламываться посреди самого изнурительного моего номера… Леди и джентльмены, эта простая шлюха, не угодившая за решетку только благодаря своему богатству, хоть она и не заработала в своей жизни ни гроша, преследует меня с самого начала века. – (В гневе он всегда выдавал свой возраст, хотя в документах неизменно указывал, что ему двадцать восемь.) – Изо рта у нее разит, как от целого племени каннибалов, и она щеголяет красотой престарелой ехидны, но при этом тешит себя надеждой, что я безнадежно в нее влюблен… Она даже распускает слухи, будто содержит мой театр! Друзья и зрители, вы можете в это поверить?
Послышались исступленные крики «нет», как в хорошо разученной пьесе.
– С другой стороны, этот порочный шарлатан, – начала свое возражение Миллисент Де Фрейн, – растлил собственного правнука, и сегодня среди публики нет ни одной юной особы, которую он не растлил или не обесчестит и растлит в будущем. Поэтому я умоляю вас бежать отсюда со всех ног – и впрямь бежать так, словно все здание охвачено пожаром… Дряхлый Антиной! Я ненавижу тебя за то, что ты сделал со всеми нами, – теперь она обращалась непосредственно к Миму и, вытащив широкий, фантастически длинный нож, бросилась на него.
Он тотчас схватил Миллисент, вырвал нож у нее из рук, а затем безразлично и вяло плюнул ей в лицо.
Пока все это происходило, я не заметил, как молодой человек рядом со мной почти полностью меня раздел. Шуба моя исчезла, а брюки и трусы улетучились. Решив, что он собрался насладиться моим телом, я повернулся, дабы задать вопрос, но юноша, разумеется, испарился.
Затем вечер растянулся, как церковная служба: безусловно, тут требовалось больше внимания, чем при обычном дивертисменте, ведь взамен запланированного спектакля Мима мы получили серию сольных танцев Миллисент Де Фрейн, носившей под оперным плащом полный комплект доспехов и поэтому похожей, по словам некоторых зрителей, на Боадичею[7].
Она исполнила минимум четыре, а возможно, даже полдюжины номеров, и это было удручающее зрелище, ведь она с трудом поднимала ноги, да к тому же во время всего выступления Мим шикал и освистывал ее из-за кулис, выкрикивая фразы типа:
– Даже у пугала на сильном ветру больше грации! – Или: – Из-за хруста ее костей не слышно фортепьяно!
По окончании различных номеров Миллисент, которой уже начали громко аплодировать, спела на бис балладу:
Ах если бы луна светила
И под нею сирень цвела!
Но дождь, как из ведра, мой милый,
Лил, как из ведра…
Не в силах больше стоять за кулисами, Мим без объявления выскочил оттуда, схватил Миллисент как партнершу и начал выделывать с ней бесподобный тустеп к вящему восторгу публики, ибо неожиданно выяснилось, что для блестящего выступления Миллисент не хватало лишь его направляющей руки. Их дуэт и впрямь обещал стать гвоздем сезона в «Садах Арктура», как вдруг с галерки кто-то крикнул:
– По-ли-ци-я!
Миллисент и Илайджа, с пунцовыми лицами и запыхавшиеся от усталости, продолжали танцевать, плавно перейдя на танго. Через выломанную входную дверь ворвались полицейские, размахивая дубинками, и я, решив, что они явились за мной, ринулся с голой задницей к пожарному выходу, а затем, как только начал спускаться, услыхал стрельбу…
Я не виделся с Миллисент Де Фрейн и Илайджей Трашем более десяти дней – за это время я прочитал в одной газете очень большого формата об их аресте и недавнем освобождении из-под стражи. В газете были помещены их фотографии, и оба выглядели так невыразимо уродливо, что я даже удивился, как я мог вообще выносить их общество. Однако в их присутствии казалось, будто они живее всех остальных людей вместе взятых – молодые и прекрасные во всех смыслах.
На мне лежала вина и одновременно ответственность за Миллисент и Илайджу. Я не мог объяснить своих чувств к ним или к кому-либо еще. Но хотя затруднение, из-за которого я стал посещать тайные «нумера» на Уолл-стрит, отнимало у меня кучу времени и сил, Миллисент Де Фрейн и Илайджа теперь стали если и не вытеснять мою первую «привязанность» или «привычку», то занимать, несомненно, очень большое место в моих мыслях.
Я отправился на квартиру Миллисент на Пятой авеню, но швейцар стал настойчиво уверять, что она уехала из страны. Я солгал ему, сказав, что она только что мне звонила, поэтому он довольно сконфуженно посадил меня в лифт с панелями цвета слоновой кости и зеленым узором из какаду. Поднявшись на третий этаж, я столкнулся на выходе с Норой.
– Мисс Де Фрейн вас не ждет, Пеггс, – громко сказала Нора, удерживая дверь лифта открытой, чтобы я мог снова туда войти и спуститься.
– Я не желаю видеть дезертиров, предателей и обманщиков! – Голос Миллисент повысился, почти неузнаваемый в ярости. – Выпроводи его. Я пришлю ему свой чек…
Я решительно прошагал в комнату, откуда доносился голос. Из-за ревматизма она выглядела очень скверно и сидела в какой-то пестрой шали, которая ей совсем не шла.
– Я не позволю вам избавиться от меня, как вы избавились от других своих поверенных джентльменов, – сказал я и сел у ее пуфика.
– Видимо, я у всех вызываю желание хамить, – произнесла она.
– Досадно, что вы не всегда носите меха. Шаль не располагает к беззаботности…
Прежде чем ответить, Миллисент обратила внимание, что Нора все еще стоит на пороге приемной, или, как она называла ее, «гостевой».
– Можете идти по своим делам, Нора. Мистеру Пеггсу нужно кое о чем поговорить…
И тут она принялась меня распекать – обвинила во всех мыслимых проступках, неудачах, злодействах и подлостях, так что я определенно почувствовал себя ее кровным родственником. Такой жестокой могла быть со мной лишь мать. В конце концов, я очень горько зарыдал, и это принесло большое удовольствие и облегчение нам обоим.
– Я никогда не прощу тебе, что ты не отправился со мной за решетку. Скажем так: это самое меньшее, что ты мог сделать.
Я рассказал о грабителе, унесшем мою одежду, полностью обнажив меня, и объяснил, что только из-за этого полиция была бы со мной весьма сурова.
– Отговорки, мой дорогой, уловки.
Дворецкий принес ей меха, и она наложила на щеки густую белую пудру.
– Я нашла еще одну из тех записочек, которые, как я предполагаю, ты пишешь самому себе, – сказала она, придав себе более представительный вид, – и она тронула меня так же, как первая. Если б я только могла выбить у тебя из головы мысль о том, что мне нужно твое тело! Оно нужно мне на небесах, а не здесь… Но вернемся к записке – вот она.
Миллисент достала тяжелый позолоченный лорнет с купидонами с одного бока и прочитала:
– «Благодаря моему знакомству с Миллисент Де Фрейн и Илайджей Трашем, я отдалился от других людей. После того, как я окончательно был допущен к величавому обществу сих блистательных особ, моя прежняя жизнь и карьера полностью завершились, и я вступил… в общем, в нечто такое, что не под силу описать ни одному смертному».
– Я тогда же решила поцеловать тебя в губы, – она рассматривала их с тем злобным вниманием, которое я замечал только у врачей. – Подойди.
Я опустился на колени между ее серыми атласными домашними туфлями, и она припала ртом к моим губам. Язык ее, по силе и шершавости напоминавший коровий, исследовал внутреннюю сторону моих щек, язык и каждый зуб.
– У тебя прекрасное здоровье! – воскликнула она, наконец отстранившись. – Мы продолжим сотрудничество, Альберт. Я разжаловала тебя, но из-за твоей смелости все же оставлю на службе. Однако я хочу, чтобы ты предал Илайджу так же, как он предал меня. А теперь встань, пожалуйста, и выйди из комнаты.
– Я не желаю видеть этого жалкого отступника, можешь пойти и выгнать его вон! – сказал Илайджа Юджину Белами, объявившему о моем приходе. – Скажи ему, Юджин: он ябедник, вероломный, как вода и как леденец от первого встречного… Разгуливает с одной вечеринки на другую, повторяя эту клевету, подогревая этот старинный навет, раня там, бередя старую рану здесь, сыпля на нее соль и всегда прикидываясь сущим ангелочком, хотя он и утверждает, что уже стал зрелым мужчиной. Скажи, пусть возвращается туда, где ему намажут хлеб маслом толщиной с палец… И я имею в виду не Алабаму. Пусть старуха Миллисент сожрет его заживо – мне плевать…
Когда Юджин вновь появился в комнате, я обратился к нему своим громогласным тоном:
– Скажи Илайдже, я не потерплю, чтобы меня выгнали отсюда, словно простодушного бакалейщика, и хочу вначале с ним увидеться… Я помнил и волновался об Илайдже с того злосчастного концерта, скажи ему, но как чернокожий юноша я не мог рисковать, ведь полиция арестовала бы меня, объясни ему…
– Ты не чернее меня, моя радость, – голос Илайджи постепенно приближался к моему любимому стулу, на котором я сидел. – Ты – самый белый и гладкий из всех, кого я встречал.
И тут между комнатой, где находился я, и той, откуда слышался его голос, отдернулась штора. Казалось, будто Мим надел маску, ибо выглядел он очень моложаво. На нем был шафрановый купальный халат и перчатки с насыпанной в них, как я позже узнал, миндальной мукой – чтобы уберечь ладони и запястья от морщин.
– Ты можешь обмануть кого угодно, но только не Илайджу, – сказал он и сел в другом конце комнаты. Юджин Белами тоже уселся на табурет перед фортепьяно и в вялом темпе заиграл что-то из Листа.
– Я полагаю, Альберт, тебя интересуют только деньги, но в тебе есть кое-что еще, – голос его вдруг замер, потом Илайджа встал и подошел ко мне. Он поднял сначала левую мою руку, а затем правую, мельком осмотрел их и зашагал обратно к своему стулу, продолжая на ходу:
– В белках твоих глаз есть что-то особенное, и оно говорит мне, что ты вовсе не испорчен…
– Как вы всегда благородны, Илайджа Траш, – огрызнулся я.
– Я не потреплю дерзостей от того, кому уже указали на дверь, – вспыхнул он, но мне было ясно, что злится он не всерьез.
– Твари, на которую ты работаешь, уже не меньше ста лет: наверное, тебе это известно… Если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в привычках ей подобных, я рассказал бы тебе, как она сохраняет молодость.
Я прикрыл глаза, умышленно делая вид, будто мне неинтересно.
– Ты не спишь, дорогой?..
– По-моему, я знаю, как она сохраняет молодость, – наконец сказал я.
– Что ж, и впрямь, в таком случае ты – первый из ее многочисленных посланцев, кому удалось это выяснить. Но, разумеется, ты необычайно, да-да, в высшей степени умен…
– Ей абсолютно нечем заняться – вот в чем секрет ее молодости, – сказал я.
Он расхохотался, как шекспировский безумец.
– Праздность – одна из тех вещей, что старят людей больше всего. Я знал одну наследницу, которой не позволяли даже держать в руках книгу, когда она читала. В тридцать она выглядела на все девяносто… Нет, ты на ложном пути, дорогой Альберт, очень холодно… Возвращаясь к Миллисент Де Фрейн (вечно возвращаясь к ней, ведь она преследует меня с 1913 года, хотя тебе уже и надоело об этом слышать!), ее единственная страсть, интерес, цель и программа – выглядеть в точности так, как она выглядела в тот допотопный год. Еще в начале жизненного пути она открыла способ сохранения молодости. Впрочем, он состарил ее настолько же, насколько сохранил свежей. Не знаю, в чем причина, – в том ли, что сейчас раннее утро, или в твоем ребяческом уме, – но я почему-то не могу заставить себя рассказать тебе…
– Терпеть не могу, когда меня уговаривают. Иногда это вызывает неописуемую ярость, – предупредил я, распрямляя грудь и руки, чтобы напомнить ему о своей силе.
– Ты обратил внимание, – продолжил он, осмотрев, как я полагаю, мои ступни, ведь они довольно велики: один из моих ранних поклонников сказал, что с такими длинными узкими ступнями я не смогу стать Адонисом, – ты, разумеется, обратил внимание, ведь тебя принимают в ее замке почти ежедневно, что ее постоянно ожидает целая очередь чрезвычайно молодых людей. Я подразумеваю под этим, что они ждут встречи с ней…
– Да, я заметил немало ожидающих мальчиков, – сказал я тоном, граничащим со степенностью.
– Ну так сделай выводы сам, черт возьми! Я не скажу больше ни слова, – он взглянул на огромные золотые часы, которые достал из своего шафранового купального халата.
– Никогда не думал, что у нее могут быть любовники, – сказал я, – хотя изредка она меня ласкает.
– Это означает лишь, что она относится к твоему телу несерьезно, – ответил он утешающим тоном. – Нет нужды продолжать, Альберт, я ничего тебе не скажу.
Тут он встал.
– Юджин, довольно Ференца Листа, можешь уйти, – Мим прогнал пианиста, а затем трижды тяжело вздохнул.
– Раз уж ты вынуждаешь меня признаться, я сделаю это, но опущу детали, – продолжил он, как только музыкант удалился. – Я понимаю, что ты, вероятно, желаешь узнать секрет ее необычной молодости по чисто профессиональным причинам, ведь ты – ее посланец…
– Шпион, – поправил я.
Он очень ехидно ухмыльнулся.
Затем, подойдя ко мне и положив обе руки мне на плечи, он заглянул в здоровые белки моих глаз и сказал:
– Она не любит этих юношей – она не любит никого.
Но, дабы сохранить свою молодость, – тут он отвернулся от меня, громко завопив от досады и отвращения, раздражения и злости, вероятно, на мироздание в целом, – эта жуткая тварь откачивает из них сифоном сперму: одну выжимку за другой из этих безупречных образцов молодости, без нежности и интереса к их телам – или душам – холодно и расчетливо, словно хирург, а затем отпускает их, выплачивая огромные суммы, чтобы никогда их больше не увидеть… Разве ты не понимаешь, что эта тварь – враг всего того, что мы зовем любовью? Она – изверг. И как только Господь такую терпит…
Проняв меня до костей, снег начал замораживать мою алабамскую кровь, да и весь организм. Мне оставалось лишь пить черный китайский чай да сидеть, сколько дозволяли приличия, в столовой «Райских кущей», где одним ветреным вечером Аманда Дадделл представила мне не кого иного, как пианиста из «Садов Арктура»: его галоши напоминали сугробы, а на шарфе висели сосульки.
Я так удивился, что даже не предложил ему сесть, и тогда он сам плюхнулся в кресло.
– Вам придется простить меня за то, что я к вам ворвался, – начал он.
– Надеюсь, вы не принесли дурных вестей от Илайджи Траша?
– С Илайджей Трашем ничего не случилось. С ним ведь никогда ничего не случается, правда? Неприятности – у меня, они-то и привели меня прямо сюда, – сказав это, он покачал головой, как китайский фарфоровый болванчик.
– Это мой второй дом после Алабамы, – заговорил я фальцетом. – Сказать Аманде, чтобы принесла вам что-нибудь подкрепиться?..
Она стояла слева от меня и, тотчас достав маленький блокнот и карандаш, стала ждать распоряжений Юджина Велами.
– Наверное, у вас есть мучная запеканка, – сказал он надменно.
Аманда состроила мину, означавшую: нет и не будет в обозримом будущем.
– Ну тогда принесите какой-нибудь из ваших обычных десертов, – велел он ей.
После неловкой паузы, которую я не в силах был прервать, – тем временем он снял пальто, а один из привратников подложил под его промокшие ноги газеты, – Аманда принесла ему манный пудинг с двумя вишенками сверху, и он начал удрученно их теребить.
– Возможно, я должен сразу перейти к делу, мистер Пеггс, ведь я не владею искусством дипломатии, а сердце мое разбито… Вы должны оставить Илайджу Траша. Другого выхода нет. На кону стоит мое личное счастье и психическое здоровье, не говоря уж о хлебе с маслом… – Он так резко отпихнул от себя пудинг, что тарелка угрожающе зависла на краю стола.
– В отеле такое правило: обедающие должны доедать все, что заказали, – обратился я к нему доверительно. – Ни один кусочек или ломтик нельзя отнести обратно на кухню без объяснений, иначе это вызовет весьма щекотливое положение.
Юджин Белами побледнел, как полотно. Теперь, когда я успел его рассмотреть, он оказался и впрямь весьма привлекательным молодым человеком с золотистыми локонами, свежим цветом лица и волевым подбородком, но крохотными губками бантиком, из-за которых он не мог стать Аполлоном. Впрочем, длинные черные ресницы, наверное, помогли ему обрести множество поклонников среди клиентуры особого рода. Его руки шокировали меня своей несхожестью с руками пианиста: короткие, словно обрубки, они выглядели так, будто он перемыл горы посуды в очень горячей мыльной воде.
Пока я изучал его приятную внешность, он жадно проглотил весь манный пудинг и с грохотом швырнул ложку на тарелку.
– Он будет еще? – спросила меня Аманда.
– Будете, Юджин? – сказал я настойчивым уговаривающим тоном.
– Больше ничего. Может, у вас есть чаша с водой?
Мы с Амандой покачали головами.
– Тогда я приведу себя в порядок в вашей комнате, мистер Пеггс, – сказал он.
– Это невозможно, – возразил я, обменявшись взглядом с Амандой Дадделл. – В «Райских кущах» разрешается впускать гостей в номера только по особому разрешению самого Божественного Отца. Но у нас есть чудная приемная, – я махнул рукой в сторону уютной зеленой комнаты с тяжелыми стульями и неярким светом.
– Ничего не поделаешь, – он встал. – Главное – интимная атмосфера, и чтобы никто не подслушивал.
Мы сели за гигантский ореховый стол, на котором стояла маленькая лампа с зеленым абажуром, и Юджин начал барабанить пальцами по дереву. От его дыхания на поверхности древесины выступил пар, и тогда он достал носовой платок и протер запотевшее место.
– Пеггс, как я уже сказал, вы должны оставить Илайджу. У вас есть все, а у меня – ничего. Ничего, кроме Илайджи.
– Как я могу оставить то, что мне не принадлежит? – Я крепче затянул свой галстук.
– Прошу прощения, – сказал он, и его взгляд внезапно приковало старое пианино.
– Я не принадлежу Илайдже Трашу, – сказал я, – так же, как и он – мне. Вы наверняка знаете…
– Но Илайджа влюблен в вас по уши … Если бы вы умели играть на фортепьяно, он прогнал бы меня из своей студии сегодня же вечером – и вычеркнул из своей жизни… – Он рассматривал мои ладони. – Разумеется, вы не умеете играть. Но неужели вам не понятно, что если б вы только вернулись в Алабаму, моя жизнь осталась бы прежней, а вы бы все равно забыли о нем?.. У вас это просто безрассудная страсть, а у меня – образ жизни, «стиль жизни», как выражается вульгарная ежедневная пресса. Я не могу жить без Илайджи Траша, а вы повсюду пользуетесь спросом. Сейчас – ваше время.
– Так дело не пойдет, – пробурчал я, пытаясь сдержать гнев.
– Если не хотите возвращаться домой в Алабаму, у вас еще остается Миллисент Де Фрейн.
– Но она остается у меня лишь до тех пор, пока… в общем, пока я шпионю за мистером Трашем. Одно без другого немыслимо. Вы же должны это понимать.
Тут Юджин Белами достал фиолетовый конверт с надписью большими черными буквами: АЛЬБЕРТУ ПЕГГСУ, ЭКСВАЙРУ.
– Пожалуйста, возьмите, – сказал он, так как я колебался.
Я вскрыл конверт и заглянуть внутрь. Как я отчасти и ожидал, там лежала тысячедолларовая банкнота.
– Я прошу об одном: чтобы вы уехали, – проговорил пианист со всхлипом.
Я положил деньги в нагрудный карман.
– Вы знаете, что я не могу никуда уехать, – ответил я. – Мне очень жаль. Я связан, так сказать, контрактом…
– Я отдам вам все, – начал он, горько рыдая. – Можете использовать меня, как угодно. Я знаю, ваша привычка обходится очень дорого, поэтому я и дал вам эти деньги. Возможно, вы избиваете людей. Я согласен, чтобы вы избивали меня и издевались надо мной постоянно, если это доставляет вам удовольствие.
– Запах крови – не из моего репертуара…
– Но ваша привычка, мистер Пеггс… Неужели вы не понимаете, что она вас погубит? Почему бы не взять деньги и не уехать в Алабаму?..
– Хотите забрать деньги обратно? – Я вынул конверт из нагрудного кармана и протянул ему.
– Разумеется, нет. У меня и в мыслях не было…
Он очень громко зашмыгал носом.
– Я отдаю вам все – свое тело, все свое состояние, свое имущество, и что же получаю взамен? Оскорбления и грубости от… от…
– Спелого баклажана, Юджин, – подсказал я. – А теперь вы послушайте меня. Я так же, как и вы, по уши влюблен в Илайджу Траша. Почему – не знаю. У него все не так…
– Я скажу вам… – вставил Юджин.
– …все наперекосяк и набекрень; он больше не умеет ни танцевать, ни петь; его стихи плохи, но я знаю одно: в ту минуту, когда вижу его, я попадаю в рай и на седьмое небо, это нирвана и рахат-лукум – полное чувственное и умственное наслаждение… Он будоражит меня, как четыреста волчков, и меня не остановит такая, как вы, фигурка со свадебного торта. Почему я не могу наслаждаться теми же радостями жизни, что и вы? И что из того, что я шпион? Конечно, вы уважаете меня, как чернокожего, но это не совсем то.
Затем я встал, наклонился и поцеловал его в губы, дабы скрепить и заверить наш договор и полюбовное соглашение.
У меня есть альбом, где под защитным слоем желатина хранятся все полевые цветы и листья некоторых деревьев моего родного штата Алабама. В тоскливые периоды своей жизни – один из них как раз наступил после свидания с Юджином Белами – я уходил в библиотеку «Райских кущей» и рассматривал свой альбом. Я почти не замечал снегопад за окном и печальные черные лица тех, кто, избрав Нью-Йорк своей целью, потеряли все, что имели прежде.
Я уже знал наизусть «обличья» и имена своих любимых полевых цветов, но в тот вечер после встречи с Юджином Белами я нежно целовал каждый, повторяя его название: водосбор короткошпорый, малина душистая, анемонелла василистниковая, водная орхидея «косы кивающих дам», тайник сердцевидный, узколистная слива чикасо…
Мои ноздри вновь жадно вдыхали аромат этих цветов, неизвестных в Нью-Йорке, когда Роско Джордж осторожно потряс меня за плечо и, поклонившись, как пристало швейцару, сообщил, что мне звонят по «внешнему» телефону.
– Во имя всего святого, где ты был? Ты же нужен мне позарез! – Голос Илайджи гремел в трубке так отчетливо, словно сам он сидел где-то рядом в «Райских кущах». – Отвечай…
– Меня задержал ваш пианист! – заорал я в ответ, потревожив нескольких дам, дремавших поблизости в Персиковой комнате.
– Я погиб, – продолжал Илайджа, возможно, не услышав моего упоминания о визите Белами. – Все кончено, мой дорогой. Эта порочная тварь с десятью состояниями выиграла судебную битву и взяла под опеку моего правнука, известного близким друзьям, как ты помнишь, под именем Райского Птенчика. Это ее последний козырь, дабы поставить меня на колени… Все кончено, все кон…
К собственному изумлению, я повесил трубку, прошагал обратно в библиотеку, раскланявшись перед этим с дамами, сидевшими в Персиковой комнате, и плюхнулся на кушетку. Наконец-то я это совершил – повесил трубку посреди разговора с Мимом: это было таким же ужасным оскорблением, как если бы я харкнул в протянутую руку члена королевской семьи. Я покончил с Нью-Йорком и ликовал, но в то же время страшился. Нет, Мим никогда мне этого не простит.
Затем я мечтательно переключился на произнесенные им слова: правнук Илайджи, о котором он так часто упоминал, стал пленником Миллисент Де Фрейн.
Несмотря на подслушанный разговор Мима с правнуком перед зарешеченным окном Пищевого фонда, я по-прежнему сомневался в существовании Райского Птенчика. Я считал это лишь красивой метафорой… Идеальная любовь, божественная педерастия, о которой он так много вещал: Платон со своими любимыми учениками, Иисус – со своими и т. д. Тем не менее, правнук существовал.
Я протер глаза и посмотрел в окно на снег. Да, он белый, настоящий и падает – нет нужды себя щипать; до Алабамы – тысячи миль, она далеко-далеко, там все уже умерли, и даже те, кто остались, забыли меня. А здесь белый человек Юджин встал передо мной на колени и предложил сделать с его телом все, что угодно, но я любезно отказался, и завтра Миллисент Де Фрейн будет ждать меня в своей «гостевой» с новыми распоряжениями. Вдруг я прижал запястье к уху и прислушался. Оно билось – бедное смятенное сердце, все так же простодушно качая кровь, хотя качать было особенно незачем. Я закрыл альбом с полевыми цветами. Прижимая запястье к уху, я уловил запах собственного пота: по правде сказать, он сильно отличался от запаха Миллисент Де Фрейн или Илайджи, но мне показалось, что в целом он приятнее для общечеловеческого обоняния.
– Стоп! Смотреть только на Президента! – загудел голос Миллисент Де Фрейн, когда я собрался войти в гостевую. Впрочем, это непонятное замечание не остановило меня, и я прошагал прямо к ней.
– Смотреть только на… – начала она вновь, но конец фразы потонул в моем собственном изумленном крике.
Не могу сказать, что увиденное меня изумило, ведь я уже отвыкал изумляться, но оно все же поразило меня, поскольку я не был готов к такому именно зрелищу у нее в большой комнате. Во-первых, Миллисент стояла без трости или какой-либо иной опоры. Но наибольшее удивление вызвало, конечно же, то, что прямо перед ней стоял на коленях Мим. Впрочем, на лице его не читалось ни раскаяния, ни подобострастия, и в действительности он смотрел так, словно сам высился над съежившейся Миллисент Де Фрейн.