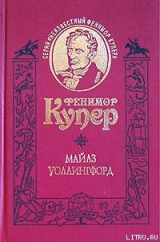
Текст книги "Майлз Уоллингфорд"
Автор книги: Джеймс Фенимор Купер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Последние страхуют только от крушения и несчастных случаев, вызванных стихией, в том числе пожаров; причем на застрахованном лице лежит правовое обязательство – заботиться о том, чтобы судно было надлежащим образом оснащено и укомплектовано людьми. Я полагал, что ничего бы не случилось с «Рассветом» во время недавнего шторма, если бы на его борту была вся команда полностью; а в том, что на судне не хватало людей, с юридической точки зрения, был виноват я. Я готов был позволить англичанам доставить его к ним в порт и ожидать судебного решения – закон подразумевает, что так отправляется правосудие. Здесь закон, возможно, глубоко заблуждается, но власти предержащие никогда не признают своих ошибок. Если бы во время задержки судна англичанами было допущено правонарушение, тогда по закону мне полагалось бы соответствующее возмещение убытков. Правда, задержка сама по себе могла бы разорить меня – ведь я был весь в долгах, – но закон с его прямолинейностью это нисколько не заботит. Когда бы я мог доказать, что понес убытки из-за упавших цен, возможно, я получил бы компенсацию, при условии, что суд вынесет приговор в мою пользу и противная сторона не станет обжаловать решение судьи, а если станет, то при условии, что последующие решения подтвердят первое; и если все определения суда будут в мою пользу – милорд Харри Дермонд, может быть, заплатит мне несколько тысяч в качестве компенсации. Но мыслимое ли это дело?
Я всегда брал с собой в плавание большой сундук, который приобрел в одном из первых своих походов; в нем я обычно держал деньги, одежду и другие ценные вещи. С помощью талей мне удалось вытащить этот сундук на палубу и переправить через борт на плот. Это было, пожалуй, самое трудное во всем предприятии. К нему я присовокупил мой ящик-секретер, матрас, два или три одеяла и несколько других легких вещей, которые, как мне казалось, могли пригодиться, но в то же время я в любой момент мог выбросить их в море, возникни такая необходимость. Когда все это было проделано, я счел мои приготовления законченными.
Сгущалась тьма, я изрядно устал и хотел спать. Вода прибывала очень медленно в последние несколько часов, но судно теперь осело так сильно, что мне казалось небезопасным оставаться на нем на ночь. Итак, я решил покинуть его и переместиться на плот. Кроме того, мне пришло в голову, что находиться слишком близко от судна, когда оно пойдет ко дну, тоже рискованно; едва я отошел от него на небольшое расстояние, сгустилась тьма. Все же мне не хотелось далеко уходить от «Рассвета», поскольку мачты на его борту были более заметны для любого проходящего судна, чем небольшой парус, который я установил на плоту. Если бы «Рассвет» продержался на поверхности воды в течение следующего дня, эти мачты увеличили бы мои шансы на спасение; перед парусом, установленным на плоту, у них было преимущество – их было не так легко проглядеть.
Держаться подальше от судна было сложнее. Есть известное притяжение веществ, благодаря которому в штиль суда влечет друг к другу, и мне прежде всего нужно было преодолеть этот закон природы; затем придумать противодействие, не имея подходящих средств. Все же я был очень силен и обладал кое-какими моряцкими приспособлениями. Плот теперь, когда я укоротил его, был гораздо более маневренным, чем прежде; кроме того, я взял на плот комплект весел от баркаса, которые убрали в трюм, благодаря чему они и сохранились. Я взял их на плот, чтобы укрепить мой помост, или палубу, а два из них приберег, чтобы использовать по прямому назначению.
Обрубив верп и сбросив некоторые снасти, которые я приспособил, чтобы держаться рядом с судном, я стал отваливать; солнце тем временем уже уходило за горизонт. Все время, пока я шел рядом с судном, у меня получалось неплохо, потому что я не стал выходить на траверз, а держался за кормой, рассчитывая на то, что получу большую скорость, выйдя из-за подветренного борта. Я сказал «подветренного», но не было ни дуновения ветерка, ни движения воды. Я привязал трос к шлюпбалке и, встав на сундук и привязав к нему ступни, вскоре преодолел vis inertiaenote 135Note135
Силу инерции (лат.).
[Закрыть] плота; я напряг все силы, как только он подался, и мне удалось сообщить плоту импульс, благодаря которому он оттолкнулся от судна. Признаться, сам я не боялся утонуть, если вдруг судно пойдет под воду, когда плот будет находиться в непосредственной близости от него, но бурное движение воды могло бы повредить плот или смыть большую часть моих запасов. Чтобы этого не случилось, я стал усиленно работать веслами и старался сделать все, что в моих силах, дабы придать ходу моей неповоротливой посудине. Не жалея сил, я трудился битый час; по истечении этого срока ближайший к судну конец плота находился примерно в ста ярдах от гакаборта «Рассвета». Это была черепашья скорость, и я понял, что мне не спастись, если меня не заметит какое-нибудь проходящее мимо судно.
Вконец измучившись, я лег и заснул. Я не принимал никаких мер предосторожности на случай, если ночью поднимется ветер; во-первых, это представлялось мне маловероятным – так безмятежны были небеса и сам океан, и, потом, я был уверен в том, что если погода изменится, шум волн и завывания ветра разбудят меня. Как и в предыдущую ночь, я сладко спал и проснулся бодрый, полный сил, готовый к любым испытаниям. Как и накануне, меня разбудили теплые лучи восходящего солнца, светившие мне в лицо. Пробудившись, я сначала толком не понял, где я нахожусь. Однако мне хватило одной минуты, чтобы воскресить в памяти прошедшее, и я стал осматриваться, пытаясь оценить свое нынешнее положение.
Я поискал судно там, куда смотрел топ мачты, и в той стороне, где я в последний раз видел его, – но тщетно. Я подумал, что за ночь плот развернулся, и медленно обвел глазами всю линию горизонта – нигде ничего. «Рассвет» затонул ночью, да так тихо, что я и не заметил! Я содрогнулся при мысли о том, что сталось бы со мной, если бы я пробудился от сна временного только для того, чтобы испытать предсмертную агонию и погрузиться в сон вечный. Не могу описать, какое чувство охватило меня, когда я огляделся и увидел, что плыву посреди океана на маленьком помосте площадью десять квадратных футов, возвышающемся над поверхностью воды меньше, чем на два фута. Только теперь я ощутил всю хрупкость моего положения и постиг все его опасности. Прежде судно как будто заслоняло их от меня, в его соседстве я как бы находил защиту. Но теперь мне открылась вся правда. Даже умеренный ветер может поднять волну, которая обрушится на помост и непременно сметет все на своем пути. Мачты, правда, обладали особой легкостью, они никогда не пошли бы ко дну, разве только со временем, когда насквозь пропитаются водой и обрастут ракушками; с другой стороны, они вовсе не обладали плавучестью судна и не могли подняться над стихией настолько, чтобы увернуться от бурунов.
Это были отнюдь не утешительные размышления; они тяжелым бременем лежали на моей душе даже на утренней молитве. Отправив, как мог старательно, эту каждодневную обязанность, я немного подкрепился, впрочем без особого аппетита. Затем я получше разместил на плоту свои пожитки, оснастил и поставил мачту, поднял парус как сигнал для судна, которое могло появиться неподалеку. Я надеялся, что вскоре подует ветер, и не обманулся в своих ожиданиях – около девяти подул умеренный норд-вест. Этот ветер принес мне несказанное облегчение. Он освежил мое тело, изнывавшее от летнего зноя – солнце нещадно палило над бескрайней водной пустыней, – и оживил картину, которая иначе была бы удручающе монотонной. Этот ветер подул мне прямо в лицо, так как я установил свою мачту на прежней фок-мачте, принайтовил к основанию топа, который теперь стоял вертикально, и прикрепил ее к топу и юферсам; весь такелаж стеньги остался на месте, как тогда, когда она вертикально стояла на судне, хотя теперь она плавала в воде. Сломанную часть фок-мачты я приспособил под водорез, и, конечно, мне пришлось сделать поворот через фордевинд, чтобы хоть немного набрать ход. На один этот маневр у меня ушло четверть часа – мои брасы, галсы и шкоты не особенно хорошо работали. Однако за это время мне удалось развернуться и обрасопить мой единственный рей.
ГЛАВА ХХIII
Они уставились взорами друг на друга, глаза их выражали полное изумление, само молчание их было красноречиво, выражение лиц заменяло слова; они казались людьми, услыхавшими об искуплении или разрушении целого мира. Удивление их все росло, но со стороны, не зная причин его, нельзя было сказать, что волнует их – радость или горе. Во всяком случае, то, что они узнали, было чрезмерной важности.
Шекспир. Зимняя сказкаnote 136Note136
Перевод П. Гнедич.
[Закрыть]
Когда плот стал по ветру и ветер посвежел, я смог уяснить себе возможности моего нового плавучего средства. Бом-брамсель был большой и держался хорошо. Я взял с собой лаглинь, квадрант, грифельную доску и стал подумывать о том, чтобы вести счисление пройденного пути. Я полагал, что судно, когда настал штиль, находилось в двухстах милях от земли, как я знал доподлинно, на широте 48°37". Лаглинь все утро показывал, что плот шел со скоростью пол-узла, и если бы мне удалось при этой скорости в течение пятнадцати – шестнадцати дней держаться прямого курса, я мог даже надеяться, что достигну земли. Однако я не позволял себе возлагать надежды на такое чудо; впрочем, если бы я попал в полосу западных ветров, это могло бы случиться. Отрубив два рея или развернув их вдоль плота, параллельно его ходу, я мог бы удвоить скорость движения, и я стал всерьез подумывать о таком решительном шаге. Мне не хотелось обрубать реи, ибо главным образом за счет них я держался на поверхности. Выбрав топенант, я придал им более наклонное положение и в некоторой степени уменьшил их противодействие ветру. Мне показалось, что только благодаря этой мере я прибавил ходу на пол-узла. Все же это было мучительно – за целый час пройти меньше мили, когда оставалось преодолеть двести, да еще океан постоянно грозил бедой!
Что это был за день! Одно время ветер весьма посвежел, и я стал опасаться за свой помост – свою палубу, которую несколько раз заливало водой, хотя марса-рей немного защищал ее от ветра и волн. На склоне дня ветер спал, а на закате море успокоилось, как и предыдущим вечером. Мне казалось, что я находился в восьми-девяти милях от того места, где затонул «Рассвет», впрочем, я не учитывал действия течений, которые могли отнести меня на такое же расстояние назад или вперед. На закате я пристально оглядел горизонт, высматривая, нет ли где какого-нибудь паруса; но ничего не было видно.
Еще одна тихая ночь принесла мне покойный сон. Я посчитал его покойным, потому что ничто не тревожило меня извне, между тем мне снились тяжкие, мучительные сны. Если бы я страдал от голода, мне привиделась бы еда, но провизии у меня было достаточно, и мои мысли потянулись к дому и друзьям. Долго я полуспал-полубодрствовал; потом мои мысли устремились к моей сестре, к Люси, мистеру Хардинджу и к Клобонни, которым, грезилось мне, уже завладел Джон Уоллингфорд, и теперь он торжествует победу и потирает руки, вспоминая, как обвел меня вокруг пальца. Потом мне представилось, что Люси выкупила имение и живет там с Эндрю Дрюиттом, перестроив дом на современный лад. Говоря «современный лад», я, конечно, не имею в виду псевдоклассицизм: даже больное воображение, тяжело переживавшее последствия катастрофы, не могло внушить мне, что Люси Хардиндж настолько глупа, что станет жить в таком здании.
К утру я погрузился в дрему в четвертый или пятый раз за ночь; помню, у меня возникло то странное ощущение, когда во сне ты осознаешь, что спишь. Среди прочих событий, которые прошли перед моим мысленным взором, я как будто стал свидетелем разговора между Марблом и Набом. Их голоса представлялись мне тихими и печальными, а слова звучали столь явственно, что я до сих пор помню весь разговор от начала до конца.
«Нет, Наб, – говорил Марбл, или мне казалось, что говорил, очень горестным тоном – мне раньше не доводилось слышать у него такой тон, даже когда он говорил о своем отшельничестве. – Теперь мало надежды, что Майлз жив. Когда рухнули эти проклятые мачты и я увидел, как его уносит от меня, тогда я и подумал, что бедный парень погиб. Ты потерял первоклассного хозяина, мистер Наб, скажу я тебе, и перебери хоть сто хозяев, а такого, как он, не найдешь».
«Я никогда не служить другой джентльмен, мистер Марбл, – отвечал негр, – вот те крест. Я родиться в семье Уоллингфорд, и я жить и умереть в этой семье, а по-другому я вообще никогда. Моя настоящая фамилия Уоллингфорд, хотя меня называть Клобонни».
«Да, поредела семейка, – заметил помощник. – Во-первых, они потеряли самую славную, самую красивую и самую добродетельную девушку во всем штате Нью-Йорк; я не знал ее, но как часто бедный Майлз рассказывал о ней; и как он любил ее, и как она любила его, и всякое такое; наверное, похоже на то, как я люблю малютку Китти, ну ты знаешь, Наб, мою племянницу, только в тысячу раз больше; а когда слышишь столько о человеке, это все равно, что – или даже лучше – чем когда знаешь его вдоль и поперек, и просто начинаешь всем сердцем почитать этого человека. Во-вторых, Майлз, как говорится, погиб, ведь судно наверняка затонуло, Наб; а то бы мы увидели, как оно плавает тут поблизости; так что внесем его в судовой журнал как человека, упавшего за борт».
«Может, не надо, мистер Марбл, – сказал негр, – масса Майл плавать как рыба, и он не такой джентльмен, который сдаваться, как прийти беда. Может, он плыть все это время». «Майлз может все, что в человеческих силах, Наб, но он не может проплыть двести миль, – думаю, какой-нибудь человек с Сандвичевых островов еще мог бы, но они там все „водоплавающие“. Нет, нет, Наб, боюсь, нам придется оставить всякую надежду. Провидение, как говорится, унесло его от нас, и мы его потеряли. Эх! Я любил этого парня даже больше, чем янки любят огурцы».
Может показаться странным, что такое сравнение возникло в моем дремотном воображении, но Марбл часто употреблял его; и если то обстоятельство, что этот овощ можно увидеть на нашем столе утром, днем и вечером, подтверждает справедливость подобного сравнения, то следует снять с помощника обвинения в каком бы то ни было преувеличении.
«Все любить масса Майл, – говорил – или мне казалось, что говорил, – добрый Наб, – я просто не знать, как мы приехать домой к старый добрый масса Хардиндж и сказать ему, как мы потеряли масса Майл!»
«Это будет непросто, Наб, но я очень боюсь, что нам придется это сделать. Однако теперь ляжем и попробуем соснуть, того и гляди, поднимется ветер, и тогда нужно будет смотреть в оба». После этого я ничего более не слышал, но каждое слово разговора, который я изложил здесь, звучало в моих ушах так явственно, словно собеседники находились в пятидесяти футах от меня. Я пролежал так еще какое-то время, пытаясь – мне самому стало любопытно – уловить или придумать еще какие-нибудь слова, которые могли бы произносить те, кого я так горячо любил; но ничто больше не нарушало тишины. Потом я, наверное, погрузился в более глубокий сон, ибо, что происходило в течение долгих часов после этого, я не помню.
На рассвете я пробудился – тревога не позволила мне больше спать. На этот раз я не стал дожидаться, пока солнце брызнет мне в глаза, и решил опередить его. Поднявшись, я обнаружил, что море столь же спокойно, как и в предыдущую ночь; был полный штиль. Еще не рассеялась сумеречная мгла, и мне понадобилось время, чтобы, обозрев окрестности, убедиться в том, что поблизости ничего нет. Горизонт еще не прояснился; сначала я посмотрел на восток – там предметы виделись более четко. Потом я стал медленно поворачиваться, изучая бескрайнюю водную пустыню, пока не оказался спиной к восходящему солнцу, лицом к западу. Мне почудилось, что я вижу лодку в десяти ярдах от себя! Сначала я принял ее за мираж и потер глаза, чтобы убедиться, что я не сплю. Она не исчезла, и, еще раз взглянув на нее, я увидел, что это было не что иное, как мой собственный баркас, тот, в котором бедного Наба унесло за борт. Более того, он шел себе обычным образом, прекрасно держался на поверхности, и на нем были установлены две мачты. Правда, он казался темным, какими обыкновенно выглядят предметы на рассвете, но его было довольно отчетливо видно. Ошибки быть не могло; это был мой баркас, который ниспослало мне милостивое Провидение.
Следовательно, лодка выдержала шторм, а потом ветры и течения пригнали ее к плоту. Что же стало с Набом? Должно быть, это он оснастил ее мачтами, ибо ни одна из них, конечно, не стояла, когда они были в полуклюзах. Правда, мачты, паруса и весла всегда хранились в баркасе, но должен же был кто-то установить мачту. Странное, безумное чувство охватило меня, словно при виде чего-то сверхъестественного, и почти непроизвольно я крикнул:
– Эй, в лодке!
– Эге-гей! – раздался голос Марбла. – Кто кричит?
Фигура помощника показалась над бортом лодки, в следующее мгновение Наб возник рядом с ним. Значит, разговор накануне не приснился мне, а те, которых я оплакивал, стояли в тридцати футах от меня, целые и невредимые. Баркас и плот подошли друг к другу в ночи: как я узнал позже, баркас несколько часов шел по ветру, и штиль остановил его примерно там, где я теперь нашел его и где произошел разговор, часть которого я услышал сквозь сон. Если бы баркас держался того же курса еще десять ярдов, он бы ударился о мою фор-стеньгу. Вероятно, в ночи ветры и течения держали лодку и плот рядом, а может быть, медленно влекли их друг к другу, пока мы спали.
Трудно сказать, кто больше изумился этой встрече. Вот Марбл, которого, как я считал, смыло с плота, в добром здравии стоит в баркасе, а я, который, как они оба полагали, затонул вместе с судном, стоит целый и невредимый на плоту! Мы как будто поменялись местами, независимо друг от друга и не надеясь когда-либо увидеться снова. Тогда мы понятия не имели, каким образом все это случилось, но, когда каждый уверился в том, что это не сон и его товарищ стоит перед ним живой, мы сели и заплакали, как дети. Потом Наб, не дожидаясь, пока Марбл управится с баркасом, бросился в воду и поплыл к плоту. Забравшись на помост, добрый малый принялся целовать мне руки, не переставая реветь, как трехлетнее дитя. Эта сцена прерывалась только упреками и криками помощника.
– Что ты такое учинил, ты, проклятый негр? – закричал Марбл. – Покинул свой пост и оставил меня здесь одного управлять этим тяжелым баркасом. Ты что, хочешь, чтобы мы опять все сгинули, если вдруг налетит ураган и разнесет нас в щепы?
Дело в том, что Марбл устыдился той слабости, которую он обнаружил в нашем присутствии, и он готов был наброситься на кого угодно, чтобы скрыть ее. Наб, однако, положил конец этой вспышке; он снова бросился в воду и поплыл обратно к лодке так же охотно, как только что кинулся к плоту.
– Эх, ты, Наб, негритянская твоя порода, никакого от тебя толку, – ворчал помощник, который все время возился с двумя веслами, вставляя их в уключины. – Как-то я слышал одного великого певца в Ливерпуле; так он такие выводил трели в конце песни, как будто сам не знал, кончить или дальше петь. Нельзя мужчинам забываться, Наб; если даже мы нашли того, кого считали погибшим, это не причина, чтобы покидать свой пост или терять всякое соображение… Майлз, дорогой мой. – Он вспрыгнул на плот, а Наб остался один в лодке, которая получила импульс от прыжка и подалась назад. – Майлз, дорогой мой, слава Богу, ты жив! – Он сжал мои руки в своих, словно клещами. – Я не знаю почему, но с тех пор, как я нашел свою мать и малютку Китти, я стал как баба. Это, наверное, и называется семейное счастье.
Тут Марбл снова не выдержал и заревел так же громко, как
Наб.
Спустя несколько минут мы все трое пришли в себя и стали соображать, что делать дальше. Баркас подогнали к помосту, и мы сидели на них, рассказывая друг другу, как каждый из нас спасся. Вот что случилось с Набом: я уже рассказывал, как баркас унесло за борт, и по неистовству бури и по высоте волн, которые свирепствовали вокруг нас, я заключил, что он затонул. Правда, ни Марбл, ни я не видели баркас после того, как он исчез за первой же водяной горой с подветренного борта: на нас навалилось слишком много дел, и у нас просто не было времени оглядеться. Но негр, оказывается, смог удержать лодку в нужном положении и, вычерпывая воду, держать ее на плаву. Бедняга, конечно, несся под ветер и живо поведал нам о том, что он почувствовал, когда увидел, с какой скоростью удаляется от судна и как он потерял из виду оставшиеся на нем мачты. Как только позволил ветер, он установил мачты на баркасе, поставил два зарифленных рейковых паруса и сделал несколько галсов бейдевиндом длиной три-четыре мили в наветренную сторону. Может быть, благодаря этому своевременному решению нам всем в конце концов удалось спастись. Через несколько часов после того, как он обуздал лодку, он мельком увидел фор-бом-брам-стеньгу, торчавшую из верхушки волны, и, вглядевшись в нее, в следующее мгновение увидел весь плот, поднявшийся на гребне той же волны вместе с Марблом, принайтовленным к топу мачты и наполовину погруженным в воду. Прошел час, прежде чем Наб смог подойти поближе к плоту, или обломкам мачт, и дать знать Марблу о своем присутствии, и еще какое-то время, прежде чем он смог перетащить Марбла в лодку. Видимо, не так-то скоро подоспела помощь, ибо помощник признался мне, что он почти ушел под воду и не знал, сколько еще продержался бы, когда бы не Наб со своей лодкой. Еды и воды у них было достаточно. В каждой лодке, согласно моему постоянному приказу, хранился бочонок с пресной водой, и кок, который любил вкусно поесть, имел обыкновение припрятывать для себя в носовой части баркаса то мешок с галетами, то отборные куски говядины и свинины. Наб обнаружил все это, правда немного подпорченное соленой водой, но вполне пригодное для употребления в пищу. Таким образом, когда мы встретились, в баркасе было достаточно провизии для Марбла и Наба на целую неделю.
Когда Наб снял Марбла с плота, помощник не стал менять курс баркаса. К несчастью, он прошел слишком далеко к северу, намереваясь сделать поворот оверштаг и пройти мимо того места, где, как он полагал, должно находиться судно. Таким образом, в то время как баркас шел на ветер, я набрел на плот и завладел им. В общем, Марбл не ошибся в расчетах, но приблизился к «Рассвету» в ту ночь, когда судно затонуло, а плот и лодка были слишком низкими, и поэтому не могли заметить друг друга, каково бы ни было расстояние между ними. Вероятно, мы находились в десяти – двенадцати милях друг от друга большую часть дня, который я провел на плоту, – около трех часов пополудни Марбл положил руль по ветру, чтобы попасть к предполагаемому месторасположению судна. Это и привело его к плоту около полуночи, когда в нескольких ярдах от меня и произошел изложенный мною разговор, между тем как ни я, ни Марбл с Набом не подозревали об этом соседстве.
Меня тронуло то, как Марбл и Наб говорили о моей предполагаемой гибели. Никто из них как будто не помнил, что его смыло с судна, они воображали, что бросили меня одного на тонущем корабле посреди океана. В то время как я оплакивал их, они скорбели обо мне, а их собственная участь казалась им более счастливой. Они думали только обо мне и даже не упомянули о том, как тяжело пришлось им самим. Я не мог выразить, что я чувствовал, но события того утра и чувства, которые обнаружили два моих товарища, оставили в душе такой след, который время не стерло и не способно стереть. Было бы естественно, если бы люди, которых смыло волной за борт корабля, считали себя пострадавшей стороной, но за все время долгого разговора, последовавшего за нашей встречей, и Марбл и Наб рассуждали так, будто именно я пропадал, а теперь нашелся.
Больше часа мы, забыв обо всем, пытались восстановить прошедшие события, а потом все-таки вспомнили, что пора подумать о будущем, о нашем теперешнем положении, которое, надобно заметить, было довольно рискованным, хотя Марбл и Наб не придавали значения опасностям, подстерегавшим нас впереди. Каким-то чудом я спасся от верной гибели, и ни о чем другом они не хотели и думать. Однако, когда встало солнце, с востока подул ветер, я заметил, как заходил плот, и вскоре убедился в том, что мое прибежище было весьма ненадежным и опасным; если бы Провидение не вызволило меня, долго бы я не продержался. Для Марбла же теперешнее положение по сравнению с тем, в котором он так неожиданно оказался, без еды, воды и каких бы то ни было припасов, было чем-то вроде рая. Тем не менее нельзя было терять времени и считать, что опасность миновала, – нам предстояло пройти долгий путь в лодке.
Мои товарищи привели баркас в надлежащий вид, насколько позволяли обстоятельства. Но в нем не хватало балласта для того, чтобы должным образом установить паруса, и они ощущали этот недостаток, особенно Наб, когда он первый раз поставил лодку носом на ветер. Как я уяснил из его рассказа о трудностях и опасностях, которые ему пришлось преодолеть (впрочем, он упомянул о них как бы между прочим, вовсе не желая превознести свое моряцкое искусство), безмерная, беспредельная любовь ко мне не позволила ему держаться по ветру, чтобы спасти свою жизнь. Теперь представилась возможность исправить положение, и мы принялись переносить на баркас все пожитки, которые были на помосте. Даже такой небольшой груз сразу придал судну остойчивости. Затем мы все перешли на него, поставили паруса и пошли на ветре под зарифленными рейковыми парусами – ветер посвежел и стал порывистым.
Я расставался с плотом не без сожаления. Доски, из которых он был сколочен, было все, что осталось от «Рассвета». Да и мог ли я забыть те несколько часов одиночества, полные риска, которые я провел на нем? Я до сих пор явственно вспоминаю их и погружаюсь при этом в глубокие и благотворные размышления. В течение первого часа после того, как мы пустились в путь, мы держались к югу. Ветер крепчал, волны вздымались все выше, наконец ветер посвежел настолько, что баркас уже не мог двигаться вперед и даже держаться против ветра. Марбл подумал, что если он сменит галс, то дело пойдет лучше, – ему казалось, что нам препятствует одно из течений, направленных на юго-восток, – и мы сделали поворот через фордевинд. Довольно долго мы держались к северу и снова набрели на плот – это говорило о том, что мы нисколько не продвинулись в наветренную сторону. Я тотчас решил пришвартоваться к плоту и использовать его как плавучий якорь, пока не спадет противный ветер. Это было не просто, но в конце концов удалось подойти довольно близко к подветренной стороне марса и пришвартоваться к одному из рым-болтов с помощью небольшого куска троса, который нашелся в баркасе. Потом мы отошли на достаточное расстояние от подветренного борта плота, и баркас пошел против волны, подобно утке. Это была настоящая находка, да еще ветер вдруг посвежел и немного заштормило.
Как только баркас пришвартовался к плоту, мы тотчас по достоинству оценили преимущество такого соседства. Он больше не зачерпывал воду, разве совсем немного, и нам не приходилось остерегаться шквалов, которые с нешуточной яростью обрушивались на нас каждые десять – пятнадцать минут. В эти моменты погода хмурилась, временами мы по полчаса не видели ничего в ста ярдах от лодки из-за измороси, густым туманом окутывавшей все вокруг. А мы сидели себе, как ни в чем не бывало, беседуя то о прошлом, то о будущем – пузырек на поверхности свирепых волн Атлантики, – исполненные свойственной морякам самоуверенности. Мы сидели в прочной лодке, у нас было достаточно пищи и воды, и никто из нас, похоже, особенно не опасался за свою жизнь; в умеренную погоду на баркасе можно было добраться до какого-нибудь английского порта примерно за неделю. При благоприятном, пусть и не очень крепком, ветре мы могли бы достигнуть порта даже за два-три дня.
– Понятное дело, Майлз, – заметил Марбл в ходе нашей беседы, – что страховка покроет все твои убытки. Ты не забыл включить фрахт в страховую сумму?
– Отнюдь нет, Мозес, я считаю, что я почти или совершенно разорен. Гибелью судна мы, без всякого сомнения, обязаны действиям «Быстрого», да и нашим собственным, когда мы пустили по течению этих англичан. Ни один страхователь не возьмется оплачивать полис, который таким образом стал просто недействительным.
– Вот мерзавцы! Значит, дело обстоит хуже, чем я думал; но ведь ты всегда можешь бросить якорь в Клобонни.
Я как раз собирался объяснить Марблу, какое отношение я имею теперь к отцовскому поместью, как вдруг над баркасом нависла какая-то тень, и в тот же миг волны как будто поднялись выше прежнего. Все мы сидели лицом к подветренному борту баркаса и одновременно повернули головы к ветру. Из груди Марбла вырвался крик; от зрелища, которое представилось моему взору, сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди. Буквально в ста футах от нас шел большой корабль, рассекая волны так, что они поднимались до самых клюзов, вздымая и оставляя за собой гору пены; он надвигался на нас, поставив бом– и ундер-лисели, бросив на воду исполинскую тень, подобно огромному облаку. Еще минута – и он обрушился бы на нас. Когда он поднялся на гребне волны, его черные, усеянные сверкающими каплями борта встали из воды, блеснув рядом грозных пушек, словно только что покрытых лаком. Наб был на носу баркаса, а я на корме. Я непроизвольно или, вернее, инстинктивно поднял руку, чтобы защититься от опасности, и мне показалось, что со следующей волной судно раздавит нас яркой медью своего днища. Если бы не сила и мужество Наба, мы бы пропали; плыть к плоту против такой волны было безнадежно; даже если бы мы добрались до него, без еды и воды мы были бы обречены. Но Наб схватил трос, которым мы были привязаны к плоту, нашему «якорю», и оттянул баркас в сторону на расстояние, равное примерно его длине, прежде чем становым якорем левого борта нас чуть не разнесло в щепки. Я даже прикоснулся к жерлу третьей пушки, когда судно, вспенивая воду, шло мимо нас. В следующее мгновение оно миновало баркас; мы остались целы. И тут же дружно закричали во весь голос. До тех пор никто на фрегате и не подозревал о нашем существовании. Но криком мы подняли тревогу, и на гакаборт высыпали офицеры. Среди них был один пожилой человек, в котором я по форме распознал капитана. Он поднял руку вверх, и, поскольку гакаборт в один миг опустел, я заключил, что он тотчас отдал какой-то приказ.








