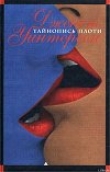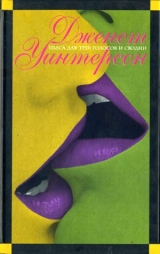
Текст книги "Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь"
Автор книги: Дженет Уинтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Есть и исключения, но исключения бывают в каждой ситуации, каждом классе, и я не только о викторианских супермоделях-бунтарках вроде Крошки Нелл или Крошки Доррит: обе сразу же простили бы меня за лишение как одной, так и обеих грудей, а Крошка Нелл – еще и без наркоза. Где-то должен существовать жуткий ад для головорезов и мучителей, о котором не помышлял Данте, где две Крошки стояли бы рядом с пуччиниевскими Мими и мадам Баттерфляй, в углу сидела донна Анна, а за всем присматривала святая Агата и заставляла мерзавцев рыдать и молить о прощении лишь тем, что доводила мученичество до логического завершения; подобная бесчеловечность намного бы превосходила бесчеловечность этих тварей.
Тварь ли я? Газеты говорят, что да: «БЕССЕРДЕЧНЫЙ ДОК В ГРУДНОМ ФАРСЕ».
Так много лет назад… Если сейчас вытянуть пальцы, смогу ли я снова прикоснуться к ней? Окровавленные пальцы, человек под маской, вдыхающий стерилизованный воздух, его рот прикрыт – если он и наклонится, то не заразит вас. Его губы над вашей щекой, однако он не вас поцелует. Ваши глаза закрыты, вы ждете его поцелуя. Но он выпрямляется.
Женщина на белой каменной плите, женщина на мерзлой земле. Женщина доверила ему свои груди, взяла его длинные пальцы и положила их на свои груди, восемь холодных ножей на ее теплых грудях. Я извиняюсь. Извиняюсь. Извиняюсь.
– Гендель, перестань извиняться, ты вовсе не обязан заниматься со мной любовью.
Под общим наркозом человек слышит все.
Человек в поезде потерял сознание. Свет бил его по щекам, но не мог оживить. Человек слышал голоса вдалеке – они звали, звали его сквозь плотный воздух…
– Гендель, когда ты вырастешь, то должен будешь принести в этот мир немного добра.
– Грехи плоти или грехи совести?
– Ты эякулировал в эту женщину?
– Ты не обязан заниматься со мной любовью.
Голоса перевязывали его руки и ноги золотыми бинтами. Его мумифицировали в мертвом воздухе, он должен дышать, дышать, но на его ноздрях лежала ткань, смоченная в меду. Медоносные слова, разве не он говорил их? Разумный человек с музыкальным голосом: «Вам не о чем беспокоиться. Ничего страшного. Идите и одевайтесь».
Его плоть, нагая перед ее зеркалом, мальчики в стойле ждут, когда их охолостят.
Чья-то плоть, нагая перед ним, упругий коричневый сосок под узором его пальца.
Свет перилами вкруг его тела. Ему не проскользнуть. Свет огородил его. Он должен отвечать, но не позлащенными устами, а языками пламени.
Сапфо
Долл была куклой Фортуны. Фортуна ходила в ее платье, Фортуна ездила на позолоченных колесах ее кареты, Фортуна жила среди ее штор, драпировок, хрусталя и фарфора из-за Вечной Стены. Дорогая посуда прибывала через Голландию в частных кубышках ее любовника, который был Императорской Особой. Так она получила то, чего не было у самого Короля Англии: фарфор. Но сегодня, мглистой зимой, когда улицы угольно-черны, не за крохотные пиалы и блюдца она молча благословляла своего желтого бездельника. В знак любви он, полу в шутку, полувсерьез – подарил ей предмет непостижимый, изысканный, полупрозрачный, крепкий, изукрашенный синим барельефом – похотливыми любовниками. Именно его Долл носила на кожаном ремешке, и он ее успокаивал. Любая блуждающая рука обнаружила бы его в полной готовности. Долл поправила талисман и распахнула дверь «Петуха и Пушки».
(Сапфо написала на полях книги: «Где мне взять такой же?»)
Устеленный соломой пол. Резные скамьи. Дымное пламя, на котором жарится поросенок. Где Руджеро?
Мальчик красиво разоблачал матроса, и Долл, к своему удивлению, почувствовала, как ее фарфоровый талисман распухает, ухватилась за него. Мужчина улыбнулся ей и жестом указал на Задние Комнаты. Она покачала головой. Где Руджеро? Она протиснулась между двумя спущенными с бедер нижними юбками – неужели?… Он или?… Долл подошла к очагу, но мужчина, сжимавший каминными щипцами соски своего любовника, оказался вовсе не ее любовью. Она ошиблась. Где Руджеро? Она отошла и задумалась: есть ли смысл в Погоне? Зачем сломя голову мчаться в горы, если любой мужчина может наслаждаться любой долиной, что ему по нраву?
Она пила. Она ждала. Она проголодалась, но есть не могла. Мужчины, игравшие в «Залей Огонь», обдули свинью. Туша парила аммиаком.
Она вздыхала. Она ждала. И все это ради любви? Где Руджеро? Не принимала ли она их прямо из материнского лона? Не учила этих желторотых мальчишек тянуться за медовыми сотами? Не уговаривала этих олухов в мантиях и квадратных академических шапочках отложить угольники в сторону ради удовольствий компаса? Она показывала им, как найти точку и описать вокруг нее окружность. Как настоящий Колумб их неоткрытых берегов. Наносила их на карту, этих ученых дикарей, сколь простым бы ни был инструментарий. Заносила в свой маленький бортовой журнал под их личными координатами. Ей нравилось помнить мужчину по размерам. Не только по длине, но и по ширине, а также по пройденной дистанции. Она была терпимой и сговорчивой Долл. Естественно, во всем расчетливой и разумной, но с той любовью к музыке и стихам, коих, по ее мнению, не хватало Ньютону. Бывало, он приходил к ней – после того, как она только представила свои верительные грамоты, – и часто приносил с собой яблоко, но никогда не съедал его. Говорил, оно свалилось ему на голову, смотрел на него пристально, как предсказатель на хрустальным шар. Бедняга: она слишком часто отвлекала его, но он всегда возвращался к своему яблоку.
Ньютон говорил:
– Оно упало мне на голову. Почему?
– Яблонная плодожорка, – отвечала Долл.
Он ей по-прежнему нравился. Она любила свою работу, но любить мужчин? Ни за что на свете. Да, мужчины ей нравились, глуповатые, ребячливые, хвастливые. Как там говорил ее друг, мясник Джек Рез? «Что свинья, что мужчина должны иметь филейные части» [31]31
Loin (англ.)означает одновременно «филей» и «чресла».
[Закрыть].
Рядом с ней шлепнулся Щеголь и предложил ей свиные ножки. Но она хотела вовсе не свиных…
Время шло. Ну и пусть себе идет – Долл не стала бы его задерживать, Время и так ее слишком задержало. Она была вдвое старше Руджеро. Время прошло и забрало ее с собой в свой поезд.
Потерявшись в циферблате, она не заметила высокую женщину, которую под руку держал беспечный спутник. Они стояли у дверей, женщина слегка нервничала и беспокойно обводила глазами мужчин. Почувствовав, что за ней наблюдают, Долл оторвалась от своего кубка и подняла взгляд. Она узнала этот прямой нос – Императора его лица. Узнала чистые линии, высеченные из порфира, бледную кожу, отливавшую пурпуром у височных вен. Узнала изгиб его руки и беспокойные пальцы. Узнала его прямую спину и отвес позвоночника. Узнала нежную тяжесть его белого мяса, хотя не знала ее никогда.
На ее губах застыл жир свиных ножек.
Она встала и подошла к женщине; та вспыхнула и слегка поклонилась, прикрывшись веером.
«Пусть скрывается за всеми веерами Востока», – подумала Долл, яркая голова которой тоже начала вставать на востоке…
Она протянула руку Руджеро, проводила женщину к темной скамье, села рядом и вынула из нижнего кармана тот переплетенный том, «Поэтические труды Сапфо».
Мудрая Сапфо? Разве мудро любить образ, а не идола?
Открой книгу. Что она говорит?
Древние греки с их живым артистическим инстинктом ставили в покоях новобрачной статую Гермеса или Аполлона, чтобы девушка смогла выносить детей, красивых, как те шедевры, на которые она будет смотреть в экстазе или боли. Они знали, что жизнь черпает из искусства не только духовность, глубину мысли и чувства, душевную тревогу или душевное спокойствие, но может воплощаться в тех же самых формах и красках, воспроизводя как достоинство Фидия, так и грацию Праксителя. Именно поэтому греки возражали против реализма. Не любили его по чисто социальным причинам. Чувствовали, что он неизбежно уродует людей, и были совершенно правы.
Образ – не кумир. Образ запечатлевается на сетчатке, повторяется на обратной стороне век, сохраняется в ромбовидном мозге и возвращается в тело инъекциями эмоций. Сила образа действует сквозь ничего не забывающий мозг.
София, не тебя ли я видела ночью на краю парапета? Белокрылую, в волнах красоты, смыкавшихся над моей головой? Равноденственные волны, что бьют по луне. Море на ринге гавани и луна в такелаже.
Видела ли я тебя еще раз или у меня пигментная дегенерация сетчатки? Я видела твои цвета в белом, разложенном на радугу, прозрачный ангел в мешковатом одеянье.
Что я видела, когда смотрела на тебя? Сочетание молекул, возбужденных светом? Видение себя? Видение тебя? Тебя такой, какая ты есть, неподвластной тьме, сбросившей сеть, пленившую тебя. Сетями пользуются гладиаторы и пауки, но никто не утверждает, что сети их – для страховки. Кто лгал тебе и наложил на тебя узы? Кто говорил, что эти сети – для твоего же блага? Злоба ретиария-невольника на полет?
Это было давным-давно. Я поймала ее, когда она падала, вертясь колесами боли. Поймала тело, обремененное скорбью. Она падала из прошлого через иллюзорное настоящее в будущее своей любви. Любви – которой, как и милосердию, нет места в собственном доме.
Вот как все случилось: утром в Рождество, три года назад, когда повсюду сугробами высился глубокий снег. Я была с друзьями, но бросила их теплую компанию, чтобы уйти в мерзлое изгнание улиц. Я была одна, лишь тощий пес откапывал из снега кость. Одна, лишь черный блудный кот на остекленевшей стене. Одна среди морозом схваченных звезд.
Была ли я одна? Я подняла глаза как раз, когда она рухнула с неподвижной крыши в подвижный воздух. Нагую, беззвучную в безмолвном воздухе. Я подбежала туда, где упала она, и нашла ее – у себя над головой, бесчувственную, на белом алтаре, еще мягком после недавнего снегопада. Из ее рта сочилась кровь.
Я накрыла ее своим пальто и принялась звонить в темный дом с засовами на двери. Сколько лет прошло, прежде чем зажегся свет и злой голос пригрозил мне полицией?
Полиция приехала. Сиплые патрульные машины собрались у ее тела в непристойный круг, дверцы распахнуты, мигалки вспыхивают, слезы родных прорезает стаккато раций. «Скорая помощь», белая, стерильная, бесспорная. Мрачные люди на рождественском дежурстве, по одному с каждого конца хлипких носилок. На ней уже одеяла. Ее тело, вялый куль красных одеял; красных, чтобы скрыть кровь и скрученную штопором ногу.
Я незаметно ушла, но лишь после того, как взяла ее за руки и поцеловала. Сказала:
– Я вернусь. – Сказала: – Открой глаза, пожалуйста, открой же глаза!
Вот и все, что я сказала и сделала в те ужасные минуты, пока ее родные бегали взад и вперед по долгому вестибюлю, вызывая полицию.
Я думала, она умрет. Я прижалась щекой к ее губам и не почувствовала дыхания. Поцеловала ее, пытаясь вдохнуть в нее всю мою собственную жизнь, жизнь жизни, и поцелуй был так горяч, что рука ее оторвалась от медленно отверзавшихся хладных ворот ее последнего пристанища. Я сказала:
– Я вернусь.
Я действительно вернулась, но ее уже не было. В доме темно, окна закрыты ставнями. Я возвращалась – не раз, множество раз, к глухим стенам и забитым дверям. Ни одной зацепки, кроме клочка бумаги, вынутого из ее руки. «То, что всего лишь живет, может всего лишь умереть».
Она не умерла. Ее спасло странное чудо. Чудо мягкого снега, прервавшего ее полет. Чудо холодного снега, остановившего кровь. Равнодушная погода и мои жаркие руки. Особенность времени года и случайной прохожей. Счастливые совпадения? Обыкновенные чудеса? Не имеет значения – значение имеет только ее жизнь. Жизнь, что значила для нее больше, чем плоть и кровь, больше, чем кукла-убийца, не могла испариться в ночном воздухе. У нее была душа, и эта душа жила. Я не знала, что погнало ее на крышу и швырнуло с нее. По своему опыту я знаю: самоубийство – не то, чем кажется. Слишком легко пытаться сложить кусочки рассыпавшейся жизни. Сначала дух разодран в клочья, и тело следует за ним. Трещины и дыры в сердце не поддаются рациональному измерению. Когда приборы бессильны, врач осуждает пациента. Говорит, что не находит никаких отклонений.
Врач сказал, что он не нашел никаких отклонений. Она здорова, у нее есть работа, она из хорошей семьи. Пульс нормальный. В самом деле? Ну, может, слегка учащенный.
Сердечный приступ. Может, сердце пыталось взять ее приступом? Ее сердце, с младенчества приученное к послушанию? Сердце, хорошо взнузданное на людях, приученное бегать рысью на корде. Сердце, знавшее Десять Заповедей, но послушное еще сотне. Сердце, выдрессированное, как собака, прибегавшее, когда зовут, никогда не рвавшееся с привязи. Сердце, тайно грызшее кости собственного тела. Сердце, слишком долго голодавшее, теперь пожирало ее. Ее сердце обратилось против нее.
Я видела, как ее сердце оборачивается снова и снова в кувыркающемся воздухе.
Видела, как ее сердце рванулось из пут и прыгнуло.
Это по ее сердцу я колотила обеими руками, встав на нее на колени, это мой рот кричал:
– Живи! Живи!
Она открыла глаза. Она выжила. Сознание возвращалось в ее разогнавшееся тело. Тело, которое в кружении секунд уже совсем было решило закончить работу. Тело, что пролетело сквозь силу тяготения, сквозь свет, выполняя собственное тайное задание во внутреннем космосе. Его скафандр слишком непрочен, чтобы выдержать напор лет в оставшиеся секунды. Перед глазами людей часто проносится прошлое – образы накапливаются в ничего не забывающем мозгу. Люди часто понимают: все материальные предметы ускользают, не прощаясь, а образ медлит и в конце концов одерживает верх. Такие картинки и впечатления, давно отрезанные от своего источника, остаются с нами, живые, как всегда, – живость духа против умирающей жизни.
Она увидела свое прошлое, сжатое в один мазок цвета, и цвет этот стал для нее мостом – не из времени, но сквозь него. Она не упала – она пересекла себя и на перекрестке этом освободилась.
Свободна. Свободна от нагого утеса, на котором застряла так надолго. От голой скалы, где лишь соль и чертополох. От сердца, избитого столько раз, что единственный дом для него – уединение. От обособившегося сердца, которое, защищая себя от боли, утратило столько красоты и решило купить себе жизнь ценой собственной жизни.
Лучше идти вперед, чем отступать. Лучше бороться с обидой, чем бежать от нее. Она не знала этого вплоть до быстрых секунд падения и, падая, взмолилась о крыльях. Взмолилась не от жалости к себе, не от раскаянья, но от признания. Вовсе не нужно умирать. Она еще поборется. Слишком поздно? Нет. Не для нее. Для нее это не слишком поздно.
Я возвращалась много раз, но нашла то, что потеряла, однажды ночью много лет спустя.
Мне нравится гулять по ночам, такая у меня привычка. Я гуляю по ночам, чтобы избавиться от слишком длинного дня. Слишком много дневного света, который притворяется, что показывает вещи такими, как они есть. Но естественного света не бывает.
Снова проходя мимо того дома – ему теперь грозил кран, – я подняла голову и посмотрела туда, где парапет встречался с платанами. Она стояла там. На самом краю, босиком, едва храня равновесие. Мне следовало испугаться, ибо история всегда повторяется. Прошлое рядится в новый свадебный покров и женится на будущем. Мне следовало испугаться, замахать руками и закричать, а не стоять, тихонько дивясь ее грации. Но я знала, что она не упадет. Знала, что риск ее – по иной причине. Знала, что она меня увидела, хоть я не видела ее лица.
Ляг рядом со мной. Дай увидеть все узоры твоих пор. Дай увидеть паутину шрамов, оставленных когтями твоих родных на тебе, как на их мебели. Дай увидеть раны, от которых они отреклись. Поле битвы с семьей, которым было твое тело. Дай увидеть разметку кровоподтеков там, где они стояли лагерем. Дай увидеть пункт назначения, в который они направились. Ляг рядом со мной, и пусть мой взор излечит тебя. Не нужно прятаться. Не нужно ни света, ни тьмы. Дай мне увидеть тебя такой, как ты есть.
– Я знаю вас? – сэр Джек вопрошающе.
– Я пришла повидаться с вашей дочерью.
– Ее нет.
Это случилось на следующий день – прийти раньше было бы неприлично, но я пришла недостаточно рано, чтобы ее застать. То был намек, и я его поняла. Последовала за ним на станцию, к утреннему поезду. По следу цвета, что оставлял на снегу пурпурную ленту. Она распутывалась. Разматывала серые года в одну яркую нить.
Фрагменты возвращаются кусок за куском: тело, работа, любовь, жизнь. Что может быть известно обо мне? Что я говорю? Что делаю? Что я написала? И что из этого – правда? Вернее – что больше правда? Память. Мои патентованные вымыслы. Не все фрагменты возвращаются.
Я не фрейдистка. Воспоминания – не каменная скрижаль, а метафора. Мета = над. Ферейн = нести. То, что несется над буквальностью жизни. Способ мышления, избегающий проблем гравитации. Слово не подведет меня. Единственное слово, что может освободить меня от всей этой невыразимой тяжести.
Крылатое слово. Летучее слово. Слово – и мотылек, и лампа одновременно. Слово, что выше самого себя. Слово, что не только оно само. Ассоциативное слово, светлое от смыслов. Слово, не плененное сетью смысла. Точное, широко раскрытое. Слово – не потаскуха и не инок. Несолженное слово.
Может, распутывать дни алфавитом? Не помечая их А, Б, В, но и не придавая буквам новой сокровенной лжи. Человека от остальных животных отличают две важнейшие черты: интерес к прошлому и возможность языка. Вместе они составляют третью – Искусство. Невидимый город, не предназначенный существовать. Вопреки высокопарным претензиям на официальность, намного позже театральному коварству политики, нравится вам это или нет, но он – остается. Прошедшее время, вечно настоящее, неуничтожимое.
А сейчас? Да, и сейчас он бросает вызов тем фрагментам, что есмъ я.
Подними взгляд. В нашей галактике, Млечном Пути – сто миллиардов звезд. Им нет до меня дела, этой непоколебимости звезд, их подношениям света – две тысячи лет. Они для меня – лишь самоцветы на моем саване. Я не могу их познать. Я не могу познать даже самое себя. Мне понятен ужас Паскаля: «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie».
Что способно уравновесить неравенство этого огромного пространства, что не заканчивается никогда, и моей ограниченной жизнью? Быть может, вот это: Царство мое не сводится к пределам поля брани моего тела, внутри у меня – пространства столь же безбрежные, если я сумею их покорить. Доказательства? Какие у меня могут быть доказательства – не Бог же, кто если и существует, то априорно, а потому не может служить доказательством, но искусство, что никогда не затрудняет себя фактами жизни, не изображает, как принято думать, и не выражает их, как нам хотелось бы надеяться, однако становится ею. Не образы, а фантазии, несущие в себе главные силы мира, и не только мира. Искусство разводит звезды.
Как подступить мне к смыслу моих дней? Я заарканю их, притянув к себе заверченной петлею слова. Слово тихонько приторочено к боку, а затем раскручено, сильное, точное – слово, что поймает время раньше, чем время поймает меня.
Поскакали со мной, пока позволит время, пока столько любви и красоты. Пустыня, по которой едем мы, цветет. Пора смотреть и видеть. Неужели я просто видоискатель? Потешить глаз и ехать дальше? Как разобраться с тем, что я найду? Какой в ней прок? Роскошь и краткость, попытка прикоснуться и увидеть, попытка понять.
Спасение, если оно все-таки придет, будет сознательным. Невежество – не путь к мудрости. Искренности чувств будет недостаточно. Слово меня разоблачит; я говорю, следовательно, я существую. Чтобы совпасть с немым красноречием сотворенного мира, мне пришлось научиться говорить. Язык, что его описывает, становится мной. Так осторожнее, та, кем я становлюсь, – по словам меня узнаешь ты. Слово передано сквозь время, время возвращено словом.
Язык неестествен, в нем нет ничего от естества, к чему притворство? Естественного света не бывает. Свет, при котором я читаю, искусственный. Страница освещает себя.
Мой чулан завален книгами – не непрочитанными, ненаписанными. Опыт, не переведенный в смысл. Сгнившие непреобразованными дни. Что мне писать? Не мемуары. Покойников на арену, Покойников на арену. Тот свет, что был у меня, оплывает и гаснет. Дело не только в том, что я стану лгать, а в том, что правду говорить не смогу. Не удастся вспомнить – предметы передо мной, и мне придется изобретать смутную историю для каждого. Есть ли что-то пагубнее честной лжи?
Я знаю, кратчайший путь к моим чувствам – самый невероятный. Не искренность эмоций, но искренность формы приведет меня к ним. Видишь ли, мне следует остерегаться ограниченности ума, шаблонных откликов – не моих, а всех остальных; так ли я на самом деле ощущаю? Откуда мне знать, что строки эти – мои, а не заемные? Откуда? Я придам им структуру, что формализует их, вытащит из общей купели эгоизма. Они – мои, но не я, мое собственное отдалено, отделено от меня узорами и формами, вынуждено держаться на расстоянии тем языком, что вернет его. Как только я обрету верные слова, чувство больше меня не покинет.
Недостаточно сказать, что я люблю тебя. Я знаю, ты уже это слышала.
Я люблю тебя. Слова эти не износились две тысячи шестьсот лет назад. Изношены ли они сейчас? Возможно, хотя не от повторения, а от напряжения. То, о чем я, можно выразить иначе… Иными словами, что годятся для этого бремени. Иными словами, что пришпилят меня к той честности, которая мне может не понравиться. В «я люблю тебя» можно скрыть так много. И я могу спрятаться в этом сентиментальном облаке.
Не буду я прятаться. Тут…
Ее лицо задумчиво в тени волос, под сенью их, волосы прикрывают его, как вуаль. В ее веках и губах – что-то сладострастное. Кожа отлита из жемчуга. Она – материя морская.
В ней – морская глубина, не только в глазах ее зеленых, но и в струящихся чертах ее лица.
Голова у нее крепкая, но не грубая. Из тонких волокон кости, оправленных белым, выстроена чистая клеть ее черепа. Проследи за линией. Изысканностью раковины, отшлифованной морем, линия эта выдает его твердость. Тяжелая голова гладка.
Поверни ее лицо к свету. Что могу прочесть я в ясновидении ее рта? В том разъятом пространстве, где дышит ее дух. На устах ее – мое будущее. Расскажи его мне… Ее губы на моих губах.
У нее высокие скулы. Башни-близнецы неспокойства. Неугомонные, когда она улыбается, вооруженные – когда нет. В лице ее – движенье ее дней.
Горло ее меня кромсает.
Любопытство и желание красоты – в равной мере. Их вспышки озаряют ее лицо. Она – тот свет, что освещает, но породили его не деревья и не древесина, наделенная даром горения; свет, что ее поглощает – ее собственный.
На лице ее игра света поразительна. Чистое восхищение – сосредоточенность, изгиб бровей, живая картина ее волос. Утонченная инсценировка нюансов природы и изощренности искусства. Да она же – шедевр, оригинальный и в то же время хорошо известный. Аплодировать ей? Обязательно, но я сделаю не только это: предложу ей красоту под стать ее собственной. Дар горения: Слово.
Что было вначале? Любимец муз или Муза?
Для самой Сапфо (лесбиянки, ок. 600 г. до Р. X., род занятий – поэт) всегда – и любимец муз, и муза. Писатель и слово. Тогда странно то, что остатки ее красоты должны быть погребены под банальностью фактов. И не фактов. Поиск истины испорчен старательной фальшью. Биограф, кладя руку на сердце, насилует прошлое. Биограф, расхититель могил и похититель трупов, торгует сенсационным прахом, а живой дух тем временем ускользает. Биограф – ходячий перечень горшков и кастрюль, дат и мест, аукцион и склеп в одной комнате.
От нее осталось так мало. Ее останки скандальны. Дразнящие кости шокируют и восхищают. И все же ясно: сохранись все ее строки до единой, биографам все равно бы не было дела ни до ее метра, ни до ее рифмы. Был бы единственный жгучий вопрос из горящей книги. Не Софокла, но Савонаролы с яростным лицом…
Что лесбиянки делают в постели?
– Расскажи им, – сказала София, Девятая Муза.
Рассказать?
– Автобиографий не бывает. Есть только искусство и ложь.
Налетай! Торопись! Искусство для всех, по два пенни за взгляд в щелочку. Предварительного опыта не требуется. Здесь каждый сам себе знаток.
Поп-культура – вот искусство, разве нет? Субъективная, романтическая, демократическая, всем доступная, хорошие отзывы в качественной прессе. Если им не нравится, значит, с ним что-то не так. Сомнительно пахнет? Что вообще с ним такое? И куда мне его теперь?
Все равно засунуть. И поглубже, как говорят на темных задворках за субботнюю пятерку. Времени мало. Засовывай глубже.
Культура часов. Пичкай меня, пока не лопну и не создам инсталляцию из этой жижи. Искусство? Глупости. Созерцательная жизнь? Я приглашен на обед. Сколько времени это займет?
Обедать? Вечность. Вечный обеденный перерыв. Дни напролет чавкать, как корова, и удивляться, почему все мясо на вкус – полова.
Время, что насмехается над тобой, и надо мной насмехается. Время с кривой усмешкой, что как серп, который оно с собою носит. Время воровато заглядывает в окно и подсовывает лезвие под дверь. Время ждет нашего прибытия. Время тщательно завело часы.
Высокий человек в капюшоне надул меня, когда я была ребенком. Срезал серпом полевые цветы и сплел мне колючий венок, который я не хотела снимать. Я ушла с ним рука об руку, дитя, увенчанное его странными цветами. Идти с ним рядом было легко – он приноравливал свой шаг к моему. Я так и не увидела его лица – только руки и плутовство долгих дней.
Когда же у него закончилось терпение? Когда он начал подгонять меня, торопить, хотя нас нигде никто не ждал? Мне было некуда идти. Почему солнце не успокаивало его, как раньше? Тихие дни и светящаяся вода. Дни после полудня, что длятся годами. Не он ли это – темная тень на речном берегу, непробужденная, непробуждаемая? В те дни он был глух и за каждый долгий ненавистный час бросал мне еще один, точно мягкий тряпичный мяч. Но я была счастлива, я забывала. Когда же он стал нетерпеливым?
Маленький венок из полевых цветов, сочные стебли и солнечные головки – окаменел. Я была с ним накрепко связана. Я – его крепостной. Теперь он ежегодно требует свою десятину, и я вяну на глазах. Каждый год урожай все меньше, но он собирает его все равно, каким бы скудным тот ни был.
Я увидела его лицо изблизи, странную кривую усмешку, что окаменело поворачивается ко мне, хотя мы с каждым днем движемся все быстрее. Есть и другие, все мы, скованные одной цепью на угольно-черном холме, сплетенные в пляске мертвых.
Я что, пытаюсь обмануть его париками, красками для волос, притираньями, мерзкими операциями, мерлушкой на бараньей туше? Вот она я, гарцую на задних лапках в заемной шкуре. Нужно идти в ногу с временами. Нельзя отставать от Времени. Когда же оно стало нетерпеливым?
Слишком быстро. Отбрось мои бальные туфельки и ползи на четвереньках. Тащи меня, как оно меня тащит, зная, что я за тварь. Умолять его? Оно по-прежнему глухо. Как бы я ни голосила.
И мы идем дальше, смазанное тело и обманутая душа. Почему никто не сказал, что нужно предусмотреть? Все, что у меня есть, лишь показуха. Все, что у меня есть, принадлежит Времени. Искусство? Глупости. Созерцательная жизнь? Где их дают? А что моей душе, пока Время тащит меня дальше? Что причитается моей душе?
Шепчи моей душе ее разлуку. Моей душе в витраже, размечающем красным и зеленым каменный пол. Моей душе, готовой воспарить с вершин, если мне удается ее на них втащить. Моей душе, что вместе со мной следит в ночи, когда и стул, на котором сижу я, ночь, и стол, с которого я ем, – ночь, и кровать, на которой я сплю, – ночь за ночью. Душе, что подносит фонарь к моему лицу, когда других надежд не остается.
Я надеюсь. А надежда во мне – из души, для души. Не нынешняя, действительная, поверхностная жизнь, а реальный, осязаемый мир образов. Я надеюсь, что реальный, осязаемый мир образов одержит верх.
Шепчи моей душе. Она так преходяща, эта жизнь, а идеи, что создают ее, есть дух, не плоть, и образы, что переживут ее, – тоже дух, не плоть. Лучшее во мне – не мое тело. Лучшее во мне – не каркас костей, не скелет, украшенный кожей, что восторгается изысканным ландшафтом, где из холма наискось торчат деревья. Оливы, стволы перекручены вервием, толстые тросы искореженной коры, кормящие хрупкую листву соками доброй земли. Оливки, виноград, земля, солнце, что пробивает кроны тонкими иглами света. По телу моему – солнечная акупунктура…
Она исцеляет меня, гонит красные потопы энергии через запертые шлюзы. Солнце на позвоночнике моем являет моим глазам цвета, синие и кроваво-алые. Ребра мои – ребра скалы, что подпирает жженый сахар почвы. Все это я, но есть и кое-что еще. Зачем откалывать от тела душу, а потом – и душу от себя?
Люби меня, София, этот очерк меня рукой, силуэт, рассказанный кровью. Возьми мою руку; что ты прочтешь на ней? Хронику долгой жизни и все забытые утраты. Но что остается, когда сказка рассказана? Что приведет тебя снова ко мне, если ты и так знаешь, что будет дальше? Только слова, изгиб красоты в полете, аркан, тугой и воздушный. Слова ради слов, они являются сами по себе. Слова, что выше информации. Слова, где нет сюжета. Сияющая рукопись, что освещает сама себя.
Читай меня. Сейчас же. Слова из твоих уст добавят тебе силы. Слова станут тобой. Читай меня вслух, пока не выучишь наизусть. Приподними лоскут кожи, и слово запоет. И на операционном столе – запоет. Погребенные, слова выгибают горбом могильные курганы. Пепел к пеплу, прах к праху, живое слово.
Шепчи моей душе. Есть ли она у меня? Нет другого объяснения моему томленью. Томиться: испытывать тягу к… ощущать страсть к… а еще что-то от горя, что-то от утраты, запертой в изменчивом мире.
О чем я томлюсь? Что, по-моему, я утратила? Подними взгляд. Десять миллиардов звезд и эта голубая планета. Когда-то мир был ограничен, скован реальными хрустальными стенами и настоящей небесной твердью. Звездный небосвод, крыша из звезд, щит этого выдающегося мирка. Его можно увидеть на фресках Кампо-Санто в Пизе. Раскрашенная игрушка в руках духа Логоса, через которого Господь все сотворил и научил пустоту говорить.
Я знаю, что для нас, живущих во тьме бесчисленных солнц, таких несомненностеи не существует. Подними взгляд. Черное небо ширится. Что я в нем?
Я не прошу утешений. И не претендую. Я не прошу утешений, но не надо мне лгать. Почему я должна сосуществовать с необрутализмом вселенной, если это неправда? Почему должна мириться с тем, что есть либо материальное, либо ничего нет вовсе? Будь это правдой, я была б довольна своим местом, как животные. У животных нет представления ни о чем за пределами их собственных миров. Они не мечтают о том, чего не знают. Дайте зверю достаточно еды, нужный ареал, и он будет доволен своей жизнью, долгой или же короткой. У него нет чувства смерти. Он не смотрит на звезды.