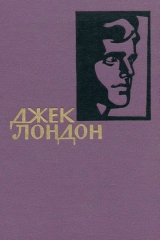
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 8"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати – смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.
Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию – или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины, – да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.
Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до», или «после того как я перешел в крахмальный» – вот слова, которые не сходили у него с уст.
Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.
После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. Теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они больше ели. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.
Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал еще более раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.
В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию: что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов, – и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого и весь его маленький мирок.
Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы еще более усталый, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали и причмокивали губами. Но Джонни был глух ко всему.
– Да знаешь ли ты, что ты ешь? – не выдержала наконец мать.
Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.
– «Плавучий остров», – объявила она с торжеством.
– А-а, – сказал Джонни.
– «Плавучий остров»! – хором подхватили Дети.
– А-а, – повторил он и после двух-трех глотков добавил: – Мне сегодня что-то не хочется есть.
Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.
– Я, пожалуй, лягу.
Проходя через кухню, он волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали толщиною с запястья, а кончики – ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход, челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.
На следующее утро он не вышел на работу. Он был занят другой работой – на тысяче ткацких станков, стучавших в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», – сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.
Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. «Еще неделя, – сказал врач, – и он вернется на работу». Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.
– Лучший ткач в цеху, – сказал он матери. – Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.
– Ты бы хоть поблагодарил, Джонни, – озабоченно сказала мать. – Он так был плох, до сих пор в себя не пришел, – виновато объяснила она гостю.
Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе было тепло, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.
На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.
– Что идет после миллионов? – спросил он в полдень, когда Вилли вернулся из школы. – И как их считают?
К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; оно особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала его смеха.
На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и спокойно заговорил:
– Ни к чему это, мама.
– Опоздаешь, – сказала она, думая, что он еще не проснулся.
– Я не сплю, мама, но все равно – ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.
– Да ведь работу потеряешь! – вскричала она.
– Сказал – не встану, – повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.
В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но тут было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом.
Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал пощупать свой пульс.
– Ничего особенного, – сказал доктор, – очень ослабел, конечно. Кожа да кости!
– Да он всегда был такой, – сказала мать.
– Теперь уйди, мама, дай мне поспать.
Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.
В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.
– Я ухожу, мама, – объявил он. – Давай простимся.
Она закрыла лицо передником, опустилась на стул заплакала. Джонни терпеливо ждал.
– Вот, дожила! – проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства. – а куда же ты пойдешь?
– Не знаю… куда-нибудь. Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог видеть его в любую минуту.
– А как же работа? – дрожащим голосом проговорила мать.
– Не буду я больше работать.
– Господь с тобой, Джонни! – заголосила она. – Что ты говоришь!
Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.
– Да что на тебя нашло? – спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.
– Цифры, – ответил он. – Цифры, только и всего, за эту неделю подсчитал и просто сам удивился.
– Не пойму, при чем тут цифры? – всхлипнула она.
Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом заметила, что его обычная раздражительность бесследно исчезла.
– Сейчас объясню, – сказал он. – Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней – триста шестьдесят тысяч. В месяц – миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч, – он сказал это с великодушием щедрого филантропа, – отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.
А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать! Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся! А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать… а потом опять отдыхать.
– А что будет с Вилли и с ребятишками? – в отчаянии спросила мать.
– Ну, конечно, Вилли и ребятишки… – повторил он.
Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.
– Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли – чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.
– А я-то тебя растила, – заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.
– Ты меня не растила, – сказал он кротко и грустно. – Я сам себя растил, мама! И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Теперь с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу…
Мать не отвечала. Она снова заплакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.
– Я ведь делала все, что могла, – всхлипывала мать.
Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.
– Теперь я ничего не буду делать, – сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился: яркое солнце ослепило его.
Ему предстояла долгая дорога, я он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи – одна безграничная жажда покоя.
Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека: заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая и страшная.
Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, он лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся, видимо, без всякой причины.
Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.
Безнравственная женщина
Лоретта отправилась гостить в Санта-Клару, потому что решила окончательно порвать с Билли. А Билли не мог понять этого. Его сестра сообщила, что он всю ночь ходил по комнате и плакал. Лоретта тоже ни на минуту не сомкнула глаз и проплакала почти всю ночь. Дейзи это было доподлинно известно, ибо как раз у нее на груди Лоретта выплакала свое горе. Знал об этом и муж Дейзи, капитан Китт. Слезы Лоретты и утешения Дейзи лишили и его драгоценных минут сна.
А капитан Китт, конечно, не собирался бодрствовать по ночам. Кроме того, ему вовсе не хотелось, чтобы Лоретта вышла замуж за Билли или за кого-нибудь другого. Он считал, что Лоретта должна помогать своей старшей сестре по хозяйству. Но вслух он этого не высказывал. Лоретта слишком молода, утверждал он, чтобы думать о замужестве. Именно поэтому капитану Китту и пришла в голову мысль отправить Лоретту гостить к миссис Хемингуэй. Там-то уж не будет никакого Билли.
Не успела Лоретта прожить в Санта-Кларе и недели, как убедилась, что идея капитана Китта была весьма разумной. Во-первых, хотя Билли и не поверил бы этому, ей действительно не хотелось выходить за него замуж. И, во-вторых, хотя капитан Китт и не поверил бы этому, ей действительно не хотелось расставаться с Дейзи. А прожив в Санта-Кларе целых две недели, Лоретта окончательно уверилась в том, что не хочет выходить за Билли. Однако она была далеко не так уверена в том, что не желает расставаться с Дейзи. Отнюдь не потому, что она стала меньше любить Дейзи, нет, просто у нее появились некоторые сомнения.
В день приезда Лоретты в голове миссис Хемингуэй начал складываться некий план. На следующее утро она заметила своему мужу Джеку Хемингуэю, что Лоретта до смешного наивна и что если бы не присущее ей милое простодушие, то ее можно было бы назвать просто глупой. И в доказательство миссис Хемингуэй сообщила мужу столь пикантные подробности из поведения Лоретты, что он был не в силах удержаться от хохота. На третий день план миссис Хемингуэй принял весьма определенные очертания. И вот тогда-то она и сочинила письмо. На конверте был написан адрес: «Сан-Франциско, Афинский клуб, мистеру Эдварду Бэшфорду».
«Дорогой Нед!» – так начиналось письмо. Когда-то, еще до ее замужества, он в течение трех недель пылал к ней страстной любовью. Но она соединила свою судьбу с Джеком Хемингуэем, первым сделавшим заявку на ее руку и сердце. Однако столь коварный удар судьбы не разбил сердце философски настроенного Неда Бэшфорда. Он просто добавил этот факт к длинному перечню подобных переживаний, на основе которых создал свою философию. По темпераменту и художественному вкусу он был эллином, разочарованным эллином. Он очень любил цитировать Ницше в знак того, что тоже пережил тяжкое разочарование, которое неминуемо следует за пламенными поисками истины, и вышел из него достаточно опытным, достаточно проницательным и достаточно мудрым, чтобы когда-нибудь вновь впасть в безумие юности с ее любовью к истине. «Поклоняться видимости, – часто цитировал он, – верить в формы, тона, слова, в целый Олимп видимости!» Эту выдержку он неизменно заканчивал словами: «Греки были поверхностными в силу своей глубины!»
Он был настоящим молодым эллином, разочарованным и усталым. Женщины вероломны и лживы, утверждал он в те дни, когда наступал рецидив и на смену философскому спокойствию приходил пессимизм. Он не верил в искренность женщин, но, следуя заветам своего немецкого кумира, не срывал с них того воздушного флера, который прикрывал их вероломство. Он довольствовался тем, что воспринимал их как чистую видимость и старался наилучшим образом приспособиться к этому факту. Он был поверхностным в силу своей глубины.
«Джек просит обязательно передать вам, что здесь великолепное купание, – писала в своем письме миссис Хемингуэй, – и советует захватить с собой снасти». Миссис Хемингуэй писала еще кое о чем. Она сообщала, ему, что может наконец познакомить его с совершенно искренней и простодушной девушкой, обладающей восхитительной репутацией. «Еще никогда не расцветал на нашей планете бутон более чистый и более безупречный», – такова была одна из тех многочисленных фраз, в которые миссис Хемингуэй облекала свое искушение. А мужу она с торжеством заявила: «Если и на этот раз мне не удастся женить Неда…» – и не договорила, оставив в неизвестности предположение столь страшное, что губы ее отказывались его произнести, а воображение – представить.
Вопреки своим дурным предчувствиям Лоретта обнаружила, что ей совсем не так плохо в Санта-Кларе. Билли, правда, ежедневно писал, но эти письма раздражали ее значительно меньше его присутствия. Кроме того, испытание, заключавшееся в разлуке с Дейзи, оказалось не таким суровым, как она ожидала. Впервые в жизни ее не затмевала блестящая и зрелая красота старшей сестры. При столь благоприятных условиях Лоретта быстро выдвинулась на передний план, в то время как миссис Хемингуэй скромно и без стеснения удалилась в глубину сцены.
Лоретта начала понимать, что она не просто тусклое светило, сияющее лишь отраженным светом. Совершенно бессознательно она стала центром небольшого круга событий. Когда она садилась к роялю, тотчас кто-нибудь был готов переворачивать страницы нот и выказывать предпочтение тем или иным песенкам. Когда она роняла носовой платок, тотчас кто-нибудь жаждал его поднять. Ее всегда были рады сопровождать на прогулку или помогать ей собирать цветы. Она научилась забрасывать удочку с приманкой на крючке в тихие заводи и под коряги и не запутывать лесу в кустарнике.
Джек Хемингуэй не любил обучать новичков и во время рыбной ловли старался уединиться, а то и вовсе оставался дома, предоставляя Неду Бэшфорду полную возможность воспринимать Лоретту как видимость. В этом качестве она вполне удовлетворяла всем требованиям его философии. Ее голубые глаза смотрели по-мальчишески прямо, и он любовался ими, забывая содрогнуться перед коварством, которое, согласно его философии, скрывалось в их взоре. Она обладала грацией стройного цветка, нежностью красок и хрупкостью тонкого фарфора. Эти качества очаровывали его, заставляя забывать о сокрытой под ними жизненной силе и о Бернарде Шоу, в которого он верил.
Лоретта расцветала. Она быстро становилась самостоятельной. У нее появились собственная воля и собственные желания, которые не были навечно связаны с волей и желаниями Дейзи. Джек Хемингуэй баловал ее, Элис Хемингуэй лелеяла, а Нед Бэшфорд был предельно внимателен. Они потворствовали ее прихотям и смеялись над ее проказами, в то время как она развивала в себе замашки маленького тирана, который всегда скрыт в каждой изящной и хорошенькой женщине. Окружающие постепенно гасили в ней желание никогда не разлучаться с Дейзи. Это желание теперь не мучило ее так, как в дни дружбы с Билли. Чем чаще она видела Билли, тем больше убеждалась в том, что не может жить вдали от Дейзи. Чем чаще она видела Неда Бэшфорда, тем больше забывала о настоятельной потребности быть рядом с Дейзи.
И Нед Бэшфорд начал кое о чем забывать. Он путал поверхность с глубиной, а видимость с реальностью до такой степени, что вскоре стал считать их одним и тем же. Лоретта совсем не была похожа на других женщин. Ей было чуждо притворство. Она была реальной. Все это и более того он высказал миссис Хемингуэй, которая согласилась с ним, не преминув в то же время заметить, как выразительно подмигнул ей ее муж.
Как раз в тот день Лоретта получила от Билли письмо, которое несколько отличалось от его прежних писем. В сущности, как и все его письма, оно было патологическим. Это был длинный перечень симптомов и страданий, волнений, бессонниц и сердечных приступов. Затем следовали упреки, но такие, каких он никогда не позволял себе раньше. Их резкость вызвала у нее слезы, а так как они к тому же были справедливы, на ее лице появилось трагическое выражение. Это выражение она принесла с собой к столу, когда спустилась к завтраку. Взглянув на нее, Джек и миссис Хемингуэй задумались, а Нед забеспокоился. Супруги вопросительно поглядели на Неда, но он лишь недоуменно покачал головой.
– Вечером я все узнаю, – сказала миссис Хемингуэй мужу.
Но Неду удалось еще днем застать Лоретту одну в большой гостиной. Она попыталась отвернуться. Но он взял ее за руки и увидел, что ресницы ее были влажными, а губы дрожали. Он добрым взором посмотрел на нее. Ее ресницы стали еще более влажными.
– Ну, ну, успокойтесь, малышка, – ласково сказал он.
И, словно защищая ее, он обнял ее за плечи. А она, как обиженный ребенок, положила голову к нему на грудь. Его охватил трепет, необычный для эллина, оправившегося от длительного разочарования.
– О Нед, – всхлипнула она, прильнув к нему, – если бы вы только знали, какая я безнравственная!
Он снисходительно улыбнулся и глубоко вздохнул, впитывая в себя аромат ее волос. Подумав о своей опытности в отношениях с женщинами, он еще раз глубоко вздохнул. Она, казалось, источала детскую сладость – «дуновение невинной души», как выразился он мысленно.
Но она всхлипывала все чаще.
– В чем дело, малышка? – спросил он ласково, почти отеческим тоном. – Не обидел ли вас Джек? Или ваша любимая сестрица забыла написать очередное послание?
Она не ответила, и он почувствовал, что непременно должен поцеловать ее волосы и что ни за что не отвечает, если такое положение вещей будет продолжаться и дальше.
– Расскажите мне все, – мягко сказал он, – быть может, я сумею помочь вам.
– Нет. Вы будете презирать меня. О Нед, мне так стыдно!
Он недоверчиво рассмеялся и легко коснулся губами ее волос, так легко, что она даже не заметила этого.
– Дорогая моя девочка, давайте забудем обо всем, что бы это ни было. Я хочу сказать вам, как я люблю…
Она вскрикнула от радости, но тут же простонала:
– Слишком поздно!
– Слишком поздно? – изумленно переспросил он.
– О, зачем я это сделала? Зачем? – стонала она. Он почувствовал холодную дрожь в сердце.
– Что сделали? – спросил он.
– Я… он… Билли… Я такая безнравственная женщина, Нед. Я знаю, вы никогда больше не будете разговаривать со мной.
– Этот… этот Билли, – начал он, запинаясь. – Это ваш брат?
– Нет… он… Я не знаю. Я была так молода. Я ничего не могла сделать. О, я сойду с ума! Я сойду с ума!
И тогда Лоретта почувствовала, что обнимающие ее руки вдруг обессилели. Он мягко отодвинулся и бережно усадил ее в большое кресло, где она, опустив голову, снова отчаянно зарыдала. Он свирепо подкрутил усы, затем подвинул к ней другое кресло и сел.
– Я… я не понимаю, – сказал он.
– Я так несчастна! – всхлипывала она.
– Почему несчастна?
– Потому что… он… он хочет, чтобы я стала его женой.
На мгновение его лицо прояснилось, и он успокаивающе положил свою руку на ее руки.
– Это не может сделать девушку несчастной, – глубокомысленно заметил он. – Раз вы не любите его, нет причины… Вы, разумеется, не любите его?
Лоретта энергично затрясла головой и плечами.
– Не любите?
Бэшфорду хотелось добиться полной ясности.
– Нет, нет! – воскликнула она. – Я не люблю Билли! Я не хочу любить Билли!
– А раз вы не любите его, – уверенно заключил Бэшфорд, – значит, нет причины считать себя несчастной только потому, что он сделал вам предложение.
Она снова зарыдала и в самый разгар своих рыданий воскликнула:
– В том-то и вся беда. О, если бы я любила его! О, как мне хочется умереть!
– Мое дорогое дитя, напрасно вы волнуетесь. – Вторая его рука потянулась вслед за первой и тоже легла на ее руки. – Женщины поступают так ежедневно. Только потому, что вы передумали или не решаетесь, только потому, что вы – я должен употребить нехорошее слово – увлекли мужчину и обманули его…
– Увлекла и обманула! – Подняв голову, она взглянула на него полными слез глазами. – О Нед, если бы только это!
– Только? – переспросил он глухим голосом, а руки его медленно сползли с ее рук. Он хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал.
– Но я не хочу выходить за него замуж! – протестующе вырвалось у Лоретты.
– Ну и не выходите, – посоветовал он.
– Но я обязана выйти за него.
– Обязаны?
Она кивнула головой.
– Это очень сильное выражение.
– Я знаю, – согласилась она, тщетно пытаясь подавить рыдания. Затем добавила более спокойным тоном: – Я безнравственная женщина, ужасно безнравственная. Никто не знает, какая я безнравственная, никто, за исключением Билли.
Наступила пауза. Нед Бэшфорд помрачнел и странно взглянул на Лоретту.
– А… Билли знает? – наконец спросил он.
Несмелый кивок и пылающие щеки послужили ответом на его вопрос. Минуту он оставался в нерешительности, словно пловец, не решающийся нырнуть.
– Расскажите мне об этом. – Он говорил твердо. – Вы должны рассказать мне об этом.
– А вы… вы простите мне? – спросила она слабым, чуть слышным голосом.
Он заколебался, потом глубоко вздохнул и нырнул.
– Да, – сказал он отчаянным голосом. – Я прощу вас. Рассказывайте.
– Некому было предостеречь меня, – начала она. – Мы так часто бывали вместе. Я в ту пору еще ни в чем не разбиралась.
Задумавшись, она замолчала. Бэшфорд нетерпеливо кусал губы.
– Если бы я только знала… Она снова замолчала.
– Продолжайте, – настаивал он.
– Мы виделись почти каждый вечер.
– С Билли? – спросил он с яростью, напугавшей ее.
– Конечно, с Билли. Мы так часто бывали вдвоем… Если бы я только знала… Некому было предостеречь меня… Я была так молода…
Она хотела еще что-то добавить и со страхом взглянула на него.
– Подлец!
Задыхаясь от гнева, Нед Бэшфорд вскочил на ноги, теперь это уже был не усталый эллин, а разъяренный молодой человек.
– Билли не подлец! Он хороший, – сказала Лоретта с твердостью, поразившей Бэшфорда.
– Не собираетесь ли вы сказать мне, что вина всецело на вашей стороне? – саркастически заметил он.
Она кивнула головой.
– Что? – вскричал он.
– Я сама виновата во всем, – решительно сказала на. – Мне не следовало позволять ему. Я одна заслуживаю порицания. Бэшфорд, до сих пор ходивший взад и вперед по комнате, остановился, и, когда он заговорил, голос его звучал смиренно.
– Хорошо, – сказал он. – Я ни в чем не упрекаю вас, Лоретта. Вы были честны со мной. Билли прав, неправы вы. Вы обязаны выйти замуж.
– За Билли? – спросила она слабым, едва слышным голосом.
– Да, за Билли. Я помогу вам. Где он живет? Я заставлю его.
– Но я не хочу выходить за него замуж! – в страхе вскричала она. – О Нед, вы не сделаете этого!
– Сделаю, – сурово ответил он. – Вы обязаны. И Билли обязан. Понятно?
Лоретта спрятала лицо в спинку кресла и разразилась новыми рыданиями.
Сначала Бэшфорд, прислушиваясь, мог понять только одно:
– Но я не хочу покидать Дейзи! Я не хочу покидать Дейзи!
Он мрачно ходил по комнате, затем остановился, с любопытством прислушиваясь.
– Откуда я могла знать? – плакала Лоретта. – Он не сказал мне. Раньше меня никто не целовал. Я никогда не думала, что поцелуй может быть так ужасен… пока… пока он не написал мне. Я получила письмо только сегодня утром.
Его лицо прояснилось. Казалось, будто свет изнутри озарил его.
– Об этом вы и плачете?
– Н-нет.
Сердце его вновь упало.
– Тогда почему же вы плачете? – спросил он безнадежно.
– Вы сказали, что я обязана выйти замуж за Билли. А я не хочу быть его женой. Я не хочу расставаться с Дейзи. Я не знаю, чего я хочу. Я хочу умереть.
Он решился сделать еще одну попытку.
– Послушайте, Лоретта, будьте благоразумны. Что там такое насчет поцелуев? Вы не рассказали мне всего.
– Я… я не хочу рассказывать вам всего.
В наступившей тишине она смотрела на него молящим взором.
– Я должна оказать? – наконец пролепетала она дрожащим голосом.
– Должны! – выкрикнул он повелительно. – Вы должны сказать мне все.
– Ну, ладно… Обязательно?
– Обязательно.
– Он… я… мы… – с трудом начала она. И затем выпалила: – Я позволила, и он поцеловал меня.
– Дальше, – отчаянно приказал Бэшфорд.
– Это все, – ответила она.
– Все? – В его голосе звучало сомнение.
– Все? – В ее голосе было не меньше вопроса.
– Я хочу сказать… И больше ничего? – Он был почти подавлен своей неловкостью.
– Больше? – Она была искренне удивлена. – Как будто может быть еще что-нибудь! Билли сказал…
– Когда он сказал это? – резко спросил Бэшфорд.
– В письме, которое я получила сегодня утром. Билли сказал, что мои… наши поцелуи ужасны, если мы не поженимся.
У Бэшфорда голова шла кругом.
– Что еще сказал Билли? – спросил он.
– Он сказал, что, если женщина позволила мужчине поцеловать ее, она обязана стать его женой. Она совершит преступление, если не сделает этого. Таков обычай, оказал он. А я говорю, что это жестокий, несправедливый обычай, он мне совсем не нравится. Я знаю, я ужасная женщина, – добавила она вызывающе, – но ничего не могу поделать с собой.
Бэшфорд машинально достал сигарету.
– Вы позволите мне курить? – спросил он, зажигая спичку.
И в этот момент он пришел в себя.
– Простите меня! – вскричал он, отбрасывая в сторону и сигарету и спичку. – Я вовсе не хочу курить. Я совсем не собирался этого делать. Я хотел…
И, склонившись над Лореттой, он взял ее руки в вою и, присев на ручку кресла, нежно обнял девушку другой рукой.
– Лоретта, я дурак. Да, да, именно это я хочу сказать. И еще кое-что. Я хочу, чтобы вы стали моей женой.
Наступило молчание. Он с тревогой ждал ее ответа.
– Я согласна… если…
– Говорите. Если что?
– Если я не обязана выйти замуж за Билли.
– Но вы не можете выйти замуж за двоих! – почти закричал он.
– А нет такого обычая… как… как сказал Билли?
– Нет, такого обычая не существует. Ну, Лоретта, согласны вы стать моей женой?
– Не сердитесь на меня. – Она надула губки и в то же время кротко поглядела на него.
Он прижал ее к себе и поцеловал.
– Хорошо, если бы такой обычай существовал, – еле слышным голосом сказала Лоретта, лежа в его объятиях, – потому что тогда я была бы обязана выйти за вас, Нед дорогой, правда?








