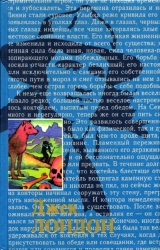
Текст книги "День пламенеет"
Автор книги: Джек Лондон
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава VIII
Жизнь на лоне цивилизации не пошла на пользу Пламенному. Правда, он стал лучше одеваться, манеры его несколько изменились к лучшему, и по-английски он стал говорить правильнее. В нем – игроке и бойце – открылись замечательные способности. Он привык к жизни на широкую ногу, а ум его отточился, как бритва, в этой свирепой сложной работе сражающихся самцов. Но он очерствел, и исчезла его былая добродушная веселость. О культурных завоеваниях он ничего не знал. Даже существование их было ему неизвестно. Он стал циничным, озлобленным и жестоким. Власть положила свой отпечаток на него, как и на всех людей. Не доверяя крупным эксплуататорам, презирая глупцов эксплуатируемого стада, он верил только в самого себя. Это повлекло за собой ошибочно преувеличенное мнение о своем «я», а доброе отношение к другим – нет, даже просто уважение – было разрушено, оставалось только преклоняться перед своей личностью.
Физически он уже мало походил на того, кто прибыл из арктических стран. Ходил он мало, ел больше, чем следовало, а пил слишком много. Мускулы потеряли упругость, а портной обращал его внимание на увеличивающийся обхват талии. Действительно, у Пламенного начало расти брюшко. Физический упадок отразился и на его лице. Худощавое лицо индейца изменилось под влиянием города. Легкие впадины на щеках под скулами округлились. Слабо намечались мешки под глазами. Шея потолстела, и ясно видны были первые признаки двойного подбородка. Былой отпечаток аскетизма, рожденный чудовищными тяготами и усилиями, исчез. Черты лица стали грубее и тяжелее, отражая жизнь, какую он вел, и выдавая себялюбие, жестокость и черствость.
Круг его знакомых – и тот изменился. Он вел игру один, презирая большую часть своих партнеров, не встречая у них ни симпатии, ни понимания и совершенно от них не завися; у него было мало общего с теми, кого он встречал, например, в клубе Альта-Пасифик. А когда борьба с пароходными компаниями достигла кульминационной точки и его натиск причинил неисчислимые бедствия всем деловым интересам, его попросили выйти из Альта-Пасифик. Отчасти ему это было приятно, он нашел убежище в таком клубе, как Риверсайд, организованном политическими заправилами и содержащемся на их средства. Он увидел, что такие люди больше ему нравятся. Они были примитивнее, проще и не задавали тона. Это были честные разбойники, открыто грабившие в игре; внешне они казались более грубыми и дикими, но на них, по крайней мере, не было сального лоска лицемерия. Альта-Пасифик предложил сохранить уход его в тайне, а затем частным образом уведомил газеты. Последние сумели использовать этот вынужденный уход, но Пламенный только усмехнулся и молча продолжал свой путь, сделав, однако, черную отметку против многих членов клуба, которым в будущем суждено было почувствовать сокрушительную тяжесть финансовой лапы клондайкца.
Репутация Пламенного, мишень газетной травли в течение многих месяцев, в конце концов была разорвана в клочья. Не осталось ни одного факта в его биографии, какой не был бы объявлен преступным или порочным. Общество превратило его в некое зловредное чудовище и тем окончательно раздавило последние надежды, какие он когда-либо питал на знакомство с Диди Мэзон. Он чувствовал, что никогда не сможет она ласково посмотреть на человека его калибра, и, повысив ей жалованье до семидесяти пяти долларов в месяц, он стал понемногу о ней забывать. О прибавке она узнала через Моррисона, а затем поблагодарила Пламенного, и тем дело кончилось.
Как-то в конце недели, утомленный и раздраженный городской жизнью, он поддался причуде, которой позже суждено было сыграть важную роль в его жизни. Причиной послужило желание вырваться из города, подышать чистым воздухом и переменить обстановку. В оправдание своей поездки в Глен Эллен он уверял себя, что намерен обследовать кирпичный завод, на котором так поддел его Хольдсуорти.
Ночь он провел в маленькой деревенской гостинице, а в воскресенье утром, верхом на лошади, взятой у глэн-эленнского мясника, выехал из деревни. Завод был расположен вблизи, на равнине у берега Сонома-Крик. Печи уже виднелись сквозь деревья, когда он повернул голову налево и увидел на расстоянии полумили группу лесистых холмов, перед склонами горы Сонома. Гора, тоже заросшая лесом, громоздилась за ним. Деревья на холмах, казалось, манили его. Сухой воздух раннего лета, прорезанный солнечными лучами, подействовал на него, как вино. Бессознательно он пил его большими глотками. Вид кирпичного завода казался ему непривлекательным. Ему надоели всяческие дела, а лесистые холмы тянули его к себе. Под ним была лошадь – хорошая лошадь – решил он; она возвращала его к далеким дням юности, когда он скакал в Восточном Орегоне. В те ранние годы он был немножко наездником, и сейчас ему приятно было слушать, как лошадь грызет удила, а кожаное седло скрипит под ним.
Решив раньше позабавиться, а затем уже осмотреть кирпичный завод, он въехал на пригорок, выискивая путь к холмам. У первых же ворот он оставил проселочную дорогу и, пустив лошадь легким галопом, понесся по полю. С обеих сторон колосья доходили до талии, он с наслаждением вдыхал их теплый аромат. Жаворонки взмывали при его приближении, отовсюду доносилось мелодичное пение. Взглянув на дорогу, можно было заключить, что ею пользовались для перевозки глины к ныне бездействующему заводу. Успокоив свою совесть мыслью, что он не отступает от первоначальной цели осмотра, он подъехал к глиняной яме – огромной пробоине на склоне пригорка. Но здесь он задержался недолго и свернул налево, оставив дорогу. Не было видно ни одного домика, ни одной фермы, и это безлюдье было особенно приятно после городской толчеи. Он ехал лесом, пересекая маленькие, заросшие цветами просеки, пока не наткнулся на родник. Растянувшись на земле, он вдосталь напился прозрачной воды и, оглянувшись по сторонам, с волнением ощутил красоту мира. Это его сильно поразило; он понял, что никогда раньше ее не замечал, а многое успел позабыть. Нельзя вести крупную финансовую игру и не потерять воспоминаний о красоте Вселенной.
Впивая чудесный воздух леса, далекое пение жаворонков, он чувствовал себя как картежник, поднявшийся из-за карточного стола после долгой ночной игры и вырвавшийся из спертой атмосферы глотнуть свежего утреннего воздуха.
У подножия холмов он увидел поваленный забор. Сразу можно было сказать, что ему по крайней мере лет сорок – работа пионера, пришедшего в эти края, когда кончились дни золота. Здесь лес был густой, но без зарослей кустарника, и, хотя синее небо было скрыто переплетенными ветвями, внизу можно было свободно проехать. Он очутился в уголке, охватывающем несколько акров, где дубы, манзанита и мадроны уступали место группам стройных красных деревьев. У подошвы крутого холма он наткнулся на великолепную группу красных деревьев, словно собравшихся у крохотного журчащего источника.
Он задержал лошадь: здесь у источника росла дикая калифорнийская лилия. Это был чудесный цветок, возросший под соборным куполом высоких деревьев. Его стебель, вышиной футов в восемь, поднимался, прямой и стройный; зеленый и обнаженный до двух третей высоты, он распускался выше дождем белоснежных восковых колокольчиков. Здесь были сотни цветов, все от одного стебля, нежно дрожащие и хрупкие. Пламенный никогда не видел ничего подобного. Он снял шляпу, охваченный каким-то смутным, почти религиозным чувством. Медленно взгляд его переходил с лилии на окружающий ее пейзаж. Да, здесь совсем не то. Ни презрению, ни злобе здесь не место. Было чисто, свежо и красиво, словно в храме, а все это не могло не внушать уважения. Все дышало священным покоем. Здесь человек испытывал побуждение стать благороднее. Все эти чувства переполняли сердце Пламенного, когда он осматривался по сторонам.
Но в этом не было ничего рассудочного. Он просто отдался чувству, совсем об этом не думая.
На крутом склоне выше источника росли крохотные папоротники и волосатики, дальше начинался кустарник и высокий папоротник. Там и сям лежали огромные, покрытые мхом стволы упавших деревьев, медленно погружающиеся в чернозем леса. Дальше – там, где зарослей было меньше, – дикий виноград и жимолость зелеными прядями свешивались с сучковатых старых дубов. Серая белка вылезла на ветку и следила за ним. Откуда-то издалека доносилось постукивание зеленого дятла. Этот звук не нарушал благоговейного спокойствия леса. Тихие лесные шумы гармонировали с обстановкой и завершали ее спокойствие. Чуть слышное журчание источника и прыжки серой белки только и нарушали безмолвие и недвижный покой.
– Словно за миллионы миль от жилья, – прошептал про себя Пламенный.
Но взгляд его все снова возвращался к чудесной лилии у журчащего источника.
Он привязал лошадь и побрел пешком по холмам. Вершины их были увенчаны вековыми соснами, а склоны одеты дубами, мадронами и остролистником. Узкий, но глубокий каньон пролегал среди холмов. Здесь Пламенный не нашел тропы для своей лошади и вернулся к лилии у источника. Спотыкаясь, ведя лошадь на поводу, он стал подниматься по склону горы. А папоротники по-прежнему устилали ему путь ковром, лес полз вместе с ним вверх, нависая сводом над головой, и чистая радость заполняла его сердце.
На вершине он пробился сквозь густую заросль молодых мадрон с бархатными стволами и вышел на открытый склон, спускавшийся вниз в крохотную долину. Сначала яркий солнечный свет ослепил его; он остановился и отдохнул, так как стал задыхаться от ходьбы. В былые времена он не знал одышки и мускулы не так легко уставали на крутых подъемах. Маленький ручеек сбегал в долину, пересекая крохотную лужайку, устланную травой, доходившей до колен, и белыми и голубыми ветреницами. Лилии и дикий гиацинт покрывали склон. Лошадь спускалась медленно, осторожно и недоверчиво переставляя ноги.
Перейдя ручей, Пламенный нашел едва заметную тропу, проложенную скотом, которая повела его через скалистый холм и увитые виноградом заросли манзаниты к другой крохотной долине, также прорезанной ручейком, окаймленным лужайками. Заяц выскочил из кустов под самым носом его лошади, перепрыгнул через ручей и скрылся на противоположном склоне холма в дубняке. Пламенный с восхищением следил за ним, поднимаясь по течению ручья. Здесь он спугнул оленя с ветвистыми рогами, который будто взвился над лужайкой, перелетел через плетень и, все еще как бы летя, скрылся в зарослях.
Восторг Пламенного был безграничен. Ему казалось, что никогда он не был так счастлив. Он вспомнил свою старую лесную выучку и живо интересовался всем – мхом на деревьях и ветвях, гроздями смелы, свисавшей с дубов, гнездом лесной крысы, крессом, выросшим под защитой тихих струй маленького ручейка, бабочками, порхающими в солнечных лучах и тенях, голубыми сойками, прорезающими лес яркими вспышками, крохотными птичками, вроде корольков, прыгавшими по кустам, подражая крику перепелок, и дятлом с красным гребешком, который перестал долбить и свесил голову набок, наблюдая за ним. Перейдя ручей, он наткнулся на едва приметные следы лесной дороги, проложенной, очевидно, еще прошлым поколением, когда лужайка была очищена от дубов. Он нашел гнездо ястреба на верхушке расщепленной молнией шестифутовой сосны. А в довершение всего лошадь его наткнулась на несколько крупных выводков молодых перепелок, и воздух наполнился трепетанием их крыльев. Он остановился и следил за молодыми птенцами, вспархивающими и исчезающими у его ног в траве, и прислушивался к беспокойному крику старых птиц, спрятавшихся в кустарнике.
– Это наверняка побьет всякие дачные местечки и бунгало в Мэнло-Парк, – сказал он вслух, – и теперь, как только потянет меня за город, буду приезжать сюда.
Старая лесная дорога вывела его на расчищенное место, где несколько акров земли были засажены виноградом. Коровья тропа, снова заросли и кустарник – и он спустился по склону холма на юго-восток. Здесь над большим, поросшим лесом каньоном расположилась маленькая ферма, обращенная в сторону долины Сонома. Со своим гумном и строениями она забилась в уголок в расщелине холма, защищавшего ее с севера и запада. Пламенный решил, что огород при ферме разбит на земле, нанесенной водой с холма. Почва была жирная, черная, воды здесь было вдосталь: он видел, как она лилась из нескольких открытых кранов.
Кирпичный завод был забыт. На ферме никого не оказалось, но Пламенный слез с лошади и пошел бродить по огороду, поедая землянику и зеленый горошек. Он осмотрел старую житницу, заржавелый плуг и борону и, свертывая папиросу, остановился полюбоваться на несколько выводков цыплят, разгуливавших с наседками. Тропинка, сбегавшая вниз по склону большого каньона, привлекла его внимание, и он свернул по ней. Параллельно тропинке протянулась над землей водопроводная труба, которая, как он заключил, вела к руслу реки. Каньон имел несколько футов в глубину, деревья, не тронутые рукой человека, разрослись так густо, что вся местность была погружена в вечную тень. На его взгляд, сосны имели в диаметре пять-шесть футов, а кедры были еще крупнее. Одно такое дерево, попавшееся ему на пути, было в диаметре по крайней мере десяти-одиннадцати футов. Тропинка привела прямо к маленькой плотине, снабжавшей трубу водой для орошения огорода. Здесь, вдоль потока, росли ольха и лавровые деревья, а заросли папоротника, преграждавшие путь, были выше его головы. Повсюду расстилался бархатистый мох, а из него вздымались волосатики и папоротник.
Лес был девственный; только плотина говорила о том, что человек здесь побывал. Но топор сюда не вторгался, и деревья умирали только от старости да от зимних метелей и бурь. Огромные стволы упавших деревьев лежали покрытые мхом, медленно погружаясь в землю, из которой они выросли. Иные лежали уже так долго, что совсем исчезли, и можно было разглядеть только неясные их очертания, сровнявшиеся с землей. Другие перекинулись через поток, а из-под одного повалившегося чудовища выбивалось с полдюжины молодых деревцев, сброшенных и придавленных при падении. Они росли параллельно земле, но все еще жили, корни их купались в потоке, а вздымающиеся ветви ловили солнечный свет, врывавшийся в пробоину лесной крыши.
Вернувшись на ферму, Пламенный влез на лошадь и поехал от ранчо вглубь – к еще более диким каньонам, по крутизнам, еще более страшным. Теперь его каникулы должны были завершиться поднятием на гору Сонома. И через три часа он появился на вершине, усталый и обливающийся потом, в разорванной одежде, с расцарапанными руками и лицом, но глаза его блестели, а вид у него был необычайно оживленный. Он испытывал удовольствие школьника, тайком играющего в бродягу. Огромный игорный стол Сан-Франциско остался далеко позади. Но он ощущал не одну только прелесть запретного удовольствия. Похоже было, словно он принимал какую-то очистительную ванну. Здесь не оставалось места для низости, подлости и порочности – всего, что наполняет грязную лужу городского существования. Совершенно не задумываясь над деталями, он испытывал чувство очищения и подъема. Если бы его попросили определить свои ощущения, он просто сказал бы, что славно проводит время. Он не сознавал, что в его тело и отравленный городом мозг просочилось могущественное очарование природы, – это очарование было тем глубже, что он вышел из рода обитателей диких лесов и сам был покрыт лишь тончайшим налетом городской цивилизации.
На вершине горы Сонома домов не было, он один стоял здесь у южного склона под лазурным небом Калифорнии. Перед ним раскинулась степь пастбищ, перерезанная лесистыми каньонами, спускавшимися у его ног к югу и западу, расселина за расселиной, гребень за гребнем, в долину Пелума, плоскую, как биллиардный стол, – словно картон, расчерченный там, где возделывался жирный чернозем, на правильные квадраты. Дальше к западу вздымались один за другим горные хребты, окутывающие долины лиловатым туманом, а еще дальше, за последним горным хребтом, он увидел серебристое сияние Тихого океана. Повернув лошадь, он окинул взглядом запад и север, от Санта Роса до горы св. Елены и дальше на восток, через долину Сонома, до горного хребта, скрывающего долину Напа. Здесь, в сторону от восточной стены долины Сонома, по линии, пересекающей деревушку Глен Эллен, он заметил трещину на склоне холма. Первая мысль была, что это скважина, пробитая для разработки руды; потом, вспомнив, что он не в золотоносной стране, перестал думать о трещине и продолжал обозревать горизонт дальше, к юго-востоку, где по ту сторону бухты Сан-Пабло можно было разглядеть отчетливо и ясно две вершины горы Даиболо. К югу высилась гора Тамалпайс, а дальше, на расстоянии пятидесяти миль, где сквозные ветры Тихого океана дуют в Золотые ворота, низко стлался дым Сан-Франциско.
«Мне никогда не приходилось видеть столько мест сразу», – подумал он.
Ему не хотелось уезжать, и только через час он заставил себя оторваться и спуститься с горы. Решив, для забавы, поискать новую дорогу, он только поздно вечером вернулся к лесистым холмам. Здесь, на вершине одного из них, он заметил зеленое плато, резко отличающееся от общего тона зелени. Вглядевшись в него своим острым взглядом, он различил три кипариса, – он знал, что только рука человека могла посадить их здесь. Побуждаемый чисто мальчишеским любопытством, он решил исследовать местность. Холм так густо зарос лесом и был так крут, что ему пришлось слезть с лошади и идти пешком; иногда он опускался на колени и пробирался ползком сквозь густой кустарник. Неожиданно он вышел под тень кипарисов. Они были заключены в маленьком квадратном пространстве, обнесенном старой оградой, – видно было, что колья обтесаны и заострены рукой человека. В ограде возвышались холмики двух детских могил. На деревянных досках, тоже обструганных, было написано: «Малютка Дэвид, родился в 1855 г., скончался в 1859» и «Малютка Лили, родилась в 1855 г., скончалась в 1860».
– Бедные крошки! – пробормотал Пламенный.
Видно было, что за могилами следят. На холмиках лежали увядшие букеты полевых цветов, надписи на досках были заново выкрашены. Руководствуясь этим, Пламенный принялся искать дорогу и, действительно, нашел тропинку, сбегавшую с противоположного склона холма. Обогнув холм, он вернулся к своей лошади и поехал к ферме. Из трубы вился дымок, и вскоре он уже завязал разговор с нервным, стройным молодым человеком, который, как он узнал, был только арендатором ранчо. Велик ли хутор? Да, около ста восьмидесяти акров, хотя и кажется значительно больше. Это объясняется тем, что форма его такая неправильная. Да, сюда входят и глиняная яма, и все холмы, а граница его вдоль большого каньона простирается на милю в длину.
– Видите ли, – сказал молодой человек, – здесь совсем глушь. Когда стали эту местность расчищать, поначалу была скуплена вся хорошая земля по краям. Поэтому-то межи такие извилистые.
О да, ему и его жене удавалось свести концы с концами, и работа была не слишком тяжелая. Арендная плата невелика. Хиллард, землевладелец, получает хороший доход от разработки глины. Хиллард – человек со средствами; у него большие ранчо и виноградники внизу, в долине. Кирпичный завод платил десять центов за кубический ярд глины. Что касается ранчо, то земля здесь местами была хороша, там, где она возделана, как, например, на огороде и виноградниках, но местность слишком неровная – холмы и каньоны.
– Вы – не фермер, – сказал Пламенный.
Молодой человек улыбнулся и покачал головой.
– Да, я телеграфист. Но мы с женой решили отдохнуть годика два и… очутились здесь. Но время уже на исходе. Осенью, после сбора винограда, я возвращаюсь в контору.
Виноград-то хорош, виноградник занимал около одиннадцати акров. И цена была неплоха. Он взращивал почти все необходимые им овощи. Если бы место принадлежало ему, он расчистил бы склон холма над виноградником и развел бы фруктовый сад. Почва была хорошая. Здесь было много пастбищ, разбросанных по всему ранчо, а на нескольких расчищенных лужайках, занимающих в общем около пятнадцати акров, он собрал прекрасное сено. Оно расценивалось на три-пять долларов за тонну дороже сена из долины.
Слушая его рассказ, Пламенный внезапно почувствовал зависть к молодому человеку, жившему среди всех этих чудес, где он – Пламенный – странствовал последние несколько часов.
– Какого черта вы возвращаетесь в телеграфную контору? – спросил он.
Молодой человек улыбнулся с оттенком грусти.
– Потому что здесь нам не пробиться… – секунду он колебался, – и потому что нам предстоят новые расходы. Как ни мала арендная плата, а все же приходится с ней считаться. А кроме того, у меня не хватает сил, чтобы по-настоящему возделывать землю. Будь эта ферма моей собственной, либо я сам был бы таким крепышом, как вы, – лучшего мне и не нужно. Да и жене моей тоже. – Снова грустная улыбка пробежала по его лицу. – Видите ли, мы родились в деревне и, потолкавшись несколько лет в городах, поняли, что в деревне нам лучше. Вот мы и решили выбиться на дорогу, а потом купить себе клочок земли и основаться на нем.
Могилы детей? Да, он подновил надписи и расчистил сорную траву. Таков здешний обычай. Все жившие на ферме принимали на себя эту обязанность. Говорят, отец и мать в течение многих лет приходили каждое лето к могилам. Но потом, одним летом, они не пришли, и старик Хиллард первый взялся за это дело. Трещина на склоне холма? Старый рудник. Никогда от него не было толку. Много лет назад его разрабатывали, так как разведки кое-что обещали. Но это было очень давно. В этой долине так никогда и не наткнулись на жилу, хотя пробуравили немало скважин, и лет тридцать назад сюда стекался народ.
Хрупкая на вид женщина показалась в дверях и позвала ужинать молодого человека. Пламенный подумал, что городская жизнь – не по ней. Потом, присмотревшись, он заметил слабый загар и здоровый румянец на ее щеках и решил, что деревня – самое подходящее для нее место. Отклонив предложение поужинать, он поехал к Глен Эллен, небрежно сидя в седле и тихонько напевая забытые песенки. Он спустился по неровной дороге, извивавшейся среди пастбищ, поросших дубами; там и сям виднелись заросли манзаниты и открытые просеки. С жадностью прислушивался он к крику перепелов, а один раз громко расхохотался от радости, когда крохотная белка с шипением взбежала на холмик, поскользнулась и затем, мелькнув у самых ног его коня, шмыгнула через дорогу и, все еще шипя, мигом вскарабкалась на спасительный дуб.
Пламенный не мог заставить себя ехать в тот день проезжей дорогой; он поехал наперерез к Глен Эллен и наткнулся на каньон, преградивший ему путь, так что рад был выбраться на гостеприимную коровью тропу. Эта тропа привела его к маленькой бревенчатой хижине. Двери и окна были открыты, на пороге кошка нянчилась с выводком котят, но в хижине как будто никого не было. Он спустился по тропинке, которая, очевидно, пересекала каньон. На полпути он встретил старика, поднимающегося в гору в лучах заходящего солнца. В руке он нес ведро с пенящимся молоком. Шляпы на нем не было, и солнце бросало красноватый отблеск на его лицо, обрамленное белоснежными волосами и бородой. Лицо светилось тихим довольством после жаркого летнего дня. Пламенный подумал, что ему никогда не приходилось видеть человека, выглядевшего таким довольным.
– Сколько лет тебе, дедушка? – осведомился он.
– Восемьдесят четыре, – был ответ. – Да, сударь, восемьдесят четыре, а я буду побойчей многих.
– Тебе пора себя поберечь, – сказал Пламенный.
– Ну, что там! Я никогда не лодырничал. Я перешел равнины с упряжкой волов в пятьдесят первом году; тогда я был семейным человеком, с семью малышами. Было мне, верно, тогда столько, сколько вам сейчас, или около того.
– И ты тут не скучаешь?
Старик перехватил ведро другой рукой и задумался.
– Как сказать… – начал он тоном оракула. – Никогда я не скучал, разве что, когда умерла моя старуха. Иные парни в толпе скучают, и я тоже из таких. Был я одинок, когда попал в Фриско. Но больше уж туда не пойду, покорно вам благодарен. Хватит с меня. Я живу здесь в долине с… с пятьдесят четвертого года, один из первых поселенцев после испанцев.
Пламенный тронул лошадь.
– Ну, доброй ночи, дедушка. Держись крепко. Ты многих молодых заткнешь за пояс и, наверняка, немало их схоронишь.
Старик усмехнулся, а Пламенный поехал дальше, странно довольный собой и всем миром. Казалось, к нему вернулась старая любовь к путешествию и лагерной жизни, какую он вел на Юконе. Перед его глазами стоял образ старого пионера, поднимающегося по тропинке в лучах заходящего солнца. Да, хоть ему и было восемьдесят четыре года, а он мог кое-кого обскакать. У Пламенного мелькнула мысль последовать его примеру, но воспоминание о крупной игре в Сан-Франциско сразу ее потушило.
– Ну что ж, – решил он, – когда я состарюсь и выйду из игры, я поселюсь в таком местечке, а город пусть провалится к черту.








