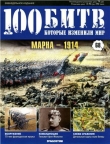Текст книги "Разговоры с Пикассо"
Автор книги: Дьюла Халас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Конец сентября 1943
Этим утром я начал с первой скульптуры: «Череп». Потрясающее произведение. Я бы сказал, что это скорее величественная застывшая голова – с пустыми глазницами, разъеденным носом и стершимися губами, а вовсе не бесплотный, кривляющийся костяк. Блуждающий кусок камня, изрытый пустотами и выбоинами, полуразрушенный, отполированный и обкатанный долгими-долгими скитаниями… Может быть, появлением этой глыбы в своем творчестве Пикассо обязан войне?[26]26
Идея «Черепа» возникла, как мне кажется, в Руайяне, в 1939-м, вместе с мыслью о бараньей голове. Вновь она проявилась во время работы над головой быка в 1943-м и развивалась параллельно с серией натюрмортов с черепами в 1945 и 1946 годах.
[Закрыть]
Я поворачиваю скульптуру так и этак, делаю с нее несколько снимков. Пикассо смотрит, как я работаю, и старается мне помочь. Он заинтригован моим «методом». Я почти не смотрю в матовое стекло, дистанцию измеряю бечевкой и иногда использую магниевую вспышку. Звук вспышки слегка пугает и забавляет Пикассо. Он назвал меня «террористом» и с тех пор часто обращался ко мне именно так…
ПИКАССО. Я не понимаю… Как вы узнаете, что у вас получится? Вы же никак не можете оценить эффект вашей подсветки…
БРАССАЙ. Я его вычисляю… Почему я не использую прожекторных ламп? Если источников света много, теневые зоны накладываются одна на другую, запутывая всю картину. Я предпочитаю свет из одного источника, а тени сглаживаю с помощью экранных бликов.
ПИКАССО. А почему фотографии скульптур так редко бывают удачными?
БРАССАЙ. Я не знаю, откуда взялась дурацкая привычка снимать светлые статуи на темном фоне и наоборот… Это же их убивает. Они становятся плоскими и как бы задыхаются в этом пространстве… Чтобы скульптура сохранила всю свою округлость, ее освещенные части должны быть светлее фона, а части, остающиеся в тени, – темнее фона… Это же так просто…
ПИКАССО. То же самое и с рисунком: на сером или бежевом фоне добавляешь белого, чтобы подсветлить, и темного, чтобы оттенить… Вы же это имеете в виду?
БРАССАЙ. Это главный принцип классического рисунка с тех пор, как возникло понятие объемности и художники стали стремиться ее отразить… Но если сегодня живописцев эта пластичность больше не интересует, то фотографы, стремящиеся придать скульптуре объем, обойтись без нее не могут…
Начало октября 1943
Я приношу фото «Черепа». Со мной – Анри Мишо, он очень хочет познакомиться с Пикассо, хотя сам и пальцем не пошевелил бы для этого… Вчера я случайно встретил его на Монпарнасе. Мы были рады возобновить нашу дружбу, которая зародилась двадцать лет назад, еще в 1924-м. Мишо действительно был одним из моих первых парижских знакомых. Я ничего о нем не знал с момента массовой эмиграции из столицы… Но я читал текст публичной лекции Андре Жида «Откроем для себя Анри Мишо», запрещенной властями Виши, но все же опубликованной автором в виде брошюры, чтобы «не вызывать у поэта чувства фрустрации». Мишо рассказал мне о своей жизни на юге Франции, куда он уехал после вторжения немцев: сначала в Монтубан, потом в Лаванду, в департаменте Вар. Теперь вот вернулся в Париж. Он тоже меня расспрашивал. Я рассказал ему о перипетиях моего переезда на Пиренеи в компании Жака Превера и еще нескольких друзей, о нашей жизни в Каннах и о моей «репатриации» в Париж осенью 1940-го…
Я представляю Мишо художнику и показываю Пикассо снимки его необычной скульптуры «Череп». Он их хвалит, а я сконфуженно слушаю его комплименты… Потом Пикассо открывает громадную кожаную папку, лежавшую на табуретке, и достает оттуда рисунки и акварели: стулья, голуби и множество женщин… Никогда еще его штрих не был так прекрасен: то тягучий и плавный, то упорный и нарочитый, но всегда трепещущий от наслаждения. И какой восторг, какой блеск! Его перо, словно его макали в огнедышащую лаву, рассыпает искры, воспламеняет, опустошает… На многих акварелях грунтовка, иногда довольно густая, местами буквально вырвана: перо словно вгрызается в ее плоть, забирая оттуда черный цвет запекшейся крови…
Пока Пикассо извлекает из папки все новые и новые листы со своими, возможно, самыми прекрасными рисунками – о последних работах всегда говорится именно так, – я спрашиваю, как рождаются идеи его произведений; случайно они появляются или обдумываются заранее…
ПИКАССО. Не знаю… Идея произведения – это не просто отправная точка… Редко бывает, что я могу зафиксировать мои идеи такими, какими они приходят мне в голову. Как только начинаешь работать, под пером рождаются все новые мысли… Чтобы понять, что тебе хочется нарисовать, надо начать… Если под пером возникает мужчина, значит, будет мужчина… Если возникает женщина, значит – женщина… Есть испанская поговорка: «Если появилась борода, значит, это мужчина; если бороды нет, значит, женщина…» Есть еще другой вариант: «Если есть борода – это святой Иосиф, если бороды нет – это Дева Мария». Потрясающе, правда? Она всегда приходит мне на ум, когда я оказываюсь перед чистым листом бумаги… То, что я улавливаю в процессе работы, – даже помимо своего желания, – для меня важнее собственных идей…
Я замечаю Пикассо, что в этой серии все мужчины с бородой, как у Зевса-Отца…
ПИКАССО. Да, они все – бородачи… И знаете почему? Каждый раз, как я рисую мужчину, я невольно вспоминаю своего отца… Мужчина – это всегда «дон Хосе», и так будет всегда. А он носил бороду. Все мои мужские портреты обязательно, в той или иной степени, помечены его чертами…
Потом мы переключаемся на разговор о рисунке вообще и, в частности, на рисунки Матисса.
ПИКАССО. Матисс делает рисунок, потом его переписывает… Он делает это пять раз, десять раз, шлифуя и облагораживая штрих… Он убежден, что последний, самый совершенный, самый чистый, окажется самым лучшим, окончательным; однако, чаще всего, таковым является первый… В том, что касается рисунка, нет ничего лучше первого импульса.
Вытаскивая акварели из папки, он извлекает на свет написанный каллиграфическим почерком диплом.
ПИКАССО. Это мой диплом академика! Да, я теперь академик… Меня избрала своим членом Шведская королевская академия… Как вам это нравится?
Когда мы уходим, его пронзительный смех все еще звучит у нас в ушах. Мишо потрясен, как и все, кто впервые сталкивается с Пикассо, испытав на себе силу воздействия его личности… И все же ему хватает чувства юмора заметить:
– Этот человек, который горько жалуется, что посетители мешают ему работать, впал бы в депрессию, если бы никто ему не мешал… Когда он показывал нам свои рисунки, он был на верху блаженства…
Я говорю Мишо:
– Если бы я мог выбирать из его творчества то, что мне нравится больше всего, я, не колеблясь, выбрал бы рисунки… Именно под его наэлектризованным пером личность Пикассо разворачивается с абсолютной свободой… И его гений, как мне кажется, очевиднее всего проявляется именно в них… Рисунки Пикассо пропитаны той субстанцией, которая составляет его творческий почерк. Глядя на них, приближаешься к самому ее источнику…
Мишо соглашается со мной. Непосредственность и совершенство рисунков Пикассо будоражат и его. «От них пахнет серой…» – замечает он.
Он предлагает перекусить в чайном салоне на улице Турнон, рядом с сенатом, где он часто обедает. Мы пересекаем бульвар Сен-Жермен, который выглядит сейчас таким захолустным… Париж мог хотя бы отчасти сохранить свое очарование, если бы не развешанные повсюду распоряжения оккупационных властей, списки заложников и расстрелянных…
Я говорю Мишо, что не вижу никого из молодых, кто мог бы обеспечить преемственность Пикассо, Матиссу или Браку…
МИШО. Я тоже не нахожу среди них рисовальщика уровня Пикассо или колориста, подобного Матиссу или Браку… Возможно, однако, что мы и не хотим того же самого, не стремимся к этому… Пикассо – гений, это бесспорно, но его «чудовища» нас больше не тревожат… Мы ищем других чудовищ и идем к этому другими путями… Вопрос о «преемственности», вероятно, и вправду встает, но в несколько иной плоскости…
Мишо прав… Я неудачно выразился… Мне не следовало говорить о «преемственности»… Пытаться предсказать будущее, особенно в области искусства, дело неблагодарное… Надо было сказать: «Я не вижу ни одного молодого художника, которого можно было бы сравнить с двадцатилетним Пикассо…»
Чайный салон набит битком. Я предлагаю пойти в облюбованное мною бистро в Фобур-Сен-Жак, напротив больницы Кошен, куда ходят молодые врачи и художники и где я часто встречал скульптора Феноза и иногда Жермена Монтеро. Последнего всегда сопровождает большая компания испанских республиканцев, готовых, разинув рот, слушать его часами…
Мы поднимаемся вверх по Буль-Мишу[27]27
Бульвар Сен-Мишель. – Примеч. перев.
[Закрыть] и проспекту Обсерватории. Дорогой Мишо признается, что пластические искусства привлекают его все больше и что сейчас он почти полностью переключился на живопись…
АНРИ МИШО. Поэзия мне надоела! Бедная родственница в семье искусств… Совершенно беззвучная – ни отголоска, ни сочувствия… Слово – это не более чем намек. Художники, которые работают руками, гораздо счастливее… Объект, созданный ими, можно не только видеть, но и пощупать; он сам способен порождать отголоски… Это что-то конкретное, что отделяется от вас и вам отвечает. Стихотворение же немо, и никакого отзвука вы от него не дождетесь…
БРАССАЙ. Если так рассуждать, то придется отбросить и музыку… Ведь пока ее не исполняют, она представляет собой не более чем пачку нотной бумаги, не так ли? И получается парадокс: музыка – это искусство, не вызывающее ни отголоска, ни отзвука…
АНРИ МИШО. Она таковой и является, пока ее не исполняют… Конечно, если сотня инструментов посылает вам тот отзвук, который вы воображали, которого ждали, то – да, это ответ. Но кто его вам пошлет? Как и когда? В этом-то и вопрос! Знаете ли вы, что молодой композитор, пишущий сегодня симфонию, имеет лишь один шанс из десяти услышать свое произведение хотя бы раз в жизни? Немедленный отклик дает только пластическое искусство. Оно не зависит ни от чтеца, ни от издателя, ни от прочих исполнителей. Оно не зависит ни от чего. То, что вы создали вашими руками, зафиксировано вживую, оно реально существует, это явь. Вот поэтому-то я сейчас рисую…
Вторник 12 октября 1943
Мы с Пикассо и издателем собираемся просмотреть все его скульптуры и выбрать что-то для альбома. Среди представленного нам была и «Птица». Детский самокат без колес, ржавый и погнутый, в один прекрасный день показался ему похожим на птицу, подобно тому, как седло и руль велосипеда некогда навели его на мысль о бычьей голове… Маленькая дощечка самоката, куда ставят ногу, превратилась в тело аиста; высокий стержень стал его длинной шеей, вилка, на которой держалось переднее колесо, предстала головой с клювом… А из треугольной штуки, с помощью которой обычно крепят бюсты к цоколю, он сделал лапы. В качестве хвоста Пикассо добавил к композиции красное перо. Большинство скульптур мы взяли на заметку без возражений. Однако, подойдя к птице-самокату, издатель шепнул мне на ухо:
– Это можно не фотографировать. Это не скульптура, а скорее предмет…
Пикассо, который слышит все, все угадывает и ничего не упускает, внезапно поворачивается к нему и, указывая на «Птицу», решительно заявляет:
– Я настаиваю на том, чтобы эта скульптура была в моем альбоме!
Час спустя, когда издатель уже покинул мастерскую, Пикассо все еще клокочет от гнева.
ПИКАССО. Предмет! Значит, моя птица – это предмет! Да кем он себя мнит, этот человек? Учить меня, Пикассо, что является скульптурой, а что не является! Нет, но какая наглость! Надеюсь, что я больше смыслю в этих вещах, чем он… Ведь что такое скульптура? И что такое живопись? Все цепляются за вышедшие из обращения, потерявшие смысл идеи, за устаревшие понятия, в то время как задача художника как раз и состоит в том, чтобы предлагать что-то новое…
Он ворчал бы еще долго, если бы Сабартес не позвал его к телефону… Явился барон Молле, еще более импульсивный и непредсказуемый, чем всегда. Со своим облезлым черепом, носом как у петрушки и несмолкающей болтовней он чем дальше, тем больше становится похож на великого клоуна Грока. Цель прихода? Предложить Пикассо купить «почти даром» совершенно «необыкновенную» машину… Он только что откопал ее у старьевщика по соседству.
БАРОН МОЛЛЕ. Это, правда, очень дешево! Исключительная удача! Пабло, приходи часика в три на нее посмотреть! Как будто специально для тебя!..
Барона я знаю давно и уже не в первый раз встречаю его здесь. Он дружит с Пикассо со времен Монмартра и любит врываться к нему как ураган… В Сен-Жермен-де-Пре он приятельствует со всеми: дружил по очереди с Аполлинером, Максом Жакобом, Сандраром, Фаргом, Кокто, Модильяни, ван Донгеном. И всех называет по имени: Пабло, Гийом, Макс, Блез, Леон-Поль, Жан, Амадео, Кеэс… Принося в кафе «Клозери де Лила» новости из кафе «Наполитен», этот человек, еще в начале ХХ века осмысливший и воплотивший в жизнь идею public relation,[28]28
Связи с общественностью (англ.). – Примеч. перев.
[Закрыть] обеспечивал тем самым связь между Холмом и Большими бульварами, то есть между Монмартром и Монпарнасом. Жизнерадостный и беспечный, без работы и без гроша в кармане, прирожденный собиратель умов, талантов и интеллекта, он попутно сумел влюбить в себя и новое, нарождающееся поколение поэтов, художников и писателей – Раймона Кено, Жака Превера и других…[29]29
В 1963-м барон опубликовал свои воспоминания, выплеснув их на бумаге так, как подсказала память. Предисловие к книге под названием «Мемуары барона Молле» написал Раймон Кено.
[Закрыть]
Следом за бароном, с зажатым в губах окурком, возникает Превер. Пикассо показывает ему свои чудесные рисунки и акварели. Мы рассматриваем серию голубей, и тут на ступеньке лестницы появляется живой голубь.
ЖАК ПРЕВЕР. А вот и он сам, наш загадочный персонаж… Легок на помине…
Пикассо приглашает нас подняться – его мастерская и жилые комнаты находятся этажом выше – и расставляет перед нами свои последние полотна. Его зовут к телефону, и он оставляет нас одних. Преверу очень понравилась одна из картин: сквозь большое открытое окно мастерской видны располагающиеся ярусами старые крыши с каминными трубами. С особым удовольствием Пикассо выписал волнистую линию радиатора, его круглую рукоятку и длинную трубу, которая поднимается до подоконника. Он написал эту картину три месяца назад, 3 июля.
ЖАК ПРЕВЕР. Посмотри! Любой другой художник исключил бы из пейзажа радиатор, сочтя его ничем не примечательным, неказистым и «неэстетичным». И сделал бы акцент на «живописности» старых стен и крыш. А здесь кульминацией полотна стал именно радиатор… Превыше всего другого Пикассо ценит подлинность, реальность. Взгляни, он нарисовал даже висящую на стене старую тряпку…
Я соглашаюсь. Мне тоже больше всего нравятся полотна, родившиеся под непосредственным впечатлением, как прямое отражение вещей, которые он видит вокруг себя. Такие, как «Мать и ребенок», написанные в мае. Я объясняю Преверу, что Пикассо сперва написал только ребенка с пухленьким тельцем, делающего первые, еще неверные шаги. «Он бы упал, – смеясь рассказывал мне Пикассо, – ведь он еще не умеет ходить… И вот позже я нарисовал рядом мать, чтобы было кому его поддержать…» На другой картине толстощекий малыш сидит на земле рядом со стулом, на который присели два голубя. Полотно датировано августом того же года.[30]30
Это было предчувствие: четыре года спустя Франсуаза Жило родила ему сына, которому дали имя Клод.
[Закрыть]
Мы вместе любуемся натюрмортом в коричневых тонах: остатки еды на столе в ресторане «Каталан», на фоне барочной лепнины. Этот сюжет Пикассо в мае дважды рисовал на желтом фоне.
БРАССАЙ. На этом полотне нет ничего случайного… Все взято из реальной жизни…
ЖАК ПРЕВЕР. В том-то и дело! Пикассо, в сравнении с прочими художниками, называющими себя «реалистами», гораздо живее реагирует на то, что его окружает. Каждое его творение несет в себе ответ на то, что он увидел или почувствовал, что его удивило или взволновало в жизни…
Возвращается Пикассо. Превер берет маленькую книгу, лежавшую на табурете, и начинает ее листать.
ПИКАССО. Это моя настольная книга… Ужасно смешная! Не хуже, чем у Жарри! Хотя трудно сказать, осознанный у него юмор или случайный… Речь идет о маршале Петене. Вообще-то создается впечатление, что автор только изображает пиетет по отношению к «великому человеку», а на самом деле издевается над ним.
И правда: книжечка называется «Одиночество великого человека». Автор – Рене Бенжамен.
ПРЕВЕР (читает вслух).
Маршал держится мужественно и спокойно.
Дамы нервничают.
Маршал размышляет.
Дамы понимают.
Маршал хочет заложить основы.
Дамы отворачиваются и брюзжат.
Уже видели, как какие-то несчастные рвут его портрет…
ПИКАССО. Самое интересное там – диалоги. Например, маршал обедает, справа от него сидит аббат, а слева – министр. Почитайте…
И Превер, быстро и отрывисто, читает вслух:
– Господин Маршал, – говорит аббат, – вы представили мне г-на Министра. Простите, но я не понял. Он министр чего?
– А вы что подумали? – лукаво спрашивает Маршал.
– Ну, трудно сказать! – краснеет и смущается аббат.
– А вдруг это министр, без которого можно обойтись, – уже серьезно объясняет Маршал.
– Но, Господь свидетель, я ничего такого не думаю, – горячо протестует аббат.
– Значит, вы ничего не понимаете в министрах, – печально замечает Маршал.
– Господин Маршал, – лепечет окончательно сбитый с толку аббат, – в прошлом году вы приглашали меня отобедать с М. А. Я был с ним знаком!
– А кто это? – задумчиво спрашивает Маршал.
– Один из ваших министров!
– Надо же… Я уже забыл, – благодушно отвечает Маршал.
Метрдотель наклоняется над столом с бутылкой:
– Вино с виноградников Маршала.
– Расслабьтесь и попробуйте, – советует глава государства. – И забудьте вы про министров. Они приходят и уходят. А вино остается.
ПИКАССО. Забавно, правда? Здесь есть одно место, где сотрудники кабинета министров, сидя за столом, обсуждают, в каком костюме Маршалу следует посещать подвергшиеся бомбардировке города. Где же это место? Вот, нашел:
В каком костюме? Каждый высказывает свое мнение. «В мундире? Но цвет хаки так же скучен, как и его имя. Скорее в гражданском». – «В гражданском?» Все громко возмущаются. «Маршал в гражданском – это уже не Маршал! Пусть он наденет голубой мундир». – «Браво!» Это решение вызывает у собравшихся прилив благородных чувств.
– Обед заканчивается сценой совершенно гротескной, – поясняет Пикассо, это непременно надо прочесть!
И вот Превер, который уже сроднился с персонажами аббата, Министра и Маршала, начинает читать эту страницу, звучащую в его устах как написанная им самим поэма:
Маршал, который жевал яблоко, смеется, давится кусками, начинает кашлять и задыхаться. Сидящие за столом обеспокоены. Однако Маршал находит в себе силы пробормотать: «Все в порядке…»
Но доктор Менетрель уже поднялся.
Все поворачиваются к нему.
Наконец Маршал выпивает стакан воды.
И снова начинает дышать ровно.
И снова обретает дар речи.
– Это ваша вина, – резко бросает он аббату.
Аббат вздрагивает.
– Вы не прочитали молитву перед едой.
– Мой Бог, – ужасается аббат.
– Ну же, исправляйте свою ошибку и не забудьте про послеобеденную молитву! – поднявшись, приказывает Маршал.
Все встают.
Аббат в смятении что-то бормочет по-латыни и осеняет всех крестным знамением…
Молодые служащие в ступоре.
Им не суждено узнать, в каком же костюме Маршал отправится в поездку: возможно, он нарядится китайцем…
ПИКАССО. Я перечитывал это место не знаю сколько раз… Наизусть помню. А обед с закутанным в шкуру леопарда, глухим, как тетерев, Мора – вы увидите, я не шучу! – на котором присутствует обожательница поэта по имени Эсперанс? Обхохочешься! А аудиенция шести ремесленников? Маршал произносит речь по поводу «Хартии труда»; молодые люди, которые просят у него разрешения спеть «Марсельезу»; и Петен, отвечающий им: «Только четвертый куплет!» А свидание Маршала с министром здравоохранения, который возвратился из подвергшегося бомбардировке Лорьяна?.. Это тоже надо бы прочитать. Такие перлы!
И Превер снова читает вслух:
– Я только что из Лорьяна.
– От него хоть что-нибудь осталось? – севшим голосом лепечет Маршал.
– Ничего, – тем же тоном отвечает министр.
– А что говорят его жители?
– Ничего, господин Маршал, – снова повторяет министр. И добавляет: – Они говорят… что это война.
Маршал, шепотом:
– Хорошо.
– Во всяком случае, – снова подает голос министр, – я всех заверил, что вы их любите.
– И это хорошо, – замечает Маршал, – но при условии… что они вам поверили.
Я говорю Пикассо, что мне нужны его скульптуры «голубого периода», в частности женщина, которая причесывается, стоя на коленях. «По-моему, я видел ее в вашей квартире на улице Боеси – в первой комнате, на камине».
ПИКАССО. Это одна из первых, если не самая первая… Я ее сделал одновременно с маленькой «Сидящей женщиной», в 1899-м, кажется… В какой-то момент мне были очень нужны деньги, и я продал почти все свои старые скульптуры Воллару… Это он отлил их в бронзе. Кроме этих двух женщин, там были голова старика, женская голова и арлекин в колпаке, которых я сделал лет семь-восемь спустя…
БРАССАЙ. А нельзя ли сфотографировать их у Воллара?
ПИКАССО. Мне бы хотелось, чтобы они вошли в эту книгу. Но увы, Фабиани, к которому они перешли от Воллара, отказывается делать с них репродукции… Вы знали Воллара?
БРАССАЙ. Я был несколько раз в его особняке на улице Мариньяк. Первый раз с Морисом Рейналем и Териадом, в 1932-м. В тот момент дом красили снаружи и над входом висело объявление «Осторожно, окрашено!» Я его сфотографировал.
ЖАК ПРЕВЕР. Осторожно, окрашено! Прелестная вывеска для торговца картинами!
БРАССАЙ. Рейналь хотел попросить Воллара написать текст о Сезанне для «Минотавра». Воллар был настроен скептически, и мы не надеялись на его согласие. Но в тот день он был в хорошем настроении… И принял нас очень тепло. Мне было трудно себе представить, что этот приветливый господин слывет за нелюдимого и скучного бирюка… Редкое проявление благосклонности: он открыл для нас свою «кладовку», где хранились картины, которые он не хотел показывать никому…
ПИКАССО. Воллар был очень скрытным… Он умел окутывать свои картины завесой тайны и за счет этого продавать их дороже… На улице Лаффит он их – почти все – прятал за загородкой в глубине магазина и никого туда не пускал…
БРАССАЙ. Было очень смешно наблюдать, как этот великан, согнувшись в три погибели, стоя на четвереньках, вытаскивал оттуда одного за другим неизвестных «Сезаннов» – целую дюжину… Он дал мне полную свободу. В его особняке я мог фотографировать все, что хотел, за исключением сокровищ «кладовки»… Я сделал несколько снимков в его кабинете, где бронзовые скульптуры Майоля и Ренуара лежали кучей на полу, возле пустых рам, среди груды книг и пачек бумаги. Там же была и ваша маленькая «Женщина на коленях»… Мне пришлось пообещать Воллару показать ему все снимки, сделанные у него. Они ему очень понравились, особенно его портрет в черной шапке: он использовал его для обложки американского издания одной из книг своих воспоминаний. А между тем этим портретом я ему не польстил. Над огромным телом – темное небритое лицо, тяжелые веки наполовину скрывают взгляд хитрых крестьянских глаз. Возможно, ему казалось, что на этом снимке он выглядит более жизнерадостным, чем обычно. Он сказал мне то же самое, что часто повторял Матисс: «Меня многие считают человеком угрюмым и скучным. На самом деле по натуре я веселый, хотя на первый взгляд в это трудно поверить…»
Но вот что случилось и что я хотел вам рассказать: рассматривая мои фотографии, он вдруг воскликнул: «Господи! Вы сняли и это? Но это же ужасно! Надеюсь, вы этого еще не успели никому показать…» Я его успокоил. «Уничтожьте негатив немедленно, как только вернетесь домой, прошу вас…» При этом он ничего мне не объяснил. Вероятно, речь шла о какой-то обнаженной натуре Майоля, с которой, по условиям их контракта с Волларом, можно было сделать ограниченное количество репродукций… А на моей фотографии их было сразу несколько…
ПИКАССО. Когда я был молод и сидел без гроша, он меня просто эксплуатировал… Однажды он наложил лапу на три десятка моих полотен и унес их с собой, оставив мне две тысячи франков… А позже заплатил мне всего тысячу за самые лучшие мои рисунки…
Мы с Жаком Превером идем обедать в ресторан «Вьей», в переулке, на улице Дофин. Там хорошо кормят и подают прекрасный божоле. Жак, который обожает сыр, в качестве закуски берет один из сливочных камамберов, которые тают во рту. Мы говорим о Пикассо…
БРАССАЙ. Когда пришли немцы, он мог бы уехать, если бы хотел, если бы только пожелал – в Мексику, в Бразилию, в Соединенные Штаты… Деньги у него были, да и возможности тоже: его приглашали… Уже во время оккупации американский консул несколько раз пытался его уговорить покинуть Францию… Но Пикассо остался. И то, что он сейчас с нами, помогает и придает сил не только нам, его друзьям, но и тем, кто с ним не знаком…
ЖАК ПРЕВЕР. Ты совершенно прав. Мы должны быть ему благодарны… Это мужественный поступок… Этот человек – не герой. Он боится, как и все мы, кому есть что сказать и что защищать… Героем легко быть, когда рискуешь лишь собственной жизнью… А он мог – и до сих пор может – потерять все… Кто знает, как все повернется в этой войне? А если они решат разрушить Париж?… Если немцам что-то не понравится, они могут интернировать Пикассо, выслать, взять в заложники… Даже его творчеству, заклейменному как «дегенеративное», «большевистское» искусство, приговор уже вынесен – его могут просто сжечь на костре. И никто на свете – ни Папа, ни Святой Дух – не смогут помешать такому аутодафе… Причем чем отчаяннее будет становиться положение Гитлера и его пособников, тем страшнее, смертоноснее и разрушительнее будет их ярость… Откуда Пикассо знает, чего от них можно ждать? Но он пошел на этот риск, вернулся в оккупированный Париж. Остался с нами. Что ни говори, Пикассо – классный парень…