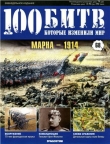Текст книги "Разговоры с Пикассо"
Автор книги: Дьюла Халас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Пятница 28 декабря 1946
В восемь утра меня будят бесцеремонные звонки в дверь. Чей-то голос произносит мое имя. Потом резкий стук. Открываю: здоровенный детина в черной шляпе с завернутыми полями, обутый в snow-boots.[71]71
Валенки (англ.). – Примеч. перев.
[Закрыть]
– I want to see Picasso! I want to see Picasso! Now! Now! I am in a hurry! [72]72
Я хочу видеть Пикассо! Я хочу видеть Пикассо! Немедленно! Немедленно! Я очень спешу! (англ.). – Примеч. перев.
[Закрыть]
Он требует, чтобы я оделся. Внизу нас ждет такси. «Я очень тороплюсь! Быстрее! Быстрее же! Отвезите меня к Пикассо…» Я взбешен тем, что этот сумасшедший меня разбудил, и пытаюсь сопротивляться. Незваный гость объясняет, что он – от Карла Холти. И достает из кармана письмо от моего друга. Я прошу американца отпустить такси. В любом случае нельзя врываться к Пикассо в такую рань.
– Но я не могу терять ни минуты, – настаивает он, – мой самолет только что приземлился в Орли. Я прилетел организовать выставку Пикассо в Нью-Йорке – первую после войны… Необходимо опередить Розенберга, сорвать все его планы! Это вопрос часов, если не минут…
Незнакомца зовут Самюэль Куц. Он недавно открыл галерею рядом с Розенбергом, на 57-й улице, и специализируется на американской абстрактной живописи. Его необъятный портфель набит подарками… Он достает оттуда книгу Сидни Джениса «Пикассо», только что вышедшую в Нью-Йорке, отыскивает в ней репродукции нескольких картин и спрашивает, можно ли будет их заполучить для выставки. Затем обрушивает на меня целую лавину вопросов: в каких отношениях Пикассо с Розенбергом, покупает ли тот у него картины…
* * *
Гарриет и Сидни Дженис приходили ко мне в начале года, по-моему в феврале, и предложили сотрудничать с ними в подготовке этой книги, где надо было представить произведения Пикассо с 1939-го по 1946-й – то есть все, что он сделал в период войны и оккупации и с чем не была еще знакома американская публика… У автора были все основания гордо заявить: «Ни один из подлинников этих творений в нашей стране еще не появлялся…» Тогда я сделал для них снимки нескольких «сюжетов» Пикассо, домашнего интерьера Доры Маар и коллекции г-жи Куттоли…
У Джениса была фабрика по пошиву рубашек, но, к великой досаде его брата, страсть к живописи побудила его бросить бизнес. В 1930-м он уже обладал прекрасной коллекцией современной живописи, включая и американских примитивистов, о которых написал великолепную книгу. Еще один его труд, вышедший два года назад, был посвящен абстрактному искусству и сюрреалистам в Соединенных Штатах…
* * *
В десять часов мы с Куцем уже у Пикассо. Я представляю гостя Сабартесу. И пока торговец картинами, радостно возбужденный тем, что близок к цели, рыщет по прихожей, Сабартес отводит меня в сторонку: «Еще один американец? И где вы их только откапываете? Я не уверен, что нам вообще удастся увидеть сегодня Пикассо… Он проработал почти всю ночь… И сейчас спит…» Однако не успел он договорить, как послышались шаги: хозяин спускался по лестнице… Настроение у него превосходное… Куцу повезло. Гость открывает свой неподъемный портфель и, как фокусник, достает оттуда подарки: упаковку сигар, несколько коробок табака, пачки «Кэмел», трубку и ёршики, чтобы ее чистить, – все это для Парижа пока редкость. Пикассо все повторяет: «Thank you very much! Thank you very much!»
И, смеясь, оборачивается ко мне:
– Это единственное, что я могу сказать по-английски. С того момента, как освободили Париж, американцы натащили мне столько шоколада, сигарет, табака, столько чая, кофе, рубашек и шляп, что мне ничего не оставалось, кроме как научиться говорить им «спасибо»…
Куц извлекает на свет и книгу Сидни Джениса, которую Пикассо тут же вырывает у него из рук. Мне очень нравится это его любопытство, нетерпеливая жадность, с которой он бросается на вожделенную добычу. На обложке книги цветная репродукция его большого полотна 1942 года – «Серенада», или «Утренняя серенада».
ПИКАССО (листая книгу). Совсем неплохо! И даже очень хорошо! Вы согласны? Из всех книг о моем творчестве эта, пожалуй, самая лучшая… И какая удачная мысль дать здесь фотографии сюжетов моей живописи: окно с крышами, Дора, мыс Вер-Галан со статуей Генриха IV, берега Сены, собор Парижской Богоматери. Я никогда не снимал с них копий… А фотографии доказывают, что мне удалось схватить суть, что главное в моих картинах есть…
Пикассо переворачивает страницы: семь лет живописи и скульптуры. Иногда что-то восклицает и пронзительно хохочет…
ПИКАССО. Но вот этой картины уже нет! Я сделал из нее другую! А эта? Изменилась до полной неузнаваемости… Голову, которую мы здесь видим, убрал совсем… А на этом натюрморте горшок превратился в сову… Я не знаю, что со мной происходит, но меня охватила какая-то страсть переписывать старые полотна. Здесь, на этих репродукциях, – картины-призраки…
Иногда его лицо омрачается, потому что надо признать: цветные репродукции ужасного качества…
ПИКАССО. Я не понимаю, почему они настаивают на цветных репродукциях, если не умеют правильно передавать цвет? Мне кажется, что черно-белые, если они правильно воспроизводят достоинства произведения, могут оказаться ближе к его сути…
А когда ему попадается портрет Доры Маар в зеленой блузе с красными полосами и белым кружевным воротником, написанный 9 октября 1942 года, он расстраивается всерьез.
БРАССАЙ. Мне очень нравится этот портрет, особенно здесь хороша блуза… Великолепный фрагмент…
ПИКАССО. Мне очень приятно, что вы обратили внимание на блузу… Вообще-то я ее полностью придумал: у Доры такой никогда не было… И что бы ни думали и ни говорили о моей пресловутой «легкости», мне тоже случается долго мучиться над полотном… Сколько же потов с меня сошло из-за этой блузы! Я ее писал и переписывал несколько месяцев…
БРАССАЙ. Как Сезанн с рубашкой Воллара. Он принимался за нее раз сто, если не больше…
ПИКАССО. Да, обычно такой суровый, вечно недовольный собой, он считал, что эта рубашка ему удалась… И я признаюсь, что моя блуза мне нравится… Фоном для нее сначала служила решетка, кувшин с водой и кусок хлеба… Позже я все это стер…
Куц показывает серию репродукций и комментирует их. Сабартес переводит.
– Я решил поднять абстрактную живопись в Соединенных Штатах на новый уровень… Это единственное, что меня сейчас интересует… Я – меценат… Содержу шестерых художников, все они – американцы: Уильям Базиотис, Карл Холти, Браун, Готтлиб, Мазервелл… И работают для меня…
Я тут же вспомнил, как недавно Кокто рассказывал нам: «Бедные ребята – эти, в Нью-Йорке! Если кто-то из них посмеет нарисовать что-нибудь узнаваемое, его тут же отшлепают… Их с пеленок начинают натаскивать на абстрактное искусство…»
Американский торговец говорит о художниках, как лошадиный заводчик о чистокровных жеребцах своей конюшни… Вот он переходит к цели своего визита. Объясняет Сабартесу идею выставки в Нью-Йорке. Пикассо не придется предоставлять свои полотна на время. Куц намерен их купить. Все… Сабартес, поначалу сохранявший на лице недоверчивую мину, расценивает предложения янки как достойные рассмотрения… И просит Пикассо показать гостю полотна. Мы поднимаемся в мастерскую. Куц на седьмом небе от счастья: «Beautiful! Very beautiful!» – повторяет он, подкрепляя английскую речь ломаным: «Шикарни, шикарни!» – единственным, известным ему французским словом, если не считать «Спасибо» и «Я вас люблю»… Однако время от времени, обращаясь ко мне, он недоуменно замечает: «I don’t like them very much, they are not abstract enough!» Любая живопись для него недостаточно абстрактна.
Неутомимый Пикассо показывает свои творения: натюрморты с кувшинами, черепами, бараньими головами, зеркалами, подсвечниками, луком-пореем. И серию женских портретов.
– Я полагаю, – объясняет он американскому торговцу через Сабартеса, – что это – собирательный «портрет» современной женщины… Я видел эти лица в метро…
Под конец show Пикассо приберег самые последние картины, написанные в Антибе и заполненные морской фауной: натюрморты с рыбами, угрями, осьминогами, каракатицами, желтыми акулами и особенно морскими ежами, чьи колючки и теплый коричневый тон его особенно привлекали… Но Куц совсем пригорюнился и не перестает бормотать: «Это недостаточно абстрактно! Это недостаточно абстрактно!» В конце концов, после долгих колебаний и увиливаний, он отобрал девять полотен: «Девушка в шляпе», «Голова», «Сидящая женщина», «Петух», «Голова (женщины) на зеленом фоне», «Женщина с головой ягненка», «Моряк», «Помидорный куст». А потом уединился с Сабартесом, чтобы обсудить цену покупки…
Я остаюсь с Пикассо. Он показывает мне самые последние работы с совами.
ПИКАССО. Вот что сейчас крутится у меня в голове… В Антибе я часто работал по ночам, и крики совы, единственной обитательницы полуразрушенной башни, были звуковым фоном моих бдений… Потом, когда птица была ранена, мне довелось с ней познакомиться. Я держал ее в руках. Она стала моим другом и товарищем…
Силуэт сидящей на деревенском стуле птицы, забранный в овальную рамку, я вижу на многих полотнах.
Я показываю Пикассо фотографии «настоящего художника», стоящего перед полотном. И замечаю ему, что они немного напоминают картины, которые он пишет в настоящий момент…
ПИКАССО. Это вполне понятно… Хотя я ничего не копирую, но мое настроение так или иначе отражается в моих полотнах…
БРАССАЙ. Сезанн никогда не брал в руки кисть по вечерам…
ПИКАССО. У него же не было ничего, кроме керосиновой лампы! А ее свет очень желтый и, конечно, искажает цвета… А теперь у нас есть прожектор дневного света, и ночью вполне можно работать… Мое ночное освещение великолепно, мне оно нравится даже больше, чем естественное… Вам надо прийти как-нибудь ночью, чтобы на это посмотреть… Каждый предмет виден очень отчетливо, а вокруг полотен, напротив, глубокая темень, которая ложится на потолочные балки – вы видели их на большинстве моих натюрмортов: почти все они написаны ночью… Каков бы ни был антураж, он становится сущностью нас самих, он держит нас в своей власти, выстраивается в соответствии с нашей природой…
Пикассо приносит мне крошечное полотно – «Париж 14 июля». Настоящее маленькое чудо. Несколькими прикосновениями кисти он воссоздал набережные, анфиладу парижских домов, собор Парижской Богоматери, деревья и флаги, развевающиеся на ветру… С тех пор как он поселился во Франции, этот праздник доставляет ему огромную радость… Веселая уличная толпа напоминает ему ту, что он видел на андалузских улицах, – людей, собравшихся в круг, танцующих сардану на площадях Каталонии, пестрое ликование веселого праздника на юге Франции… Но 14 июля прошлого года оказалось особенно волнующим… Народное гулянье с танцами и весельем, с фейерверками и торжественной процессией длилось три дня и три ночи – это ликовала освобожденная Франция…
ПИКАССО. Целых пять лет мы были лишены национального праздника. Первое 14-е июля после Освобождения меня очень тронуло, и я его написал…
Крохотные размеры картины наводят на мысли о достижениях Хокусаи.
БРАССАЙ. А вы знаете, что Хокусаи однажды изобразил двух голубей на рисовом зернышке? Он сделал это, сидя на постоялом дворе, где отдыхал от трудов после того, как написал огромное полотно, – возможно, самую большую картину, когда либо написанную за один день…
ПИКАССО (с удивлением). Я не знал, что он писал и большие полотна…
БРАССАЙ. Этого человека страшно обижало, что о нем постоянно твердили: «Он может писать только маленький формат…» И он решил всем доказать… Его ученики приготовили ему огромную раму, размером с фасад шестиэтажного дома. И натянули на нее бумагу. В день знаменательного события Хокусаи ходил по своему панно, волоча за собой привязанные к шее мешки с рисом, пропитанным китайскими чернилами… Толпа собравшихся зевак не оценила результат – все полотно оказалось покрыто длинными полосами… Затем он взял метлу, тоже смоченную в чернилах, и окропил ими панно в оставшихся незакрашенными местах. И когда художник приказал поднять картину вертикально, для чего им была придумана целая система приводных ремней и роликов, все увидели на гигантском полотне Дхарму, бога чая, о котором, кстати, сложена великолепная легенда. Этот жрец, которого во время молитвы внезапно сморил сон, был так раздосадован, что вырвал себе глаза и бросил их как можно дальше… Растение, пустившее корни на месте, где они упали, отбивает сон: это чай…
ПИКАССО. Историю про чай я слышу впервые… Помню только, что однажды Хокусаи сделал картину, пустив на полотно кур, но я забыл, при каких обстоятельствах…
БРАССАЙ. Это было у принца, который непременно хотел иметь его «картину». Художник развернул длинный рулон бумаги и наметил на нем волнистые голубые линии. Потом взял нескольких кур, смочил им лапы красными чернилами и пустил бегать по бумаге… И в результате перед зрителями предстала река Тацута, чьи осенние воды несут с собой опавшие листья красного клена, похожие на куриные лапы…
Импровизации Хокусаи вызывали бурный восторг Пикассо: было нечто, роднившее между собою этих двух художников, – острое любопытство к форме во всех ее аспектах, способность схватывать жизнь и фиксировать ее мгновения беглыми и лаконичными штрихами, терпеливое внимание, молниеносное исполнение… Как и Пикассо, Хокусаи не пренебрегал никаким опытом, не отказывался ни от чего. Иногда он использовал пути, лежащие вне живописи, употребляя в дело любые подручные инструменты – к примеру, кончик яйца, смоченный в чернилах. Он любил смешно передразнивать, постоянно придумывал что-то новое, вдохновение било в нем ключом – и нежное, и жестокое… Впрочем, разве в таланте Пикассо делать произведения искусства из ничего не кроется нечто японское? Разве сюрпризы, забавные и чудесные, которые он способен извлечь из простой деревяшки, из бумажной салфетки, не напоминают фокусы Хокусаи? И разве эта склонность не останавливать ни на один день долгой жизни активности своих рук не свойственна им обоим? Я представляю себе Пикассо, который, подобно «старику, одержимому рисованием», описывает себя в «Трактате о цвете»: одна кисть во рту, по одной в каждой руке, по одной в каждой ноге – весь во власти рисовательного экстаза… Пока мы разговариваем, я не могу оторвать глаз от маленького столика, заваленного пустыми и наполовину выдавленными тюбиками краски, смятыми обрывками газетной бумаги и грязными кистями. Как поле брани наутро после побоища.
ПИКАССО. Она как живая – моя палитра сегодня… Я работал всю ночь. И очень устал… Поэтому оставил все как есть…
Я фотографирую столик. Пикассо объявляет, что приготовил для меня знаменитые «скульптуры из бумаги»… О них было много сказано… Я заинтригован, и мне не терпится их увидеть… Пикассо достает их из коробки… Это совсем небольшие фигурки, свернутые из тонкой бумаги и доведенные до совершенства вручную. Хрупкие, как крылья бабочки…[73]73
Хочу сказать, что мне так и не удалось их сфотографировать… Боюсь, что они потеряны навсегда…
[Закрыть]
Возвращаются Сабартес и Куц… Переговоры прошли успешно… Теперь они втроем начинают обсуждать продажу картин и будущую выставку. Я отхожу и рассматриваю листок бумаги, где Пикассо нарисовал крупную птицу с хохолком на голове. Но главное на этом рисунке – не птица, а дата: 25 декабря 1946. Автор, словно находясь в состоянии крайнего возбуждения, несколько раз, все более и более крупно, написал вокруг птицы: 25 декабря 1946, 25 декабря 1946… Впечатление такое, что он хотел отвести только что прошедшему рождественскому дню особое место в своей памяти. Что же могло произойти 25 декабря 1946-го? Узнаем ли мы когда-нибудь? На следующем листе изображена та же птица, но уже присевшая на ветку. Ее силуэт едва намечен, но дата проставлена: 27 декабря 1946…
Мы с Куцем уходим. Вид у него весьма довольный. Дело сделано… Пикассо и Сабартес пригласили его прийти завтра, чтобы обсудить детали… Американец так взволнован, что забыл у Пикассо свои snow-boots…
Среда 2 января 1947
Встречаю Хайме Сабартеса: в зубах у него толстая сигара – одна из тех, что лежали в портфеле у Куца…
САБАРТЕС. Ну и намучились мы с вашим чертовым американцем! С того дня, как вы его привели, я не знаю ни минуты покоя – все бегаю: банки, приемные, префектура, таможня, всевозможные ведомства… Эти девять картин он согласился купить только при условии, что ему позволят забрать их с собой в самолет… И мне пришлось за три дня собрать немыслимое количество бумаг и разрешений…
В Гранд-Отеле Самюэль Куц упаковывает чемоданы… Veni, vidi, vici…[74]74
Пришел, увидел, победил (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] Он счастлив. С помощью бесчисленного количества звонков через Атлантику он организовал-таки свою выставку Пикассо в Нью-Йорке, сделал заказы на печатание билетов, афиш, каталогов, подключил прессу… Чтобы сделать успех еще более оглушительным, он собирается пригласить на ночной вернисаж Луи Армстронга с его оркестром… Париж его совершенно не интересует. Ему было глубоко безразлично, находится он на Левом берегу или на Правом, на Монпарнасе или на площади Оперы. Он так и не увидел Эйфелевой башни и даже Фоли-Бержер его не соблазнила… Он ни разу не вышел из такси, чтобы сделать хотя бы пару шагов по парижским улицам. Я поинтересовался, был ли он в Лувре. «Лувр? Это недостаточно абстрактно для меня…» – ответил он. В голове у него была только одна мысль: Пикассо.[75]75
Через два года Куц вернулся в Париж с целой партией абстрактных полотен – лучших образцов из собственного питомника… Они предназначались для выставки «Реалии современности». Однако отборочная комиссия решила по-другому. Все полотна Куца были забракованы как недостаточно абстрактные.
И лишь десять лет спустя, попав в Соединенные Штаты, я узнал всю подоплеку экспедиции Самюэля Куца в Париж… Торговлю тканями он сменил на торговлю картинами. Но разве картина не является в известном смысле тряпкой? Галерея на 57-й улице была у Куца не первой, но предыдущий опыт успеха не имел, поскольку пришелся на период спада – boom в живописи начался лишь к пятидесятым годам… В тот момент, когда он задумал выставку Пикассо, на американском рынке, несмотря на «перепроизводство» картин, ощущался определенный дефицит полотен Пикассо, которые не завозились туда семь лет… Куц взял все в свои руки: благодаря монографии Сидни Джениса ему удалось свести знакомство кое с кем из крупных коллекционеров и заранее продать им некоторые картины, чьи репродукции были в монографии… Рассматривая обещание «будущей продажи» в качестве гарантии, один китайский судовладелец проявил интерес к его предложению. Прибыль они должны были поделить fifty-fifty. Таким образом, девять полотен Пикассо были проданы еще до путешествия Куца и открытия выставки… Чтобы получить доступ к Пикассо, торговец картинами вошел в контакт с теми, кто выдавал себя за близких друзей художника… Однако накануне его отъезда произошла катастрофа: все «близкие» друзья оказались самозванцами. Они даже не были знакомы с художником. И тогда Куц попросил Карла Холти написать записку мне. Из этических соображений мой друг отказался и уступил мольбам торговца картинами лишь в самую последнюю минуту, в аэропорту Ла-Гуардия. Залучить на пресловутый вернисаж Луи Армстронга Куцу так и не удалось. И только на ночное открытие другой выставки Куц сумел заманить Петера Джонсона, джазовую звезду boogie-woogie…
[Закрыть]
Канны, вторник 17 мая 1960
Мы ужинаем у Генри Миллера в гостинице «Монфлери». За соседним столиком – Бунюэль, его сын и несколько друзей.
БРАССАЙ. Вчера я говорил с Пикассо по телефону… У него был такой молодой голос, что я подумал: «Да он ли это?» И он был очень дружелюбен: «Какой сюрприз слышать вас, Брассай! Приходите послезавтра, если вы не заняты. Мы сможем провести вместе всю вторую половину дня. И будем одни… Я жду вас в “Калифорнии”, в половине третьего…»
ГЕНРИ МИЛЛЕР. Значит, послезавтра вы его увидите…
БРАССАЙ. Генри, вы писали и говорили мне в Париже, что согласились стать членом жюри Каннского кинофестиваля исключительно в надежде познакомиться с Пикассо…
ГЕНРИ МИЛЛЕР. Да, я писал и просил меня ему представить… Канны для меня навсегда связаны с именем Пикассо… Но послезавтра у меня очень загруженный день. Фестиваль заканчивается, и мы там буквально как на привязи… Три киносеанса вместо двух, и второй начинается в три часа…
БРАССАЙ. На такси от Дворца кинофестивалей – это не больше пяти минут. И вы с ним познакомитесь…
ГЕНРИ МИЛЛЕР. Познакомиться с Пикассо… Разумеется, это одно из моих самых больших желаний… Но я не люблю так резко менять планы. Я бы мог, конечно, пойти к нему с вами… Но мысль о том, что в определенное время я должен буду встать и уйти, отравит мне всю радость от нашей беседы… Стоит ли так торопиться? Чтобы подготовить первое знакомство, нужно больше времени и спокойствия…
БРАССАЙ. Я вас ему представлю… И вы сможете прийти к нему в другой день… В Каннах и даже в «Калифорнии» вы от Пикассо буквально в нескольких шагах… Скоро вы окажетесь в Биг-Суре, в Греции, в Японии или еще бог знает где… А Пикассо, возможно, уедет в Вовенарг… Грешно пропускать такой случай…
ГЕНРИ МИЛЛЕР. Скорее всего, вы правы… Ха-ха-ха… Однако не соблазняйте меня… Лучше положиться на случай… И в один прекрасный день возможность представится… Я фаталист… Возможно, Ларри сможет отвезти меня в Вовенарг, когда я буду в Ниме…[76]76
Ларри – это фамилия Лоуренса Даррелла, который живет недалеко от Нима.
[Закрыть] А если мне не удастся увидеться с ним на этом свете – мне шестьдесят восемь лет, ему восемьдесят, – я уверен, что встречусь с ним позже, в предстоящие десять миллионов лет. Я не знаю, где это произойдет, потому что такие силы, такая энергия всегда очень активны…ЖИЛЬБЕРТА. Вы и правда так думаете? Вы верите в бессмертие?
ГЕНРИ МИЛЛЕР. Да, в каком-то смысле… Бессмертие! Ха-ха-ха… Вы знаете, дорогая Жильберта, я могу считать себя учеником Кришнамурти, хотя мне так и не представилось возможности увидеть его лично… Этот мудрый индус, вы знаете, живет в Охае, в Калифорнии… Бессмертие? То, что впавший в безумие Ницше называл вечным возвращением… А почему бы и нет? Я в своем возрасте тоже становлюсь философом… Во всяком случае, объясните Пикассо, как я его люблю и как им восхищаюсь. И как мне хотелось бы с ним познакомиться…
Канны, среда 18 мая 1960
В половине третьего на Каннских холмах, напротив «Калифорнии». Вилла Пикассо – солидная, но совершенно такая же, как и те, которыми застроена вся округа со времен великих герцогов, славной эпохи Лазурного Берега… Но сады… Судя по всему, рука садовника их не касалась: сосны, кипарисы, эвкалипты, мимоза, мушмула, олеандры, жимолость росли там, как им вздумается, душа друг друга в объятиях пышной зелени. Из этого буйства удавалось вынырнуть только пальмам, которые вдыхали морской воздух и вглядывались в голубой горизонт Средиземного моря… Как случилось, что этой заурядной вилле выпала честь принять под свой кров Пикассо и его богатства и даже вдохновлять его на творчество в эти последние годы, вписав таким образом свое имя в список рядом с Бато-Лавуар, Буажелу, Валлори, дворцом Гримальди? Объяснить это можно отчасти отвращением, которое Пикассо питал ко всему, на что можно было навесить бирку «хороший вкус», его нежностью ко всему смешному, несуразному, странному – а вилла буквально ломится под тяжестью лепнины, виньеток и украшений из искусственного мрамора. Только его равнодушие к местам своего обитания и склонность доверяться провидению могут объяснить этот выбор… Именно так он возложил на Канвейлера заботу о переезде мастерской с Монмартра на Монпарнас во время своего свадебного путешествия с Евой, «моей красоткой», а позже поручил Розенбергу найти ему квартиру, в то время как сам, далеко от Парижа, переживал в Испании страстный роман с Ольгой.
Я собираюсь позвонить, но, к моему великому удивлению, решетчатая калитка не заперта. Жена сторожа объявила о нашем приходе хозяину. Во дворе никого. В гараже – несколько машин, среди которых царит внушительный белый «линкольн». Справа от крыльца – старый знакомый: «Олень» из парка Буажелу. Налево – странный металлический цветок с оборванными лепестками, взорвавшийся смертоносный снаряд.
На крыльце появляется Пикассо – под защитным тентом над лестницей он кажется совсем маленьким – и целует меня в обе щеки. Он совсем не изменился. Обтягивающий шерстяной свитер, лицо коричневое от мистраля и жаркого солнца, по-прежнему крепкий как скала и в глазах – прежний огонь… Он ведет нас в свою «мастерскую» – анфиладу из трех просторных комнат, залитых светом, проникающим через широкие, застекленные оконные проемы, выходящие в парк.
В сущности, с тех пор как мы познакомились на улице Боеси, ничего не изменилось, разве что вокруг стало просторнее да вещей собралось больше. Я очень счастлив видеть его снова. К сожалению, я не увижу Жаклин Рок, его молодую подругу, с которой он познакомился в Валлори и которая делит с ним жизнь уже шесть лет. Она только что перенесла операцию, но Пикассо спокоен. Ей уже лучше, ее отправили на «Калифорнию».
ПИКАССО. Я часто вас вспоминаю… У вас ведь недавно прошла выставка рисунка и скульптуры, так? Я о ней слышал. Я вообще в курсе всего… Сколько мы с вами не виделись?
БРАССАЙ. С 1947 года, по-моему. Тринадцать лет…
ПИКАССО. Неужели? Целых тринадцать лет? А почему вы не приезжаете меня повидать?
Сколько раз мне хотелось к нему пойти… Это желание особенно мучило меня во время фестиваля в Каннах в 1956-м, где показали не только «Тайну Пикассо», но и мой фильм «Пока есть животные»…
БРАССАЙ. Я довольно много времени провожу на Лазурном Берегу… В Эз у меня есть дом. И в мыслях я часто к вам приходил. Но звонить вам…
ПИКАССО. Это вы зря… Я больше не хочу видеть новых лиц. Зачем? Но для старых друзей я всегда дома… И поскольку я живу как затворник, даже как заключенный, их посещения для меня тем более дороги… Такой известности, как у меня, не пожелаю и злейшему врагу… Я страдаю от нее физически… И защищаюсь по мере сил… День и ночь живу за дверями, запертыми на два оборота ключа…
БРАССАЙ. Но калитка была открыта…
ПИКАССО. Она была открыта потому, что я вас ждал и приказал к половине третьего ее отпереть…
БРАССАЙ. Если я правильно понял, вы живете как в крепости. А для друзей опускаете подъемный мост…
ПИКАССО. Увы! Примерно так…
БРАССАЙ. А Вовенарг? Там вы разве не защищены?
ПИКАССО. Там еще хуже… Набегает огромное количество зевак. И они наблюдают за нами в бинокль… Караулят каждое движение… очень может быть, что в данный момент кто-то наблюдает за нами с Леринских островов в телескоп… Если бы я действительно хотел спрятаться от чужих взглядов, мне бы пришлось задвинуть шторы на этих окнах… Но в этом случае я лишил бы себя возможности видеть парк и весь этот пейзаж, который мне необходим… Это ужасно…[77]77
Вчера в вечерней газете я прочитал интервью с Брижит Бардо и был поражен, насколько схожи их жалобы на тяготы славы: «Сейчас все стало хуже, чем когда бы то ни было. Настоящее безумие. У меня машина с откидным верхом, но я не могу его открывать. Терраса и сад для меня недоступны: там все просматривается с помощью биноклей и телеобъективов. По вечерам я вынуждена запираться у себя в доме, а для каникул выбирать необитаемый остров… Но жить в пустыне совсем не весело… Бывают моменты, когда я готова бежать к пластическому хирургу, чтобы он сделал мне другое лицо».
[Закрыть]ПИКАССО. Но это не все. Еще одна опасность подстерегает меня здесь: на соседнем участке строится высоченное здание с немыслимым количеством этажей… Мало того, что оно закроет мне вид на Леринские острова, вдобавок все его жильцы смогут наблюдать за нами со своих балконов… Возможно, мне придется бежать из этих мест… А что вы делаете на побережье?
БРАССАЙ. Я приехал сюда на три недели, чтобы повидаться с Генри Миллером. Он – член жюри фестиваля. Днем он очень занят, а вечера мы проводим вместе… Он тоже боится славы: опасается, что, если его произведения будут публиковать в Соединенных Штатах, покоя у него не будет…
ПИКАССО. Я его понимаю… Зачем нужно еще больше денег, если их и так достаточно? Если ты будешь богаче, чем прежде, то все равно не сможешь съесть четыре завтрака или четыре обеда… Богат я или беден, я все равно буду курить все те же сигареты «Голуаз»… Единственные, которые люблю… Ну и что? Кстати, не могли бы вы дать мне сигаретку? В доме не осталось ни одной…
БРАССАЙ. Я хотел бы представить вам Генри Миллера… Он просто жаждет с вами познакомиться. Но сегодня очень неудачный день… У него киносеанс в три часа… А приходить к вам на три минуты ему не хочется…
ПИКАССО. Генри Миллер вызывает у меня восхищение. А что, если вы приведете его ко мне после фестиваля?
Пока мы разговариваем, Пикассо посматривает на Жильберту: в своем зеленом платье с рисунком она выглядит так по-весеннему…
ПИКАССО. Откуда вы родом?
ЖИЛЬБЕРТА (смеясь). Я имею некоторое отношение к Каталонии…
ПИКАССО (смотрит на нее потеплевшим взглядом). Вы из Каталонии? Я сразу понял по вашим глазам, что вы не здешняя… Что вы оттуда. Каждый из нас родом из своей страны. А откуда конкретно?
ЖИЛЬБЕРТА. Я думаю, вы ничего не слышали о маленькой деревушке в Восточных Пиренеях, где родился мой отец…
ПИКАССО. Скажите, как она называется… Я те края знаю неплохо…
ЖИЛЬБЕРТА. Совсем маленькое местечко… И название смешное: Каудиес-де-Фенуйедес…
ПИКАССО. Я прекрасно знаю Фенуйедес… Это в Руссильоне, высоко в горах, совсем рядом с испанской границей… А вы говорите по-каталонски?
ЖИЛЬБЕРТА. Всего несколько слов… Boutifares…
Пикассо смеется и задает ей вопрос по-каталонски, которого она не понимает.
ПИКАССО. Я вижу… Вы не очень хорошая каталонка…
БРАССАЙ. Во всяком случае, она обожает эти края. Очень любит сардану…
Пикассо поднимает руки и начинает насвистывать мелодию сарданы… Перед нами – молодой и подвижный каталонец, он танцует, и его ноги, обутые в забавные замшевые мокасины, ритмично скользят в характерном движении по инкрустированному паркету. Кажется ли ему, что он в Гозоле, над долиной Андорры, где некогда, свободный и счастливый, пил и охотился с тамошними крестьянами, танцевал с девушками, гулял с контрабандистами, носился верхом на муле? Или в Сере, в Восточных Пиренеях, где в молодые годы он с друзьями Браком и Маноло столько раз проводил лето? Он танцевал сардану. Он родом оттуда. «Каждый из нас родом из своей страны…»
БРАССАЙ. Приехав однажды в Барселону воскресным вечером, я испытал потрясение. Играла музыка – резкая, будоражащая… Большая площадь была заполнена народом – молодые девушки, парни… Сумки, куртки свалены в кучи на мостовой, и вокруг каждой кучи змеится живой круг из танцующих… Это выглядело так необычно… Особенно лица людей – серьезные, почти печальные… Ни смеха, ни улыбки… Все очень торжественно… У меня было ощущение, что я присутствую на религиозной церемонии…
ПИКАССО. Но сардана – это очень серьезно! И совсем непросто! Надо считать шаги… В каждой группе есть ведущий, который делает это за всех. Этот танец – как причастие для души… Он стирает классовые различия. Богатые и бедные, молодые и старые танцуют все вместе: почтальон с директором банка, прислуга – рука об руку со своими хозяевами…
Я показываю ему альбом граффити, который только что вышел в Германии. Чтобы его посмотреть, мы садимся вокруг маленького круглого столика…
* * *
Я стараюсь воспроизводить наши разговоры как можно точнее, однако без контекста они выглядят как рыба, вынутая из воды: им нечем дышать… Мастерские Пикассо, где бы они ни находились, каковы бы они ни были, всегда производят очень сильное впечатление. От потрясения меня спасало только то, что я бывал там часто. Но я не видел Пикассо тринадцать лет. Большинство из сделанного им за это время мне незнакомо. И я чувствовал себя незащищенным… Мне случалось испытывать эмоциональный шок: однажды в порту Танжер на меня напала целая толпа носильщиков-арабов, они орали, яростно жестикулировали, хватали меня за грудки, вырывали кто пальто, кто чемодан. В Стамбуле, на пустыре в Пера, меня окружил плотным враждебным кольцом целый табор цыган. В бразильской Бахиа я столкнулся с группой черных подростков, которых так возбудил вид моей камеры, что они принялись танцевать сарабанду вокруг своего пленника… Но никогда я не чувствовал себя таким внезапно и безнадежно потерянным, как на этой вилле… Искусство и природа, творчество и легенда, рыцарство и коррида, народные картинки, Олимп, Вальпургиева ночь – на меня разом обрушилось все… И разом заговорило, дергая вправо и влево, толкая со всех сторон, сдирая живьем кожу, хлеща по обнаженным нервам…
Пока я с ним говорю, из глубин огромных комнат мне подмигивают «Авиньонские девицы». Что они здесь делают? Разве их место не в Музее современного искусства в Нью-Йорке? И что означают непривычные цвета на полотне? А эти бронзовые бычьи головы? Когда они появились? Я никогда не видел их в репродукциях… А откуда взялось это огромное, раскинувшее лучи по стене, бледное, как зимой, необычайной красоты солнце? Из Мексики? И кто его автор? А эти серебряные чашки? При виде их я уронил свой мундштук, который Пикассо, опередив меня, поймал на лету и протянул мне. В восемьдесят лет его мышцы все так же гибки и эластичны, а реакция стремительна, как и раньше… Я с удивлением рассматриваю его брюки с необычным рисунком – в горизонтальную полоску… Похоже на шелк-сырец… Или неотбеленная шерсть, тканная вручную? Откуда эта одежда? Я вглядываюсь в его лицо, повернутое ко мне профилем, и считаю складки, берущие начало в углу глаза и расходящиеся веером в разных направлениях: ко лбу, к уху, по щеке. Когда он смеется, его профиль разрезают двенадцать лучей… А что это за вихревое движение вокруг нас? Коричневые, черные и белые пятна? Надо же, это бассет… А тот, что не отстает от него ни на шаг, далматинец? А вот и еще один, третий, боксер… Я готов к тому, что из всех уголков и закоулков мастерской выбегут еще десятки и даже сотни собак: два бульдога из Монружа, его первый парижский фокстерьер, великое множество Фриков, Эльфтов, Казбеков… Все собаки, которые были у Пикассо за всю жизнь, и те, которых он хотел бы иметь… Я слушаю его, но параллельно все предметы, сделанные его руками, собранные им или попавшие сюда тайными путями, притягивают мой взгляд, не отпускают его: «Беременная женщина», пока еще гипсовая, с разбухшим животом и торчащими грудями; керамическая сова; журавль… Я пытаюсь понять, из обломков чего сделана эта птица. Хвост, скорее всего, из лопаты; длинная шея, похоже, из куска кабеля… А хохолок – это старый газовый кран?.. А ее тонкая лапа? А эти графины, бутылки, бронзовые фрукты, братья и сестры «Стакана абсента», как и он раскрашенные масляной краской? Когда это все сделано? А три огромных прожектора, направленных на мольберт? Я их где-то уже видел… Ну конечно! В серии, написанной им в этой мастерской. К испытанию чувств добавляется волнение от того, что я после стольких лет снова вижу Пикассо, слышу его голос, ставший, как мне показалось, более низким, ощущаю на себе его взгляд. От этого клубка воспоминаний, приведенных в движение, от прошедших тринадцати лет, которые надо нагонять, от тысячи вопросов, которые необходимо задать… Мысли бьются в моей голове, как возбужденные пчелы в улье, как муравьи в растревоженном муравейнике…