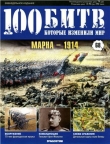Текст книги "Разговоры с Пикассо"
Автор книги: Дьюла Халас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Пятница 13 декабря 1946
Вчера, вернувшись домой, я нашел телефонное послание от Сабартеса: «Брассай, если сможете, приходите к Пикассо как можно раньше…» Утром он звонит снова.
САБАРТЕС. Быстро приходите! Пикассо сделал нечто удивительное… Это он просил позвать вас… О чем речь? Не могу объяснить по телефону… Увидите сами… Это сюрприз! Надо ловить момент… Хватайте такси – и сюда… А то он может передумать…
Я нахожу Пикассо в толпе посетителей, в основном иностранцев. На нем толстая красная шерстяная куртка в крупную черную клетку – видимо, подарок кого-то из американцев. Едва я успел с ним поздороваться, как Сабартес утащил меня в мастерскую: «Пойдемте, пойдемте, оставим его с этими занудами! Мы скоро от них отделаемся! Вы только взгляните!»
И что же я вижу? Настоящего художника! Он тут, в натуральную величину, перед громадным полотном, в белой блузе, с палитрой и пучком кистей в руках… Стоит и размышляет над тайной картины, которая сначала называлась «Серенада», а потом была переименована в «Утреннюю серенаду». На полотне – две женщины. Одна – нагая – лежит на полосатом диване, как «Спящая цыганка» Руссо. Другая – одетая – сидит на стуле с мандолиной на коленях. Видимо, одновременное присутствие в его жизни двух женщин подтолкнуло его к этому замыслу и еще целой серии других полотен на ту же тему.[70]70
Написанная в 1942 году, «Утренняя серенада» находится в Музее современного искусства.
[Закрыть]
САБАРТЕС (внимательно следя за выражением моего лица). Ну, что скажете? Эта мысль пришла ему внезапно. И он тут же ее реализовал…
Я рассматриваю «Настоящего художника». Большая голова из бронзы, посаженная на манекен 1900-го, который Пикассо нарядил соответствующим образом. Он сам, быстренько спровадив посетителей, тоже присоединился к нам. Глаза его хитро поблескивают:
– Я хотел сделать вам сюрприз! Занятный персонаж, не правда ли? А палитра? Вы видели его палитру? Мне ее прислали из Соединенных Штатов. Они делают их из небьющегося стекла, из пирекса, я думаю… Палитра никудышняя. Краски на ней видны плохо – полный абсурд! И все же стеклянная палитра – предмет волшебный! Она и навела на мысль о таком маскараде: «настоящий художник» с прозрачной, сверкающей палитрой!
Я делаю несколько снимков. Пикассо мне помогает и, под снисходительным взглядом Сабартеса, веселится как школьник, удачно подшутивший над товарищем… Когда я уже заканчивал, он принес мне еще несколько статуэток.
ПИКАССО. Вот, я нашел еще этих. Увы, цела только одна. Остальные придется склеивать. Но когда и как? На следующей неделе? Эти маленькие фигурки – из глины… Я забыл их обжечь. А пересохшая глина – очень хрупкая: ломается, крошится…
Я отдаю Пикассо фотографии гравированной гальки и снятой в разных ракурсах его мастерской.
БРАССАЙ. Фотографии полотен, снятых в их естественном окружении, кажутся мне более живыми, чем репродукции. По ним можно судить о размерах картины: ты видишь ее такой, какова она есть. А репродукция… В сущности, нет ничего более обманчивого, чем репродукция! Недавно вы мне показали репродукцию «Вакханалии», и я принял ее за большое полотно. И был весьма удивлен, узнав, что речь идет о маленькой гуаши.
ПИКАССО (лукаво посмеиваясь, вытаскивает из папки «Вакханалию»). Вот она! Я написал ее «в стиле Пуссена» в кровавые дни Освобождения, в августе… Пальба шла повсюду… Танки наезжали на жилые дома…
Я рассматриваю «Вакханалию»: вихрь желания, тесно переплетенные тела… На этой гуаши сражались тоже не на жизнь, а на смерть. Вдохновляясь Пуссеном, Пикассо в те трагические дни не стал сдерживать свое возбуждение. Вокруг бородатого фавна и нимфы с пышными ягодицами и агрессивно торчащими сосками – настоящее поле брани: жаркая рукопашная схватка… Из клубка тел торчат непонятно кому принадлежащие руки и ноги…
ПИКАССО. В первые дни Освобождения один американский фотограф сделал с нее цветную репродукцию. Это был первый американец, который ко мне пришел… Имени я не помню… Но вы совершенно правы, что предпочитаете видеть картину в ее естественном окружении. Я всегда умолял Зервоса не замыкаться в простой репродукции. Ведь часто картину лучше понимаешь на фоне окружающей ее жизни…
И мы возвращаемся – уж не знаю в который раз – к бумажным скульптурам, которые, из-за постоянно возникающих непредвиденных обстоятельств, мы никак не могли сфотографировать… Я мог бы это сделать и в отсутствие Пикассо. Однако он хочет присутствовать на сессии, потому что, как ему кажется, для хрупких, недолговечных изделий последний штрих особенно важен…
ПИКАССО. Я хочу делать это вместе с вами… Было бы хорошо, если бы мы смогли посвятить такой работе целый день… Это долго – искать лучший ракурс, самое удачное освещение… Но когда мы сумеем выкроить для этого целый день?..
Вторник 17 декабря 1946
Великий переполох. Наконец-то привезли машину угля… С перемазанными лицами, прикрыв голову черными мешками, угольщики снуют туда-сюда, а Инес и Марсель тем временем набивают им камины и бойлеры… С зимой шутки плохи…
САБАРТЕС (ворчливо). Зачем нужен весь этот уголь? Холод стоит такой, что обогреть громадную мастерскую все равно не удастся… Может быть, стоит всем собраться в нескольких комнатах? Мешки с углем все подносят и подносят, бойлер раскочегарили, но, по-моему, теплее не становится…
На секунду показывается Пикассо. Вид у него затравленный. Он обращается к Сабартесу и повторяет: «Следователь…», «Следователь…», «В четыре часа я должен быть у следователя… Ты обязательно должен пойти со мной… А что, если позвонить П., чтобы он тоже пошел с нами? Он там пригодится… Ты знаешь, я не люблю ходить один к следователю…» Следователь! Должно быть, снова всплыла та фантастическая история о краже статуэток из Лувра, когда после ареста Гийома Аполлинера обвинение пало на Пикассо и ранним утром его доставили на допрос. Он панически боится властей и, получив повестку в суд, совершенно теряет самообладание…
Сфотографировать я могу лишь одну статуэтку из обожженной глины, остальные он не успел для меня приготовить. Сделав снимки, разговариваю с Сабартесом. Я только что прочитал его недавно вышедшую книгу: «Портреты и воспоминания». Чтение очаровывает своей обескураживающей и, я бы сказал, методичной, намеренной хаотичностью. Как верный пес, вертясь волчком и прыгая у ног хозяина, радостно следует за ним повсюду, так и Сабартес на одной и той же странице мечется между Барселоной конца века и толчеей здешней прихожей, с ее несмолкающим телефоном, Марселем, объявляющим о новых посетителях, и грудами почты Пикассо, которую следует открыть, прочитать и рассортировать… Мне нравится, что этот человек, обретя свое божество, не погрузился в безмятежное, безоговорочное обожание, а попытался взглянуть на свой предмет критически, описывая причуды художника в довольно язвительном тоне… Он, не стесняясь, вытаскивает наружу все противоречия, сомнения, странности, перепады настроения и слабости, собственно и составляющие обаяние и притягательную силу мастера… С нескрываемой горечью автор намекает на ссору, из-за которой их дружба прервалась больше чем на год… Скромная биография, целью которой было нарисовать портрет Пикассо, оставила нам между строк также и портрет самого Сабартеса: несмотря на крайнюю сдержанность, с какой написана книга, это, по сути, его автопортрет. Она обнажает его обидчивое смирение, горделивую застенчивость, намеренное затушевывание себя как безропотного свидетеля, упорно не желавшего навязывать Пикассо свое мнение.
Я поздравляю его с выходом в свет этого живого и незаменимого свидетельства.
САБАРТЕС. Так вы прочли историю моих портретов? Пикассо сам подталкивал меня к написанию книги. Это было в Руайяне, в минуту вынужденного безделья и уныния: он посоветовал мне работать, писать… Тогда же мне и пришла мысль взять в качестве стержня повествования историю о том, как Пикассо писал мои портреты. Судьба распорядилась так, что всякую пору моей жизни рядом с ним он отмечал моим портретом… Ну и какое у вас впечатление? Я жду ваших критических замечаний!
БРАССАЙ. Единственное, в чем я могу вас упрекнуть, так это в том, что вы ничего не рассказываете о любовных историях Пикассо… Ни слова о его женщинах… Их словно и не существовало вовсе. Но ведь ваша сдержанность ощутимо искажает сами факты, изложенные в книге. Вы описываете путешествия одинокого Пикассо и заставляете читателя сопереживать его горькой судьбе, хотя на самом деле он никогда не был один… И это все меняет. Почему вы ничего не сказали о женщинах? Ведь вы же признаете важность той роли, которую они сыграли в его жизни, в его творчестве? И ваше положение таково, что вы могли бы рассказать о них лучше, чем кто бы то ни было…
САБАРТЕС. Положение слишком удобное… Поэтому я и должен держать рот на замке… Для меня этот сюжет заказан… К тому же я ведь и не знаю, чту Пикассо, в глубине души, думает о женщинах и о любви… Можно подумать, что он делится со мной всем, доверяет мне свои самые сокровенные мысли… Не заблуждайтесь на сей счет! Ничего подобного! Когда мы остаемся один на один, то разговариваем очень мало… Весьма наглядная картинка одиночества вдвоем. Что же до любовных историй, то могу лишь констатировать благое воздействие, которое они оказывали на искусство Пикассо: синусоида его творчества полностью совпадает с синусоидой любви… И так ли уж нужно говорить о женщинах? Выстраивать цепочку из тех, кто что-то значил в его жизни? Я не думаю. Женщины приходят и уходят… А творчество остается…
Входит Пауло, сын Пикассо. Он живет в Швейцарии. Я смотрю на мальчика. Он очень похож на мать и почти совсем не похож на отца.
Пятница 20 декабря 1946
Недавно я ужинал с Жильбертой в ресторане «Куполь» на Монпарнасе. И в этом огромном кафе, среди посетителей, сидящих за столиками перед блюдами раков и даров моря, я заметил Анри Матисса с клетчатой каскеткой на голове, в компании с красавицей Лидией. Он был в благодушном настроении и ел с большим аппетитом…
АНРИ МАТИСС. Мы пробудем в Париже еще недели две… Я вспоминал о вас, и мне хотелось бы, чтобы вы пришли ко мне – на бульвар Монпарнас… Перед тем как уехать с юга, я сказал Лидии: «Прошлым летом, когда Брассай был у меня в Вансе, ему очень понравилась шапка из войлока, которые делают румынские пастухи… Надо отвезти ему такую в Париж… Положите ее в чемодан…» Вы примеряли, вам очень шло. Мягкий цвет материала очень удачно оттеняет блеск ваших черных глаз… Вам надо сделать собственную фотографию в этой шапке…
Я поблагодарил его за заботу, хотя и слегка удивился: будучи в Вансе, я не высказывал ни малейшего желания обзавестись таким странным головным убором. Однако, чтобы его не разочаровать, я пообещал зайти за шапкой. «Я сделал вам предложение, – сказал он, когда мы расставались, – воспользуйтесь им!»
Сегодня во второй половине дня я иду к нему – в дом № 132 по бульвару Монпарнас. Господь знает, знаком ли мне этот дом! По удивительному совпадению, именно здесь живет Жильберта… Из ее окон можно видеть, как Лидия развешивает на длинной бечевке влажные рисунки Матисса… Иногда вся его кухня оказывается увешанной этим странным бельем на прищепках… В первый раз я попал сюда лет десять назад: пришел, чтобы сфотографировать Матисса с его птицами, по большей части редкими. Хозяин развлекался тем, что просовывал в клетку на выбор двум «труженикам» шерстяные нити в тонах своей палитры, из которых они, с помощью клювов, ткали крошечные коврики «Матисс».
Русская красавица провела нас в большую комнату, где несколько месяцев назад, во время моего предыдущего визита, Матисс, лежа в постели, вырезал из цветной бумаги фигурки, вызывающие в памяти Океанию… А Лидия тут же развешивала их по стенам…
АНРИ МАТИСС. Воспоминания о путешествии на Таити пришли ко мне только теперь, пятнадцать лет спустя, в форме неотвязно присутствующих в голове образов: кораллы, морские звезды, рыбы, птицы, медузы, губки… И любопытно, не правда ли, что все это волшебство моря и небес в ту пору меня совершенно не возбуждало? Я вернулся с островов с пустыми руками… Не привез даже фотографий… А ведь я купил очень дорогой аппарат. Но, оказавшись там, стал сомневаться: «Если я начну снимать все, что увижу в Океании, – рассуждал я, – то у меня останутся только эти жалкие, плоские картинки. И они помешают моим впечатлениям идти в глубину…» Как мне теперь кажется, я был прав. Гораздо важнее впитывать впечатления, чем пытаться запечатлеть увиденное.
Впервые в жизни я наблюдал, как нечто очень похожее на «непроизвольные воспоминания» Пруста проявлялось в форме живописи… Что-то вроде «Обретенного времени»… Пруст писал следующее: «<…> литература, которая довольствуется тем, что “описывает предметы”, делая из них жалкие копии в виде строк и некоей видимости (здесь он явно намекает на фотографию), и при этом считает себя реалистичной, на самом деле безнадежно удалена от реальности и, в сущности, обедняет жизнь, делая ее донельзя грустной, поскольку резко разрывает всякую связь нашего нынешнего “я” с прошлым, дух которого хранят эти предметы, и с будущим, куда жизнь манит нас вкусить ее снова. Именно эту связь и должно выражать искусство, достойное своего названия <…>».
Как и Матисс, он говорил и такое:
«Более того, предмет, который мы в определенный момент видели, книга, которую мы в определенный момент читали, остаются навеки связаны не только с тем, что нас тогда окружало. Они накрепко привязаны к тому, чем были тогда мы сами; и вызвать их в памяти можно, только ощутив себя той личностью, какой мы были тогда <…>».
А чуть дальше Пруст тоже говорит о «фотографиях предмета, глядя на которые мы вспоминаем себя хуже, чем довольствуясь только мыслями о нем» («Обретенное время»).
АНРИ МАТИСС. Я эти фигурки вырезаю и вешаю на стены – на какое-то время. Вот эти маленькие черточки обозначают линию горизонта… Пока не знаю, что из них выйдет… Может быть, панно, а может – стенная роспись…
Сейчас картинок на стенах больше нет… Я спрашиваю, что с ними сталось…
АНРИ МАТИСС. Я сделал из них большие панно. Они отправились в Англию и там «увидят свет»: их напечатают на льняном полотне – белый рисунок на бежевом фоне. Тиражом всего тридцать экземпляров.
На месте картинок теперь висит увеличенная фотография одного из полотен Матисса – некий узор, написанный углем.
АНРИ МАТИСС. Я заказал фотографию картины, потому что собираюсь сделать из нее гобелен… Готовлю ее для этого… Искусство гобелена подчиняется другим законам… На черном панно я обозначу свою «палитру» – этого будет достаточно…
Матисс, всегда жадный до новостей, дрожал от нетерпения, расспрашивая меня о последних событиях в жизни Пикассо… Вот уже сорок лет, как они – друзья-соперники, каждый для другого – товарищ по оружию, но и предмет особой ненависти… Я вспоминаю, как в прошлом году, когда в Лондоне, в Музее Виктории и Альберта, проходила их общая выставка, Матисс, показывая мне объемистую пачку критических статей в местной прессе, посвященных этому событию, с горечью и некоторой грустью заметил: «Большинство оскорблений получаю не я, а он… Меня щадят… Видимо, рядом с ним я выгляжу как слабый пол». Это напомнило мне каламбур Пикассо: «Брак – это моя жена…», который позже он слегка видоизменил: «Брак – моя бывшая жена…»
И вот Матисс меня расспрашивает: «Как у него дела? Что он поделывает? Как на любовном фронте?» Самые мелкие подробности, каждая шутка, слетающая с уст Пикассо, вся его жизнь вызывает у него страстный интерес… В Вансе он мне говорил: «Каждый год я посылаю Пикассо ящик апельсинов… Он раскладывает их по мастерской и говорит каждому посетителю: “Смотрите и восхищайтесь, это апельсины от Матисса…” Никто не смеет к ним даже прикасаться, не то что есть… В ответ Пикассо посылает ко мне покупателей… Недавно по его рекомендации явились два каких-то типа. Иностранцы… Купили у меня картину, заплатили очень хорошую цену – в долларах и кэшем… Но доллары оказались фальшивыми… Когда я это обнаружил, их уже и след простыл… Оказалось – жулики…»
Я рассказываю ему, как недавно Пикассо пришла идея нарядить свой бронзовый «манекен» в одежду «настоящего художника» и дать ему в руки прозрачную палитру…
АНРИ МАТИСС. Это, надо думать, подарок Поля Розенберга… Я тоже получил от него похожую палитру из плексигласа… Какая дурацкая затея! Прозрачная палитра! Наоборот: чтобы лучше видеть краски, она должна быть темной… Ту, что он мне прислал, я даже не попробовал в деле: все, что проникает через стекло, очень мешает… Кстати, вы посмотрели мой фильм?
Я действительно посмотрел его несколько дней назад, на вечере, посвященном Матиссу, в большом амфитеатре Сорбонны. Когда я в последний раз встречался с художником в Вансе, он был еще под впечатлением от съемки. «Это тяжелое испытание – когда тебя снимают, – признался он, – но я делал это с удовольствием. Когда видишь на экране собственное изображение, узнаешь себя лучше…» Мне не очень понравились эпизоды, поэтапно показывающие, как рождается полотно, вплоть до окончательного завершения, как и кадры, где в замедленном темпе снята рука художника за работой. Зрелище показалось тягостным и неубедительным. Но появление Матисса в широком плаще и белых перчатках произвело на меня впечатление. Думаю, ему было приятно, что для потомства останется именно такая картинка.
АНРИ МАТИСС. Мне было очень не по себе, когда крутили фильм. Многое меня смущало… Неделикатно показывать лицо работающего человека, это слишком интимно… Я понимаю, почему Боннар отказался, сочтя это эксгибиционизмом. Те же киношники, что снимали меня, предлагали и ему тоже…
БРАССАЙ. Примерно в это время я был у Боннара в Ле-Канне. Он очень сильно переживал потерю жены. «Фотографируйте у меня все, что хотите, кроме меня самого…» – сказал он. Некоторое время спустя, почувствовав угрызения совести и поняв, что меня больше всего интересует как раз его портрет, он слегка изменил условия: «Если хотите, вы можете снимать и меня, но только со спины…»
АНРИ МАТИСС. Я чувствовал себя так, словно стоял перед ними голый, без штанов… Но это незабываемый урок… Замедленная съемка просто потрясает… Очень странная вещь! Вы вдруг видите, как работает рука – бессознательно и безотчетно, а камера все это фиксирует, этап за этапом, раскладывая процесс на составные части… Эта очередность меня просто ошеломила… Я все время задавался вопросом: «Неужели все это делаю я? Именно это именно в этот момент?» Я потерял точку опоры… Не узнавал ни своей руки, ни своей картины… И лишь тоскливо размышлял: «Остановится эта рука? Или будет продолжать? И в каком направлении?» А потом потрясенно наблюдал, как она все продолжала и продолжала писать, и так до самого конца… Обычно, когда я начинаю рисунок, меня мучает страх, если не нечто большее. Но я никогда так не терялся, как при виде этой замедленной съемки: моя бедная рука двигается наобум, как если бы я работал с закрытыми глазами…
«С закрытыми глазами…» Эта спонтанность, пугающее могущество руки, вышедшей из-под контроля зрения и даже разума, произвели на Матисса неизгладимое впечатление. Он мучился вопросом, что его собственная рука может сделать, будучи отпущена на волю, как бы отделившись от остального тела? Вполне вероятно, что его мысль подталкивали в этом направлении эксперименты Пикассо… Году в 1933-м он сделал несколько рисунков – в темноте или с закрытыми глазами, когда органы чувств – глаза, нос, уши, губы – больше не исполняли своих функций. И, судя по всему, именно эти опыты несколькими годами позже и спровоцировали появление в творчестве Пикассо лиц со смещенными чертами. Однажды, в 1939-м, в своей мастерской на улице Плант, Матисс сделал для меня один рисунок с завязанными глазами. Это было лицо, написанное куском мела. Он сделал его одним росчерком. На чрезвычайно выразительном портрете глаза, рот, нос, уши громоздились друг на друга, как на искаженных лицах Пикассо. Матисс пришел от портрета в такой восторг, что попросил меня сфотографировать его рядом со своим творением. Не исключено, что сегодня оно существует уже только на моем снимке…
АНРИ МАТИСС. А вы видели фильм о Фернане Леже? Тот, что показывали в Соединенных Штатах? Очень забавный и без претензий, хотя цвета там ужасающие… У самого Леже такое красное лицо, что просто оторопь берет… В фильме показано, например, как он готовит салат… «Салат готовить не так просто!» Он кладет соль, перец, горчицу, добавляет растительное масло и уксус. А потом говорит: «Сварить похлебку тоже надо уметь!» Дальше мы видим, как он, с черпаком в руках, пробует какое-то варево. Однако, согласитесь, что «и курицу поджарить – тоже искусство». И вот Леже вытаскивает из духовки две подрумяненные куриные тушки и поливает их соком. И лишь после этого нам наконец показывают его стоящим за мольбертом, словно талант художника есть прямое и логичное следствие таланта поварского… «Писать картины – дело совсем не простое…» Он перебирает в руках куски раскрашенного дерева. И кладет их на полотно. Но их слишком много, они начинают сыпаться, и дальше вообще ничего не понятно… В итоге его стряпня оказалась гораздо убедительнее его живописи…
И Матисс разражается хохотом: звуки вырываются из узкого пространства между серебристыми усами и бородой. Я показываю ему несколько граффити. Он с интересом их рассматривает, особенно те, что изображают женский половой орган.
АНРИ МАТИСС. С самых древних времен его представляют примерно одинаково: в виде «кофейного зерна». Вы бывали в закрытом районе Тулона? Там такой знак можно было видеть на стенах повсюду. И все такого рода заведения имели вывески с изображением «кофейного зерна»… Иногда это была гравировка, иногда рисунок…
Я спрашиваю, окончательно ли он оправился от своей болезни.
АНРИ МАТИСС. Операция произвела на меня странное действие. До нее я очень плохо считал… Теперь же у меня проявилась неистребимая любовь к цифрам… Они постоянно толпятся у меня в мозгу… Должно быть, хирурги затронули математическую шишку… Результат всегда трудно просчитать. Один из моих издателей, перенеся операцию, начисто забыл все, что было до вторжения оккупантов… Ему как бы стерли память о прошлом… А я сам однажды, нюхая табак, вылечился от насморка… Я чихал подряд десять раз, двадцать, и насморк прошел… Теория шока сейчас в большой моде: симпатикотерапия, электрошок… Может, вы помните? Ведь когда Пикассо сильно страдал от воспаления седалищного нерва, его вылечил один врач, который воздействовал чем-то вроде электрошока на основание носа…
Уходя, я разговариваю с Лидией о пресловутой шляпе из войлока. Она мне говорит:
– Г-н Матисс очень дорожит этой шляпой… Она очень хрупкая и легко воспламеняется. Если на нее попадет пепел от сигареты, она загорится, как фитиль. А ведь вы курите. Поэтому г-н Матисс предпочел бы, чтобы вы не уносили шляпу, а сделали свой портрет у него…