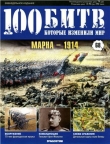Текст книги "Разговоры с Пикассо"
Автор книги: Дьюла Халас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Кокто я встречаю здесь уже не впервые. Укрывшись после бегства из Парижа в Перпиньяне, где он дописывал свою пьесу «Пишущая машинка», Кокто довольно быстро вернулся в столицу. В конце 1940-го он поселился в гостинице «Божоле», на краю сада Пале-Рояль, а в 1942-м снял квартиру на втором этаже дома № 36 по улице Монпарнас, недалеко от ресторана «Гран Вефур» и того места, где жила Колетт. Я иногда заходил к нему в это странное жилище, ухоженное стараниями его верной Мадлен, где обитал огромный кот и стояла грифельная доска для домашних записей. Окно квартиры выходит на аркады, решетки и светильники унылого сада, который покинули даже призраки щеголей и вольнодумцев. Пикассо и Кокто знакомы уже двадцать восемь лет. Их дружба так же крепка, как и в тот день, когда в 1917 году, в разгар войны, поэту удалось вырвать художника из его мастерской на Монпарнасе и увлечь работой над «Балаганчиком», который они создавали вместе с Дягилевым. Кокто часто говорил, что Пикассо – главная встреча в его жизни. Вероятно, его подвижный как ртуть ум зажигался от дерзновенности и ясности мышления художника, на него оказывали мощное воздействие чувство юмора Пикассо, его умение рвать отношения и возрождаться, его речевые шалости, искусство умолчания, поразительные характеристики, его «глубинная оригинальность»… С момента своего возвращения в Париж Кокто часто сюда приходит, чтобы припасть к этому неиссякаемому источнику. Иногда они вместе обедают в «Каталане» – с Жаном Маре или без него. И Кокто уже не опасается оказаться нос к носу с Полем Элюаром: два поэта стерли из памяти свои старые, зачастую весьма бурные ссоры, которые разводили их в эпоху сюрреализма. Я смотрю на Кокто: еще молодой и гибкий, весь нервно-мускулистый, ни капли лишней плоти, на постриженной бобриком голове ни одного седого волоса. Длинные кисти рук с костистыми запястьями и вытянутыми пальцами, чье изящество подчеркивают очень узкие и короткие рукава пиджака, порхают в воздухе, словно вторя словам, с головокружительной скоростью слетающим с его губ… Он говорит о кино… После «Жюльетты, или Ключа к снам» и «Барона-призрака», для которых он писал диалоги, Кокто завершил съемки «Вечного возвращения», навеянного легендой о «Тристане и Изольде». Это первый полнометражный фильм, для которого он сам написал весь сценарий. «Если поэты завладеют кино, – рассуждает он, – оно может стать столбовой дорогой поэзии». Кокто полон планов и уже мечтает о новом фильме, который собирается снимать вместе с Жаном Маре и Бераром: «Красавица и чудовище»…
* * *
Посетители уходят, и я остаюсь один с Пикассо. Мое внимание привлекает скульптура в виде барельефа, вся черная, висящая на стене. Я подхожу и обнаруживаю тушку кролика со снятой шкурой, высохшую, как мумия…
ПИКАССО. Не правда ли, чудесный? Я нашел его на Кур Каре в Лувре…
Меня забавляет мысль, что этот несчастный кролик, выброшенный или потерявшийся во дворе Лувра, возможно, вернется однажды в музей… Для этого будет достаточно, чтобы Пикассо его реабилитировал, вернул ему чувство собственного достоинства, введя в свою композицию, как он поступил с половой тряпкой из ванной комнаты на улице Боеси, которая превратилась в «Гитару». Почему бы этому кролику без шкуры не воспользоваться выпавшим на его долю шансом на подобное приключение?
ПИКАССО. Я собираю все и особенно то, что выбрасывают другие… Вы знаете, какое прозвище мне дал однажды Кокто? «Король-старьевщик»! Взгляните…
И он показывает мне несколько маленьких коробочек из белого дерева.
ПИКАССО. Я вытащил их из мусорного ведра этой ночью, когда вернулся домой. Как изобретательно и в то же время просто сделаны эти шкатулки – это же просто чудо! Посмотрите, как хитроумно все устроено: крышка открывается и закрывается, а шарнирами служат два простых гвоздика. Настоящее произведение искусства!
Я, как и Пикассо, люблю простые, незатейливые материалы и всяческие остатки. И тут мне на ум приходит мысль о Леонардо, чья голова была полна схожими идеями: «…я действую так, как человек, который, по причине бедности, приходит на ярмарку последним и покупает вещи, виденные и отброшенные другими…»
БРАССАЙ. Я обожаю большие коробки со спичками. Склеиваю их между собой, и получаются настоящие небоскребы. Каждая коробочка превращается в ящичек со спичками, кнопками, скрепками, ланцетами, булавками, предохранителями, окурками, сигаретной бумагой… В нынешние неспокойные времена с воздушными тревогами, отключениями электричества, нехваткой курева я часто прибегаю к помощи этой полезной «мебели» – она всегда под рукой…
ПИКАССО. Я тоже не выбрасываю коробки из-под спичек и из-под сигарет. Храню их, скапливаю. Вы же помните эти кучи на камине, на улице Боеси? А спички! Мне всегда хочется что-нибудь из них делать – скульптуры, какие-то конструкции… Они напоминают железные трубы в уменьшенном виде, те, из которых собирают леса… Смотрите, я вам что-то покажу…
Пикассо исчезает и возвращается, держа в руках маленькую деревянную дощечку, на которой укреплена оригинальная и дерзкая конструкция, настоящее хитросплетение из спичек, соединенных между собой маленькими шариками пластилина. Мне бы хотелось ее сфотографировать. Но Пикассо объясняет, что в ней не хватает нескольких элементов, но он рассчитывает вскоре эту скульптуру закончить… К тому же уже час дня, а мой фотоаппарат еще в чехле… Ну что ж, снимем в следующий раз…[41]41
Но это намерение, как, впрочем, и множество других, так и не было реализовано. Подобные вещи надо делать тут же, на месте. А хрупкая спичечная конструкция, скорее всего, сломалась…
[Закрыть]
Париж, 28 апреля 1944
Мы с Пикассо договорились, что этим утром пойдем в пристройку к мастерской на улице Гранд-Огюстен. Он еще не встал и просит меня подняться. Это – знак дружеского расположения: он допускает к себе в спальню только своих и самых близких друзей…
Нагота этой комнаты резко контрастирует с захламленностью его мастерской. Сидя на кровати, Пикассо курит сигарету «Голуаз». Должно быть, этой ночью он выкурил их множество: пепельница полна окурков. Марсель только что принес ему почту. Несколько писем, открытых и прочтенных, валяются на одеяле. На табурете – вчерашние вечерние и сегодняшние газеты. И несколько книг… Никто никогда не видел Пикассо с книгой в руках. Но при этом он всегда все читал и все помнит. Судя по его высказываниям, он знает литературную жизнь и в курсе всего, что публикуется… Читает он много… Но никогда днем, а только поздно ночью, оставив свои кисти, до того момента, пока его не сморит сон…
ПИКАССО. Часто случается, что вы не приходите, хотя мы и договаривались… Это значит, что встрече с Пикассо вы предпочли свою постель или даму… Ну, так и я тоже могу иногда себе позволить предпочесть свою постель встрече с вами, согласны?.. В мастерскую мы пойдем как-нибудь потом… А кстати, знаете, почему я еще не встал? Потому что этот чертов черенок от метлы, который принес Жан Маре, совершенно меня доконал… Я мучился с ним всю ночь… Хотите посмотреть? Вон там, в углу. Ну, как вам царский скипетр Пирра?
Я беру палку в руки. Она очень хороша. Пикассо выжег на ней геометрический орнамент из длинных спиралей и кругов – архаичный стиль, весьма удачно воспроизведенный. И снова я поражаюсь его безошибочной, неистребимой способности одушевлять любой материал, попадающий ему в руки. Он с первого взгляда угадывает, выдумывает, находит самую подходящую технику и делает это так, словно все источники, тайны, приемы, весь многовековой опыт графических и пластических ремесел постоянно в его распоряжении.
ПИКАССО. Вначале я собирался ее раскрасить… Но на сцене черное и белое производят больший эффект, чем цветное. И тогда мне пришла мысль обжечь палку… Но чем? Инструментов для пирогравюры у меня здесь нет… А Жану Маре нужно срочно… И тут я подумал об электрической плитке. Всю ночь я крутил палку так и этак над раскаленной спиралью… Это потребовало гораздо больше времени и оказалось труднее, чем я предполагал…
Время от времени заходит Сабартес и объявляет: «Вас хочет видеть такой-то… Он пришел, чтобы…»; «Вам звонил такой-то… Он зайдет через час…»
Среда 3 мая 1944
Надеюсь, что на этот раз нам удастся сходить в пристройку к мастерской.
САБАРТЕС. Вы зашли очень неудачно… Пикассо слишком занят сегодня утром… У него не будет времени идти с вами в хранилище…
Я уже собираюсь уйти, когда вдруг появляется он сам – сияющий, дружелюбный. Я показываю ему фото, где Пикассо изображает «настоящего художника», стоя перед полотном с пухлой обнаженной женщиной. Он восхищен. Потом достаю папку со снимками «группового портрета» и показываю вначале тот, который не удался. «Я все же его проявил, думаю, он вас позабавит…»
ПИКАССО. И правильно сделали. Какой документ! Когда «событие» произошло, мы все смотрели в объектив. И что же мы видим? Никто даже не шелохнулся. А ведь вы опрокинули миску, и полилась вода… Только мы с Казбеком среагировали вовремя. Почему? Потому что у меня мгновенная реакция, такая же быстрая, как у собаки…
БРАССАЙ (смеясь). Другие не среагировали, потому что не хотели испортить фото с Пикассо. А вы были озабочены тем, чтобы я не испортил ваши натюрморты… Мне так кажется…
Пикассо тоже смеется: он знает, что я шучу. Потому что он, безусловно, обладает мгновенной реакцией. Это видно по стремительности его жестов и взглядов, по неусыпной бдительности и неизменному присутствию духа – как у тореро, для которого малейшая слабость или рассеянность может оказаться смертельной… Я показываю ему второй «групповой портрет».[42]42
Пейнадо рассказывает мне (ноябрь 1963 года): «Однажды, когда я был у него, зазвонил телефон. “Это вы, Пабло? Говорит Ван Гог”. И Пикассо, без малейшего удивления или колебания: “Я понял, но какой именно? Винсент или Тео?”»
[Закрыть]
ПИКАССО. Взгляните. Что привлекает взгляд прежде всего? Складка на брюках Жана Кокто! Как лезвие бритвы, как свинцовый отвес! Сколько я его знаю, эта складка всегда была такой же четкой, такой же безупречной. Кокто родился со своей складкой на брюках, он лежал с ней в колыбели. Он появился на свет в отглаженном костюме с иголочки… А теперь обратите внимание на элегантного Жана Маре. Хорошо же я смотрюсь между этими двумя! Со своими штанинами штопором, которые давно забыли, что такое складка, выгляжу как оборванец… У меня на сегодня намечено много встреч, в том числе с одной красивой дамой из Южной Америки. И мы не сможем пойти в мастерскую, мне очень жаль. А мне еще надо прихорошиться… А вы оставайтесь. Фотографируйте что хотите, даже эту молодую латиноамериканку, если она вам понравится… Вы мне не мешаете…
Освещение сегодня великолепное. Крыши, каминные трубы, стены домов – пейзаж, который у Пикассо всегда перед глазами, когда он пишет, – все это как бы слегка вибрирует: неброский фоновый холст в размытых серых, красноватых и бежевых тонах. Сквозь проем большого окна солнечные лучи проникают в комнату; в воздухе возле старых балок пляшут пылинки. Свет струится по красной шестигранной плитке пола, дробится и рассыпается на его шероховатостях, озаряя небольшой, перепачканный краской металлический столик со следами ночного сражения – кистями и тюбиками – и заливая теплом коврик, где собака Пикассо, с наслаждением вытянувшись, греет лапы и тощий зад.
Я делаю несколько снимков. Все это время в прихожей толпятся посетители. Снизу до меня долетают обрывки разговоров, чьи-то голоса, резкий смех Пикассо. Он ненадолго поднимается наверх с латиноамериканкой, чтобы показать ей картины. На дворе полдень. Посетители расходятся.
САБАРТЕС. Я тоже ухожу… Попахивает воздушной тревогой… А если ее объявят, то отключат газ и я не успею приготовить себе обед. Так уже было много раз…
Пикассо поднимается наверх и садится: «Уф! Наконец-то один!» И внезапно задает мне свой вечный вопрос: «А как же с рисованием? Вы не начали снова рисовать?»
С нового года я действительно начал и сегодня как раз принес папку с последними рисунками. Он хочет их посмотреть.
ПИСКАССО. Они мне нравятся даже больше, чем ваши юношеские. Мне нет никакого смысла вам льстить и что-то выдумывать… Но вам надо бы устроить выставку. Какой смысл прятать все это? Эти рисунки надо показывать, продавать…
Я возражаю, что уже выбрал фотографию, что мне не хотелось бы разбрасываться, что я не брался за карандаш с двадцати лет и что, если бы не он, никогда не делал бы новых попыток…
ПИКАССО (почти гневно). Если честно, я вас не понимаю! Вы обладаете даром и не пользуетесь им. Ведь это невозможно, слышите, невозможно, чтобы фотография могла удовлетворить вас полностью. Она принуждает вас к полному самоотречению!
БРАССАЙ. Но это самоотречение мне нравится. У меня есть глаз, но нет руки. Я не могу касаться предметов… В фотографию удаляются как в монастырь. Вы же сами, в период увлечения кубизмом, тоже приняли новые правила игры. Отреклись. Это суровая дисциплина. На ваших полотнах не было подписи…
ПИКАССО. Наверное… Но это длилось не так долго… Когда тебе есть что сказать, что выразить, долгое воздержание в конце концов становится невыносимым… Чтобы иметь призвание, нужно мужество, и чтобы пойти ему навстречу – тоже… «Второе ремесло» – это ловушка, ложная цель! Я тоже часто сидел без гроша, но при этом всегда сопротивлялся соблазну зарабатывать чем-то другим, кроме своей живописи… А ведь мог бы штамповать карикатуры для сатирических журналов, как это делали Хуан Грис, ван Донген или Вийон… Журнал «Масленка» предлагал мне по восемьсот франков за рисунок, но я предпочитал добывать пропитание живописью… Вначале я продавал картины дешево, но все-таки продавал… Мои рисунки, полотна уходили… Это – самое важное…
Я объясняю Пикассо, что для меня фотография – это не «второе ремесло» только для заработка, а мой способ выразить наше время.
БРАССАЙ. Мало кто из художников сумеет заставить публику принять «Авиньонских девиц»… Другие просто умерли бы с голоду. Матисс сказал мне однажды: «Чтобы уметь защищать свое дарование, надо быть сильнее его»… У вас эта способность есть: в двадцать пять лет вы уже были знамениты, добились успеха…
ПИКАССО. Но это важная вещь – успех! Часто приходится слышать, что художник должен работать для себя, «из любви к искусству», и презирать успех… Это неправильно! Художнику необходим успех. И не только для того, чтобы было на что жить, а главным образом чтобы реализовать свои творческие устремления. Даже богатый художник должен уметь успех. Мало кто из людей хоть что-то понимает в искусстве, и чувствовать живопись дано очень немногим. Большинство судит о произведении искусства по тому, какой успех оно имеет. Зачем в таком случае отдавать его «успешным художникам»? У каждого поколения свои кумиры… Но где сказано, что успех должен сопутствовать только тем, кто потакает вкусам публики? Что до меня, то я хотел доказать, что можно быть успешным вопреки всему, ничем не поступаясь… Хотите я вам скажу? Успех, достигнутый в молодости, стал моей защитной броней… «Голубой период», «розовый период» – это зонтик, которым я прикрывался…
БРАССАЙ. «Самое надежное убежище – ранняя слава…» – как говорил Ницше.
ПИКАССО. Абсолютно справедливо. Именно под защитой своего успеха я мог делать, что хотел. Все, что хотел…
Пикассо раскладывает мои рисунки. Он расставляет их вдоль стен, прислоняет к мебели, кладет прямо на пол. Рассматривает и все время бормочет: «Их надо выставлять. И продавать… Не мешайте… Я сам этим займусь…»
Мы разговариваем уже целый час. Звонят в дверь. Пикассо знакомит меня с кем-то, чье имя я не расслышал.
– Чьи это такие красивые рисунки? – спрашивает пришедший.
ПИКАССО. Хотите их выставить? Я как раз о вас и подумал.
– С удовольствием, – отвечает неизвестный. – Они мне нравятся.
Пикассо говорит, указывая на меня:
– Вот их автор. Вы можете договориться напрямую с Брассаем.
Когда посетитель уходит, Пикассо говорит мне:
– Очень удачно получилось… Все пойдет даже быстрее, чем я думал… Вы попадете в хорошие руки. Знаете галерею «Рену и Коль» в Фобур-Сент-Оноре? Это очень хорошая галерея. У меня была там выставка рисунков, еще до войны, в 1936-м, если не ошибаюсь… Человек, с которым вы только что познакомились, Пьер Коль. Я уверен, что у вас будет успех…
Мы выходим из мастерской вместе, и он все продолжает давать мне советы:
– Не заламывайте слишком высокую цену… Гораздо важнее – продать как можно больше. Нужно, чтобы ваши рисунки разошлись по свету…
Четверг 4 мая 1944
Сабартес, в своей фуражке с подбородником, в компании Марселя и молодого человека, Робера Мариона, родственника Кристиана Зервоса. Перед ними – громадная куча папок с завязанными тесемками, битком набитых рисунками и гуашами. На каждой – надпись и дата. На одной из них читаю: Буажелу, 1936. В другой нахожу самые ранние из парижских рисунков Пикассо, собранных в тетради по несколько набросков: каждая страница пронумерована, аннотирована, проштемпелевана словно в музейном хранилище.
Я интересуюсь у Сабартеса, много ли у Пикассо таких папок.
САБАРТЕС. Думаю, около шестидесяти… Но многие заперты в шкафах и ящиках. Как узнаешь, сколько их всего? Некоторые отсортированы, и в них только его произведения. В остальных, помимо его собственных, собраны вперемешку буклеты, старинные гравюры, выставочные каталоги, рисунки и литографии других художников. Навести тут порядок – дело непростое!
Трое мужчин заняты инвентаризацией этих богатств: составляют каталог для нового выпуска журнала «Кайе д’Ар» – потрясающее издание, которое предполагает объять – а это беспрецедентная вещь для живущего художника – все творчество Пикассо. Скорее всего, собрать абсолютно все им не удастся… Даже через столетие будут всплывать какие-то его рисунки, гуаши, скульптуры, не вошедшие в полный список, укрывшиеся от глаз исследователей.
Меня удивляет, что процессом командует вооружившийся линейкой Марсель, шофер, который не сидел за рулем уже четыре года. Именно он составляет списки, определяет каждый лист в ту или иную категорию, безапелляционно объявляет: «№ 2735, графит, 30 на 36, Буажелу, 16 марта 1936 года», придавая тем самым гражданский статус каждому творению Пикассо. К моему изумлению, этот «человек из народа» прекрасно осведомлен о различных этапах творчества Пикассо и весьма грамотно оперирует специальной терминологией. Я делюсь своими впечатлениями с Сабартесом.
САБАРТЕС. Пример Марселя показывает, насколько быстро самые новаторские порывы Пикассо становятся классикой… Ни одно из его произведений, сколь бы загадочным и дерзким оно ни было, не раздражает простого зрителя, не вызывает его неодобрения или насмешки… Марсель не видит в нем ничего разрушительного или вызывающего… Полагаю, что вначале эта живопись слегка сбила его с толку. Однако за двадцать лет каждодневного и тесного общения с творчеством Пикассо он научился понимать его язык, остающийся недоступным для многих. Эта эволюция человека простой профессии доказывает, что Пикассо, обращаясь к еще не существующей публике, создает ее и сообщает ей критерии, по которым надо судить его творчество. И то, что Марсель оказался таким сведущим, обозначает лишь, что благодаря близости к живописи Пикассо период ученичества оказался для него не слишком долгим.
Глядя на проходящие перед глазами рисунки, я с удивлением заметил среди них портреты настолько кропотливо исполненные, что можно было сосчитать ресницы и трещинки на губах. Эти почти «натуралистические», классические до банальности рисунки встречаются во все периоды творчества Пикассо и, как кажется, совершенно не зависят от принятого им в данный момент стиля… Я беру один из них, на котором изображена спящая Дора Маар…
САБАРТЕС. Господи, что вы делаете! Вы берете рисунок одной рукой? Если бы это увидел Пикассо, он бы вас убил… Ни к чему он не относится с такой щепетильностью, как к грунтовке своих рисунков. Она должна быть безупречной, абсолютно гладкой, без единой морщинки. В этом он чрезвычайно неуступчив и не прощает небрежности даже друзьям. Недавно выставил за дверь одного издателя, неосторожно взявшего рисунок одной рукой и за середину, а не обеими и за края…
Пятница 5 мая 1944
Сегодня утром мы – наконец-то! – идем с Пикассо и издателем будущей книги в пристройку к мастерской. Первые изваяния, которые я там вижу, я видел и раньше – это фигуры из кованого железа из парка Буажелу.
ПИКАССО. Они были сильно повреждены… Во время войны в моем замке стояли подразделения сперва французских войск, а потом и вермахта. Немцы не нанесли никакого урона. Зато французские солдаты, участники «странной войны», развлекались тем, что выбрасывали статуи в окна… Я их поправил как мог…
Потом он открывает ящики… Мне не терпится посмотреть на то, чего я еще не видел. Из-за дефицита бронзы все скульптуры – гипсовые: птицы, голуби, разные фигурки, много портретных барельефов-негативов. Есть очень любопытные оттиски. Я представляю себе, как Пикассо – с той серьезностью, какую дети и боги вносят в свои игры – отпечатывает на мягком гипсе диковинные формы, контуры, конфигурации, предметы. Он берет крышку какой-нибудь коробки, апельсин, кору дерева. А может, листок дерева, живой или мертвый? Эти опыты восходят к 1934 году, они начались еще в Буажелу… Я представляю себе, как он экспериментирует то с кондитерскими формами для выпечки, то с маленькими формочками, с которыми дети любят играть на пляже, и с удивлением замечает, что слепок простого гофрированного картона может смотреться столь же монументально, как и Великая китайская стена. А отпечаток газетного листа – мятого, скомканного, донельзя затертого – предстает скалистой вершиной… Круглые днища кондитерских форм и песочных формочек, квадратные крышки коробок с просверленными двумя, тремя или четырьмя дырочками, изображающими глаза, нос и рот, наводят на мысль о лицах первобытных людей, похожих на идолов эпохи неолита или на парижские граффити. Часто некоторые из слепков объединяются в единую композицию. Одна из самых прекрасных представляет собой персонаж из гофрированного картона, с прямоугольным лицом, держащий в руках муляж из настоящих листьев: варварская богиня изобилия, возникшая из мифа…
Я потрясен новизной его пластических экспериментов. Роль Пикассо сводится здесь к тому, чтобы соединить давно знакомые материалы и образы, сообщив им новый смысл и предназначение. Рука художника – большой палец скульптора, разминающего глину и оставляющего на ней отпечатки – здесь полностью отсутствует. Творец не вмешивается напрямую, он лишь позволяет своим персонажам формировать себя самим. Он не дает воли своей руке – и какой руке! искусной и терпеливой! – которой не терпится рисовать, гравировать, писать, лепить…
Однако, странным образом, эта рука – вытесненная и запрещенная – присутствует здесь не только как субъект, но и как объект в многочисленных слепках и оттисках, как будто Пикассо перенес на руки все внимание, с которым он некогда относился к своему лицу. С левой руки он сделал «с натуры» целую серию гуашей, пастелей и рисунков углем еще лет двадцать назад. Здесь же я вижу ее оттиски на мягком гипсе и слепки сжатого кулака на могучем запястье, словно сосредоточившем в себе всю энергию художника. Я вижу также муляж правой руки, сделанной, полагаю, кем-то другим. Она вздымается как символ мощи и величественной соразмерности: мясистая ладонь, чувственно выпуклый холм Венеры, волевой большой палец и его собратья, так тесно прижатые один к другому, что через них не проходит дневной свет. И в то же время какая ясность и отчетливость в глубоких линиях, разрезающих эту широкую ладонь творца, где доминирует линия удачи, восходящая, как ракета, все выше и выше – прямо к основанию среднего пальца.
Сабартес ошибся. А Пикассо оказался прав: вместе с ним мы достали из ящиков не меньше пяти десятков скульптур. Он говорит:
– Ну вот, видите? Вам будет чем заняться!
Издатель, слегка озадаченный масштабами, которые принимает будущая книга, если в нее включить всю эту пластику, шепчет мне, указывая на некоторые «оттиски»: «Не могли бы вы их исключить, мне кажется, это не так важно…» Пикассо, услышав его, протестует: «Да нет же, нет, все это, напротив, очень важно! И я ка-те-го-ри-че-ски настаиваю, чтобы они фигурировали в вашем издании…»
Пикассо снова может обедать в «Каталане». После месяца вынужденного простоя его любимый ресторан сегодня опять открывает свои двери.