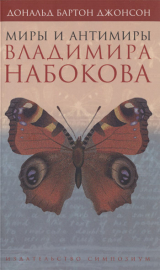
Текст книги "Миры и антимиры Владимира Набокова"
Автор книги: Дональд Джонсон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Алфавитный мотив пронизывает весь роман, но, как мы заметили, только одно конкретное проявление этого мотива связано с темой темницы языка – иконическое употребление букв церковнославянского алфавита.{47} Цинциннат пытается воспользоваться языком, чтобы прорваться сквозь запреты этого мира и описать идеальный мир. Что может быть более уместно для этой цели, чем таинственные алфавитные символы архаического религиозного языка – языка, предназначенного только для того, чтобы намекнуть языковым узникам этого мира на истину и красоту другого, идеального мира, где нет разрыва между звуком и смыслом?
В романе «Приглашение на казнь» Набоков нашел еще один, совершенно необычный способ применения своего главного алфавитного мотива – мотива художника слова. В автобиографии «Память, говори» сама буква с ее синестетическими ассоциациями втягивает язык в субвербальный мир восприятия, пытаясь хоть как-то установить прямую, непосредственную связь между сенсорными данными и языком. В романе «Приглашение на казнь» прием алфавитного иконизма используется в попытке выйти за пределы языка в более метафизическом смысле. В сущности, оба произведения используют свои алфавитные мотивы как символ стремления художника прорваться сквозь барьеры языка и выразить невыразимое.
Часть II
Набоков – анаграммист
Алфавитная синестезия и алфавитный иконизм – два способа, с помощью которых отдельные буквы языка (и звуки, которые они представляют) могут приобретать самостоятельный смысл. Благодаря врожденным психологическим ассоциациям (цвет, фактура и т. д.) или визуальному сходству (V – летящая птица), алфавитные символы обретают прямое значение вне набора условностей, которые осуществляют посредничество между звуком и смыслом. Только в рамках конвенций, известных как английский и русский языки, слова «dog» и «собака» обозначают одно и то же животное. В языке семиотики связь между знаком (буквой, звуком, словом) и означаемым (смыслом) произвольна. Синестезия и иконизм – два способа соединения этого разрыва. В какой-то степени средство общения становится сообщением, хотя надо подчеркнуть, что уровень коммуникации, возможный благодаря таким явлениям, неизбежно останется весьма примитивным. Эти явления играют подчиненную роль, хотя на эстетическом уровне они эффективны. Синестетические и иконические значения привязываются к отдельным буквам и не могут «складываться». Вспомнив набоковское английское слово-«радугу» KZPSYGV, мы можем убедиться, что из таких образований не получаются «настоящие» слова. Мы попадаем в мир настоящего языка лишь тогда, когда связь между символом и смыслом условна. В предыдущей главе мы рассматривали значение буквы в произведениях Набокова. Сейчас мы перейдем от мира буквы к миру слова, где сходятся звук и смысл.
С точки зрения здравого смысла считается, что слово отражает мир, что значение слова, или реальность – первична, а само слово – вторично. Реальность, в том числе и вымышленная, меняется, и соответственно переставляются слова, меняются их комбинации. Говоря о мире Набокова, мы можем сказать, как сказано в Библии: «В начале было Слово». К этому следует добавить «…и Слово было сложено из букв». Для художника слова буквы и слова – средство организации и реорганизации вымышленной вселенной. В «реалистической» литературе сохраняется традиционное положение о том, что слова отражают события (вымышленные). Произведения Набокова явно подрывают авторитет этого положения на каждом шагу. Слова властвуют безраздельно; события согласованы с ними. Единственная «реальность» – это автор. Такое отношение, возможно, наиболее явно отражается в увлеченности Набокова-романиста словесными играми, такими как анаграммы, и их производными – палиндромами и игрой «Скрэбл». Анаграмма дает иносказательное представление о взглядах Набокова на искусство и их воплощении на практике.{48} Во многих его романах анаграмма имеет парадигматический характер. Буквы какого-то слова, которое, казалось, отражает фрагмент вымышленной реальности, внезапно меняются местами, и «реальность» перестраивается. Знак перетасовывается, и означаемое преобразуется. Создается новая вымышленная космология, изменяющая читательское восприятие событий подобно тому, как нарисованная чаша вдруг превращается в два человеческих профиля друг напротив друга: художник как маг. Во многих произведениях Набокова анаграммы являются Откровением (в библейском смысле) – они показывают искусную руку создателя.
В романе «Отчаяние» Германн, один из самых жалких персонажей Набокова, воображает себя писателем. Играя двойную роль – главного актера и единственного хроникера своего безумного плана, он воображает себя богоподобной фигурой, управляющей сюжетом собственной жизни и стилем своего бессвязного повествования. Германн, конечно, не более чем пешка в одном из романов Набокова, напоминающем шахматную партию, но, будучи эготистом, он и представить себе не может, что не распоряжается своей судьбой единовластно. Он настолько в этом уверен, что одну из своих глав начинает со следующего утверждения: «Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки…». (СР 3, 457) Это довольно сильный пример набоковской иронии, так как, несомненно, мир Германна контролирует некий всемудрый Сый, который, может быть, и не вполне серьезен, но, безусловно, всемогущ. Вот как звучит этот отрывок в английском переводе: «The nonexistence of God is simple to prove. Impossible to concede, for example, that a serious Jah, all wise and almighty, could employ his time in such inane fashion as playing with manikins…» (111). «Jah», согласно Оксфордскому словарю английского языка, – это английская форма древнееврейского алфавитного символа «Yah», сокращения от «Яхве» (Yawe(h)) или «Иегова» (Jehovah). Общее значение слова «Jah» очевидно из контекста. Но читателю, не знающему русского языка, остается неизвестным древнееврейский буквенный символ «Jah» – это одновременно фонетическое представление русской буквы «Я», которая также является местоимением первого лица, авторским «Я». Так Набоков без ведома своего героя утверждает свою божественную власть, вторгаясь в мир своего манекена именно в тот момент, когда Германн высмеивает самую мысль о его существовании. Другой пример встречается в романе «Прозрачные вещи», где протагонист, Хью Персон, редактор, работающий над рукописью выдающегося писателя, известного только как мистер R…, подвергает сомнению правильность написания имени второстепенного героя, некоего Adam von Librikov (в переводе – Омир ван Балдиков, СА 5, 72), анаграмматического суррогата Набокова. Мистер R., иностранец, пишущий по-английски, связан с еще одной странностью: он, судя по всему, и создает этот роман после смерти, а удостовериться в этом можно только благодаря некоторым стилистическим особенностям, характерным для его речи (СА 5, 598). Эти факты внезапно встают на свое место, когда мы понимаем, что наименование выдающегося писателя, мистер R., – зеркальное отражение русской буквы «Я», местоимения первого лица в единственном числе. Таким образом мистер R., писатель-повествователь, являющийся создателем людей и событий в «Прозрачных вещах», – эго-алфавитный суррогат Владимира Набокова, который к тому же анаграмматически инкорпорирует Омира ван Балдикова в роман, написанный его авторской персоной.
«Под знаком незаконнорожденных» – одно из наиболее насыщенных анаграммами произведений Набокова. События романа разворачиваются в вымышленной стране, где недавно произошла революция, направленная на установление диктатуры среднего человека. «Средний человек» олицетворяется диктатором Падуком, который считает, что «все вообще люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, только по-разному смешанных» (СА 1, 257). Хотя пропущенная двадцать шестая буква и не называется, очевидно, что это буква «I», обозначающая героя романа Адама Круга, знаменитого во многих странах философа, единственного великого человека, произведенного этой страной. Точно так же как революционному государству среднего человека не нужна эгоистическая буква/местоимение «Я», в нем нет места для Круга, который и уничтожается подобно этой букве.
Анаграммы очень важны для понимания некоторых коротких произведений Набокова. Ранний рассказ «Ужас» рисует картину безумия, таящегося на границе сознания повествователя, и чтобы показать это, в рассказ несколько раз вставляются анаграммы слова «ужас», которое словно только и ждет случая, чтобы прорваться в сознание повествователя. В рассказе «Сестры Вейн» рассказчик постоянно высмеивает спиритуалистические верования обеих сестер. После смерти второй сестры все еще скептически настроенный, но уже колеблющийся повествователь неожиданно для себя представляет убедительное доказательство в последнем абзаце своего рассказа, где начальные буквы слов составляют послание от умерших сестер.
Набоков особенно любит палиндромы – самую сложную форму анаграмм. Есть два типа палиндромов: взаимные, например, «deified», или «mad Adam», когда получается одно и то же слово, если читать слева направо или справа налево, и невзаимные, когда при прочтении слева направо и справа налево получаются разные слова, например, «God» и «dog». В лучших палиндромах второго типа два слова находятся друг с другом в каких-то особенно ясных или неясных отношениях, например, «evil/live» или «Т. Eliot/toilet». Как и в случае хроместетического и иконического применения букв, Набоков иногда включает палиндромы в свое повествование таким образом, что они составляют мотив, резонирующий с темой повествования, и, более того, могут выражать эту тему более отчетливо и лаконично, чем сам сюжет.
Один из самых ранних рассказов Набокова полностью построен на палиндромных превращениях, которые отражают повествовательный палиндром, являющийся сюжетом рассказа.{49} В рассказе «Путеводитель по Берлину» Набоков обращается к любимой им теме будущих воспоминаний и утверждает, что сам смысл литературного творения кроется в воссоздании мельчайших деталей настоящего, так как они «отразятся в ласковых зеркалах будущих времен… когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной» (СР 1, 178). Эти «ласковые зеркала будущих времен» оказываются больше, чем удачным словосочетанием. Рассказ состоит из пяти кратких набросков, описывающих различные стороны берлинской жизни с этой точки зрения. В последней сцене, происходящей в пивной, повествователь наблюдает за маленьким сыном хозяина, который сидит в задней комнате за баром, где живет семья хозяина. Повествователь размышляет о том, что эта сцена в баре (включая его самого), которую сейчас видит мальчик, станет его «будущим воспоминанием». В рассказе не сказано напрямую, что повествователь не только представляет себе эту сцену с точки зрения мальчика, но и действительно видит ее под тем же углом, так как он смотрит в зеркало, висящее на стене прямо над головой мальчика. Роль зеркала явно не подчеркивается, как и тот факт, что отражение в зеркале меняет местами правую и левую стороны. Этот последний аспект темы инкорпорирован в повествование несколькими способами, наиболее заметный из которых – палиндромы, эквиваленты отражению в зеркале в письменном языке. Самая яркая палиндромная фигура встречается ближе к началу рассказа, когда повествователь, молодой русский писатель-эмигрант, выходит из своего пансиона и замечает ряд больших канализационных труб, лежащих на тротуаре – их должны закопать в землю. Ночью шел снег, и кто-то написал слово «OTTO» на свежей полоске снега, покрывшей одну из труб. (СР 1, 176). Повествователь дивится тому, как это имя, «с двумя белыми „О“ по бокам и четой тихих согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной» (СР 1, 176). Это слово подходит не только к снегу: само слово «OTTO» с двумя «О» на концах похоже по форме на трубу, на которой оно написано. Однако слово «OTTO» не ограничивается этой иконической функцией, так как Набоков, как в английском, так и в русском оригинале, анаграмматически инкорпорировал его в описание трубы «с ее двумя Отверстиями и Таинственной глубиной». Но сходство между двумя белыми «О» и покрытой снегом трубой идет еще дальше. Как мы уже замечали раньше, для Набокова буква «О» имеет белый цвет и синестетически связана с маленьким ручным зеркальцем с ручкой слоновой кости. Внимательное прочтение рассказа показывает, что палиндром «OTTO», встречающийся в анаграмматической форме во всех последующих эпизодах, – еще одно из тех зеркал, которые накапливаются и отражают тему будущих воспоминаний.
Анаграммы в их различных видах – один из приемов, с помощью которого художник-творец проникает в мир своих созданий из своего собственного мира. Персонаж, который не понимает игровые хитросплетения своего создателя, обречен на непонимание своего мира и ожидающей его судьбы. Читатели Набокова находятся в похожей ситуации. Тому, кто не может расшифровать ключевой анаграммы, придется ограничиться в лучшем случае частичным пониманием романа; ему будет отказано в удовольствии найти подтверждение своим важным догадкам. В доказательство этого предлагаются следующие очерки, цель которых – рассмотреть анаграмматические аспекты романов «Ада» и «Бледное пламя».
Игра в «Скрэбл» и эротический подтекст в романе «Ада»
Игра является неотъемлемой частью взглядов Набокова на искусство, и он неоднократно подчеркивал как эстетическое наслаждение от придумывания и процесса игры, так и ее родство с сочинением и удовольствием от художественного произведения, в особенности, своего собственного.{50} Хорошо известны достижения Набокова как создателя крестословицы, русского кроссворда, и составителя шахматных задач.{51} Многие произведения Набокова не только содержат стратегические построения, подобные игре, но и открыто инкорпорируют настоящие игры. Хотя шахматы и имеют важное значение в некоторых романах, словесные игры по самой своей природе ближе искусству Набокова. «Словесные цирки» Набокова отличаются большим разнообразием – от иконической игры букв, анаграмм, спунеризмов и каламбуров до более или менее формальных словесных игр, таких как «словесный гольф» и «Скрэбл». Хотя Набоков часто пользуется словесными играми просто как украшением, которое может неожиданно позабавить читателя, они нужны и для того, чтобы намекнуть на какого-то героя или тему, или дать сигнал о незаметном, но важном развитии сюжета. Например, в романе «Бледное пламя» триумф Кинбота при игре в «словесный гольф», когда он переделал слово «LASS» в слово «MALE»[12]12
Девушка… мужской (англ.).
[Закрыть] в четыре хода, – это еще и насмешливый намек на его сексуальные предпочтения. Однако для темы и сюжета более существенно наше понимание того, что анаграмматические имена Кинбот и Боткин обозначают одно и то же лицо. Из всех произведений Набокова наиболее пронизана словесной игрой «Ада». Главные темы книги схвачены в повторяющейся игре слов, которую можно резюмировать так: «Ada is scient anent incest and the nicest insects».[13]13
Дословно это предложение можно перевести так: «Ада разбирается в кровосмешении и милейших насекомых».
[Закрыть] Хотя в романе «Ада» присутствует разнообразнейшая словесная пиротехника, самая интенсивная и непрерывная цепочка тематической игры слов сосредоточена вокруг словесной игры «Скрэбл».
Во время первого идиллического лета в Ардисе детям семьи Вин – Аде, Вану и Люсетте – дарят изысканно украшенный набор для игры в русскую «Флавиту».{52} Ада оказывается страстным и ненасытным игроком в «Скрэбл», в то время как Ван, первоклассный шахматист, играет посредственно.{53} Ван, который в будущем станет профессиональным парапсихологом, находит игру интересной только потому, что слова, возникающие в процессе игры, иногда как будто имеют какое-то странное отношение к жизни играющих. Игра дает возможность «различить испод времени», что, как позже напишет Ван, является «лучшим неформальным определением предзнаменований и пророчеств» (СА 4, 218). Это проявляется как на уровне пустяков, например когда Адины буквы составляют (в перепутанном виде) слово КЕРОСИН как раз в тот момент, когда упоминается керосиновая лампа, так и, что гораздо более важно, на тематическом уровне. Следует отметить, что, как это обычно и бывает с пророчествами, прорицание дается в загадочной форме – в виде анаграммы.
Тема секса в романе «Ада» имеет очень важное значение, и основная область ее реализации – отношения между Ваном и Адой. Рассказ об их связи образует основную сюжетную линию романа. Однако есть и второстепенная линия, посвященная той же теме: безумная страсть Люсетты к Вану. Хотя Ван чувствует сильное влечение к своей единокровной сестре, он не отвечает взаимностью на ее любовь и пытается избежать еще одной кровосмесительной связи. Все встречи Люсетты и Вана отмечены сильными эротическими подводными течениями, а игра «Скрэбл» становится контекстом для анаграмматического мотива, который перекликается с темой страсти Люсетты к Вану, а также с темой ее сексуальных отношений с Адой.
Мотив игры «Скрэбл» наиболее очевиден в двух главах (часть I, глава 36 и часть II, глава 5), которые отделены друг от друга примерно ста тридцатью страницами текста и восемью годами в жизни персонажей. Главы связаны и своим тематическим фокусом – той безнадежной ролью, которую играет Люсетта в сексуальном треугольнике двух сестер и брата. Первая из глав описывает сам набор для игры в «Скрэбл», Адин ход, принесший рекордное число очков за один раз, и заканчивается на том, что проигравшая Люсетта плачет, когда Ада и Ван отправляют ее спать, чтобы иметь возможность обратиться к другим досугам. Даже в восемь лет маленькая Люсетта слишком хорошо понимает, почему влюбленные хотят остаться одни. Вторая из глав передает разговор Вана и Люсетты (которой теперь шестнадцать) в квартире Вана в Чусском университете, где он, по его словам, является «падшим преподавателем» («assistant lecher»). Возмущенный неверностью Ады, Ван не видел ни одну из девушек четыре года, и за это время у них, помимо всего прочего, были лесбийские отношения друг с дружкой. Теперь Ада посылает с Люсеттой письмо, умоляя Вана о прощении. Люсетта, которая сама незадолго до этого послала Вану письмо с признанием в любви, пытается соблазнить его под предлогом доставки Адиного письма. Она пытается добиться этого, подражая Адиной манере говорить и вести себя, а также пытаясь сыграть на ревности Вана, – она рассказывает ему о любовниках Ады и своей собственной связи с ней. Ван, хотя его и возбуждает тактика его посетительницы, приведен в слишком сильное смятение возможностью воссоединения с Адой, чтобы реагировать на уловки Люсетты. В обеих главах «Скрэбл» служит игровым полем для выражения страсти Люсетты к Вану, и все анаграмматические предзнаменования, возникающие в ходе игры, проявляются в буквах Люсетты.
Первое тематическое предзнаменование появляется во время игры, которая происходит решающим днем в июле 1884 года. «В… грозовой вечер в эркере библиотечной (за несколько часов до того, как полыхнул овин) Люсеттины фишки составили забавное слово ВАНИАДА, и она извлекла из него тот самый предмет обстановки, по поводу которого только что обиженно ныла: „А может, я тоже хочу на диване сидеть“» (СА 4, 218). Люсеттино слово «ВАНИАДА» намекает не только на Вана и Аду, но и на черный с желтыми подушками диван, на котором они сидят и на котором через несколько часов в ту же самую ночь дети впервые займутся любовью, пока будет гореть овин (часть 1, глава 19). С точки зрения Люсетты диван, куда ее не пускают, сигнализирует тему ее безответной любви к Вану. Этот диван становится лейтмотивом в нескольких последующих разговорах Вана и Люсетты. Первый из них происходит во время встречи в комнатах Вана восемь лет спустя, а последний – в Люте (Париже) незадолго до морского путешествия, закончившегося самоубийством Люсетты, жестоко отвергнутой Ваном. Она умоляет: «Ах, Ван, попробуй меня! Диван у меня черный с палевыми подушками» (СА 4, 447). Не случайно слово «ДИВАН» содержит перемешанные буквы имен Вана и Ады, но не Люсетты.{54}
Во время игры в «Скрэбл» несколько дней спустя, когда Ада делает свой рекордный ход, Люсетта смотрит на безнадежное сочетание своих буквенных фишек и жалуется: «Je ne peux rien faire… mais rien[14]14
Я ничего не могу сделать… просто ничего (франц.).
[Закрыть] – такие дурацкие попались Buchstaben – РЕМНИЛК, ЛИНКРЕМ…» (СА 4, 218). Предлагаемое «КРЕМЛИН» по праву отвергается как нерусское слово, и, по подсказке Вана, Люсетта довольствуется словом «КРЕМЛИ», «тюрьмы в Юконе», которое должно пройти через слово Ады «ОРХИДЕЯ». Орхидеи – постоянный мотив, связанный с Адой, и, как указывали несколько критиков, он имеет очевидную сексуальную коннотацию.{55} Этимологически это слово происходит от греческого слова, имеющего значение «яичко» (на этот факт есть ссылка в романе (СА 4, 327), и, что более существенно, используется в контексте книги как метафора влагалища. Описывая свое первое соединение с Адой на знаменитом диване, восьмидесятилетний мемуарист Ван вспоминает, что «торопливая юная страсть… не смогла пережить и первых слепых тычков; она выплеснулась на губу орхидеи» (СА 4, 120).{56} Никто из участников игры в «Скрэбл» не понимает, что буквы Люсетты составляют многозначительное слово MERKIN (с оставшимся L – Люсетта), что означает «женский наружный половой орган».{57} Без сомнения, если сказать, что такое анаграмматическое соединение Адиной «ОРХИДЕИ» и «MERKIN» Люсетты – предзнаменование их будущей сексуальной связи, это могло бы показаться притянутым за уши, если бы это не было частью развивающегося узора. К тому же читатель предупрежден о том, что интерес Вана к игре в «Скрэбл» сосредоточен именно на таких совпадениях.
Еще об одной детской игре в «Скрэбл» вспоминает Люсетта несколько лет спустя во время своего разговора с Ваном.{58} Люсетта младше и не такая способная, как ее брат и сестра-вундеркинды, и чтобы ускорить игру, Ван часто подсказывает ей, как ходить. Один из таких случаев и вспоминает Люсетта: «Ты, осмотрев мой желобок, окунул в него пальцы и начал быстро перебирать косточки, стоявшие в беспорядке, образуя что-то вроде ЛИКРОТ или РОТИКЛ… а когда ты закончил перестановку, она тоже чуть не кончила, si je puis le mettre comme ça[15]15
Если можно так это сказать (искаж. фр.).
[Закрыть] (канадийский французский), и вы оба повалились на черный ковер в приступе необъяснимого веселья, так что я в конце концов тихо соорудила РОТИК, оставшись при единственном своем жалком инициале» (СА 4, 365). Намеки в этом отрывке вздыблены, словно Адины гусеницы, хотя одни из них более очевидны, чем другие. Помимо встречающегося в начале желобка, в который окунали пальцы, «РОТИК» Люсетты может показаться вполне невинным, если бы не русское слово «КЛИТОР», которое притаилось в двуязычном вульгаризме «ЛИ(С)КРОТ» и его уменьшительном спутнике – «РОТИК-Л». Сомнения рассеиваются следующим ответом Вана: «a medically minded English Scrabbler, having two more letters to cope with, could make, foe example, STIRCOIL, a well-known sweat-gland stimulant, or CITROILS, which grooms use for rubbing fillies» (375) «…медицински образованному игроку в английский „Скрэбл“ потребовались бы еще две буквы, чтобы соорудить, допустим, STIRCOIL, известную смазку для потовых желез, или CITROILS, который конюшенные юноши втирают своим кобылкам» (СА4, 365). Здесь имеются многочисленные подсказки, как в двойном значении слов «grooms» и «fillies»[16]16
Слово «groom» имеет следующие значения: грум, конюх; жених, новобрачный, слово «filly» – кобылка, молодая кобыла; шустрая девчонка.
[Закрыть], так и более тонким образом в словах «sweat-gland stimulant». Железы/«glands» (от латинского glans, glandis – «желудь» или «головка пениса»), стимулируемые здесь, – это glans clitoridis и glans penis, головка клитора и головка полового члена, которые становятся темой длинного ряда многоязычной игры слов (как анаграмматической, так и другой), которая пронизывает разговор Вана и Люсетты.
Ван и предвкушает посещение Люсетты, и боится его, так как он чувствует, что эта встреча раздует, как он выражается, «адское пламя».{59} Люсетта, поскольку она похожа на Аду, является для Вана объектом страстного сексуального желания. Люсетта входит в квартиру, ее алый рот приоткрывает язык и зубы, готовясь к приветственному объятию, которое, как она надеется, будет означать начало новой жизни для них обоих. Осмотрительный Ван изменяет направление ее приближающегося поцелуя, предостерегающе говоря ей: «В скулу». В ответ Люсетта произносит нечто непонятное, говоря «You prefer skeletki (little skeletons)» – «ты предпочитаешь сикелетики», и Ван прикасается легкими губами «к горячей, крепкой pommette своей единоутробной сестры» (СА 4, 353). Почему Ван предпочитает «маленькие скелеты»?{60} На одном уровне «skeletki-сикелетики» связаны с «костью» скулы, но, учитывая сексуальный мотив этой сцены, едва ли можно сомневаться в том, что «скелетки» – это анаграмма слова «СЕКЕЛЬ», русского вульгаризма, обозначающего головку клитора. «Pommette» – не только французское слово, имеющее значение «скула», но и «маленький шарообразный выступ, который встречается, например, на конце эфеса меча». Последний намек служит прообразом мотива целования крестика в следующем ниже диалоге.
Словесная игра продолжается. Когда Люсетта, нервничая, произносит фразу со слишком большим количеством шипящих, Ван резко упрекает ее за стилистический ляпсус, заявляя: «К чему нам эти змееныши?» (СА 4, 355). Люсетта отвечает: «Данный змееныш не вполне понимает, какой тон ему лучше избрать для беседы с доктором В. В. Сектором. Ты ничуть не переменился, мой бледный душка, разве что выглядишь без летнего Glanz привидением, которому не мешает побриться». К этому Ван мысленно добавляет: «И без летней Mädel», имея в виду Аду. Образ-икона В. В. Сектор комментариев не требует, но намек на Glanz не так очевиден. Семья Винов довольно свободно переходит с английского на русский и французский, но не на немецкий. Glanz, немецкое слово, обозначающее «блеск», намекает не на зимнюю бледность Вана, а на медицинский термин glans – именно так англоязычный читатель, не знающий немецкого, может произнести это слово.{61}
Старания Люсетты заменить Аду в постели Вана влекут за собой подробный рассказ о том, как Ада соблазнила ее. Она начинает свою атаку, спросив Вана, не писала ли ему Ада о «прижимании пружинки». Люсетта начинает свое объяснение издалека, напоминая Вану об эскретере, или секретере, который стоял рядом с диваном «ВАНИАДА» в библиотеке Ардиса. Сестры потребовали, чтобы Ван нашел и «высвободил оргазм [секретера] – или как он там называется» (СА 4, 360). Когда Ван в конце концов находит «крохотный кружочек», он нажимает на него, и из секретера выскакивает потайной ящик. В нем лежит «малюсенькая красная пешка» (СА 4, 360), которую Люсетта до сих пор хранит в качестве сувенира. Это происшествие, говорит она, «предсимволизировало» ее связь с Адой, в которой они превращались «в монгольских акробаток, в монограммы, в анаграммы, в адалюсинды. Она целовала мой крестик, пока я целовала ее…» (СА 4, 361). Ван прерывает ее, чтобы злобно поинтересоваться, что означает это слово. Это что-то вроде маленькой красной запонки или пешки в потайном ящике секретера, может быть, это украшение, «коралловый желудек, glandulella весталок Древнего Рима?» (СА 4, 364). Описания одеяний весталок не упоминают о таком украшении, но само слово – уменьшительная латинская форма от вездесущего «glans, glandis». Имеется в виду желудь, который в силу внешнего сходства также указывает на соответствующие сексуальные органы.
С введением мотива «крест/крестик» мы переходим от ловких зашифровок настоящих сексуальных терминов к набору сексуальных символов, придуманных в основном самим Набоковым.{62} Когда Ван неохотно отвечает на приветственный поцелуй Люсетты, он вдыхает аромат ее «пафосских» духов «Degrass» (eau de grace) и сквозь них – «жар ее „малютки Larousse“». Гладя ее рыжую голову, Ван понимает, что, прикасаясь к «медной маковке», он не в силах не думать о «лисенке внизу и жарких двойных угольях». «The cross (krest) of the best-groomed redhead (rousse). Its four burning ends» – «Великолепно выхоленная рыжая девушка, похожая на крест. Четыре горящих краешка» (СА 4, 354). Это видение «четырех угольков, горящих по концам рыжего крыжа» терзает Вана в течение всего разговора и так или иначе проникает в то, что он говорит. Мотив сексуального креста переходит почти в богохульство, когда Ван злобно добивается, чтобы Люсетта сказала ему, что означает их с Адой секретное слово «крестик» (СА 4, 364). «Конечно, теперь я вспомнил, – говорит Ван. – То, что в единственном числе составляет позорное пятно, во множественном может стать священным знаком. Ты говоришь… о стигмах между бровей целомудренных худосочных монашек, которых попы крестообразно мажут там и сям окунаемой в миро кистью». Тема крестика-клитора также анаграмматически отражается в описании игр в «Скрэбл». В одной из самых первых игр Люсетта перебирает семь букв «в своем „спектрике“ („лоточке из покрытого черным лаком дерева, своем у каждого игрока“)» (СА 4, 218). Это слово встречается задолго до введения мотива крестика, но следующее ниже описание игры (процитированное выше), когда Ван «окунает пальцы» в «желобок» Люсетты, помогая ей переставить буквы, не оставляет сомнений в том, что спектрик Люсетты – это просто хитро перетасованный крестик. «Крест», кроме того, пышно разрастается в анаграмматической форме, когда Люсетта упоминает об эротическом художественном альбоме под названием «Запретные шедевры», который она находит в весьма подходящем месте – в бауле, полном «корсетов и хрестоматий» (СА 4, 362). Мотив «креста» входит еще в одно лингвистическое измерение в своем английском воплощении в более поздней главе. Когда Ван в 1905 году прибывает в швейцарский городок, предвкушая свое окончательное воссоединение с Адой, название городка, Монтру (Mont Roux), наводит его на следующую мысль: «Наша рыжая девочка мертва» (СА 4, 487). Глядя вокруг, он видит в пейзаже цвета, связанные с Люсеттой (золотой и зеленый) и с Адой (черный и белый): «Рыжая гора, лесистый холм за городом, подтвердила свое имя и осеннюю репутацию, одевшись в теплое тление курчавых каштанов; а над другим берегом Лемана, Леман означает „любовник“, нависала вершина Sex Noir, Черной скалы». Чернота Адиного нижнего хохолка уже была подтверждена Люсеттой в рассказе об их лесбийских шалостях. Она говорит, что сестра выглядела словно «сон о черно-белой красе, pour cogner une fraise, тронутый fraise в четырех местах – симметричной королевой червей» (СА 4, 361).{63} Таким образом русский krest – «крест» с тлеющими рыжими угольками – превращен в вершину Адиного Sex Noir.








