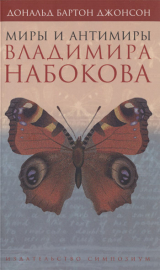
Текст книги "Миры и антимиры Владимира Набокова"
Автор книги: Дональд Джонсон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Идея четвертого измерения любима авторами научно-фантастических произведений. Одним из первых писателей, построивших рассказ на идее правого/левого обращения асимметричного предмета с помощью его передвижения через четырехмерное пространство, был Герберт Уэллс, один из любимых писателей Набокова.{227} В «Истории Платнера», рассказе, где оппозиция правого/левого важна так же, как в «Смотри на арлекинов!», главный герой, молодой химик, из-за случайного взрыва оказывается в четвертом измерении, где проводит девять дней, после чего второй взрыв возвращает его в обычное трехмерное пространство, но теперь левая и правая сторона его тела поменялись местами, и он пишет перевернутыми буквами левой рукой.{228} Во время своего пребывания в четырехмерном пространстве Платнер обнаруживает, что живет в темном «ином мире», населенном душами тех, кто когда-то жил на земле.
Художественное использование Уэллсом идеи левого/правого зеркального отражения в контексте другого мира сильно перекликается с использованием этой темы в романе Набокова. Нет никакого сомнения в том, что Набоков знал этот рассказ, так как Гарднер в своей книге уделяет ему особое внимание (163–164). Хотя Набоков нигде не говорит именно об «Истории Платнера», в «Смотри на арлекинов!» несколько раз упоминаются другие работы Уэллса. В ответ на реплику Ирис «Обожаю Уэльса, а вы?», VV торжественно заявляет, что Уэллс – «величайший романтик и маг нашего времени», но отвергает его «социальный вздор». Влюбленные очень тронуты, вспоминая эпизод из написанного в 1913 году романа Уэллса «Страстные друзья» (СА 5, 117).{229} Кроме того, Ирис вскользь упоминает второстепенного героя Уэллса мистера Снукса (СА 5, 117), и она в восторге от раннего научно-фантастического романа «Остров доктора Моро» Уэллса (СА 5, 176).{230}
Между космологией романа Набокова и «правым, левым миром» Гарднера есть и другие взаимосвязи. В своей работе Гарднер говорит о вышеупомянутых вопросах, предваряя главную тему – дискредитацию четности и тесно связанные с этим идеи теоретической физики. Как ни странно, некоторые из этих недавних прорывов заставляют вспомнить о давно выдвинутых фантастических гипотезах, например, об идеях Уэллса, и свидетельствуют о том, что есть по крайней мере теоретическая возможность существования миров-близнецов. В конце пятидесятых годов XX века физики установили, что буквально каждая элементарная частица имеет соответствующую ей античастицу (206). Сейчас считается, что античастица может быть зеркальным отражением частицы, противопоставленной своему близнецу только электрическим зарядом, а это различие, в свою очередь, свидетельствует о некоем типе асимметричной пространственной структуры самой частицы (216). Другими словами, частица и ее античастица отличаются друг от друга только хиральностью – левой или правой – подобно предмету и его отражению в зеркале. Эти зеркально отраженные частицы, так же как и их двойники, в принципе могут объединиться и сформировать антиатомы и антимолекулы, короче говоря, антиматерию, которая, за исключением противоположной хиральности, имеет точно такую же структуру, как и ее двойник в «нашем» мире. Антимиры, и даже антигалактики, населенные антилюдьми, в принципе вполне возможны и гипотетически связаны с их двойниками в нашем мире, будучи зеркальными отражениями.
Давайте теперь вернемся к миру «Смотри на арлекинов!». Мы уже отметили, что оппозиция правого/левого в книге используется как метафора очевидной шизофрении VV, его ощущения, что он – бледная, не совсем идентичная копия, близнец, но не двойняшка другого, более талантливого англо-русского писателя. В нескольких случаях, когда упоминается этот близнец, автор намекает, что он живет в другом мире, может быть, даже в другой галактике. Кажется вероятным, что Набоков взял у Гарднера не только оппозицию левого/правого, но и космологию безумия VV. Вадим Вадимович, антиперсона, соответствующая «Владимиру Владимировичу», живет в антимире, который является отражением в кривом зеркале мира другого VV. VV, возможно, из-за своего необычного безумия, подозревает о существовании своего двойника и его мира. Вымышленная вселенная «Смотри на арлекинов!» и повествователя – это антимир-двойник, противопоставленный миру «Владимира Владимировича» так же, как вымышленная вселенная «Ады», Анти-Терра, противопоставляется «мифической» Терре, то есть нашему миру. Жители Анти-Терры могут мысленно достичь Терры только в состоянии безумия, и VV наиболее остро ощущает присутствие другого мира и своего другого «я» в периоды серьезного умственного расстройства.
Хотя точная природа физического соотношения между двумя мирами VV не обязательна для понимания «Смотри на арлекинов!», следует отметить, что эти миры не обязательно отдалены друг от друга. Как мы заметили, решение проблемы левого/правого обращения асимметричных предметов лежит в четвертом измерении, которое включает в себя три пространственных измерения обычного мира. Таким образом, один из миров VV может заключаться в другом, подобно тому, как двухмерный мир планиметрии заключен в трехмерном мире стереометрии. Далее Гарднер указывает, что физики (не вполне серьезно) предполагали, что зеркально отраженные миры могут сосуществовать в одном и том же сегменте пространства-времени. Хотя два мира не могут взаимодействовать, можно представить себе, говорит Гарднер, что они могли бы взаимно проникать друг в друга, подобно двум партиям в шашки, разыгрываемым одновременно на одной доске, одна партия – на черных клетках, а другая – на белых (2е изд, 259). Этот образ напоминает узор на костюме арлекина – сочетание черных и белых ромбиков – изображенного на суперобложке романа Набокова. Этот узор прекрасно символизирует смежные миры Вадима Вадимовича и Владимира Владимировича. В любом случае, «другой» четырехмерный мир можно идентифицировать с тем «другим состоянием Бытия», которое прозревает VV в своем безумии.{231}
Вездесущая оппозиция левого/правого, характеризующая «Смотри на арлекинов!», – аналог двух противопоставленных друг другу миров, заложенных в космологии VV. Идея зеркально отраженного двойника преследует не только героя, но и весь его мир. Мы увидим, что образы левой/правой симметрии дают основу для ряда других эпизодов и тем в книге, помимо тех принципиально важных, о которых уже говорилось. Эти второстепенные левые/правые симметрии, кажется, следуют узору, описываемому VV, когда он приходит в себя после своего последнего припадка паралитического слабоумия. Вначале возвращаются физические ощущения, следуя узору левой/правой симметрии; затем появляются мысленные образы на левой и правой створках воображения, и, наконец, далее сдвоенные образы появляются на каждой из этих створок: симметрии внутри симметрии внутри симметрии (СА 5, 303–304).
Среди тех левых/правых симметрий, которые дают роману формальную структуру, мы видим имена (и инициалы) героев. Самое важное, конечно, – это противопоставление Вадима Вадимовича из антимира «Владимиру Владимировичу» из «реального» мира. Не случайно и то, что внутри каждой из противопоставленных друг другу вселенных-двойников имена каждого из протагонистов, в свою очередь, удваиваются: Вадим, сын Вадима, Владимир, сын Владимира. Внутри художественного антимира имя настоящего отца Вадима также удваивается, хотя и частично: Никифор Никодимович. Следует также отметить, что «V» в имени Вадима Вадимовича можно рассматривать как слегка скошенную, усеченную N в имени и отчестве его отца, что напоминает об обычае русских аристократов давать своим незаконнорожденным детям фамилии в виде усеченных форм своих фамилий. Сравните роман Набокова «Пнин» и роман VV «Доктор Ольга Репнин».
Как мы уже отметили, шесть русских и шесть английских романов повествователя – искаженные отражения русских и английских книг самого Набокова. Тематически уместно то, что когда VV предпринимает свою последнюю самооценку перед зеркалом, прежде чем соединить свою жизнь с жизнью своей последней возлюбленной, он смотрит «в другое, куда более глубокое зеркало», в котором он видит сначала свои русские, а затем английские книги и размышляет по их поводу. Эти два симметричных набора прямо описываются с помощью понятий мир-антимир (СА 5, 293–294). Следует напомнить, что переход от одного языка и литературного мира к другому вызвал продолжительный период сумасшествия, совпавший с прибытием VV в «Новый Свет»; это путешествие физически продублировало его лингвистическую миграцию с русского языка на английский.{232}
Есть и другие странные примеры хиральности в связи с писательством W. В своих ранних дневниках он замечает, что среди его рассказов о событиях «истинных или выдуманных в той или этой мере» он видит, что «сны и прочие искаженья „реальности“» записаны особым почерком с наклоном влево (СА 5, 116). Еще одна любопытная деталь всплывает, когда VV рассказывает о генезисе своего романа «See under Real». Идея книги приходит к нему, когда он лежит в кровати. Его первый английский роман является ему под его правой щекой «многокрасочным шествием с головой и хвостом, шествием, забирающим к западу…» (СА 5, 206). В таком случае русский соотносится с левым, а английский – с правым, что символично описывает жизнь и творчество VV, a также процесс перевода, которому в конце концов подвергается каждое из произведений VV.
Все четыре предсвадебных признания VV о своем левом/правом пространственном отклонении описываются в мельчайших деталях как короткие прогулки от одного места до другого и обратно.{233} Любопытно, что каждая из этих тщательно описанных прогулок пролегает в направлении с востока на запад (или наоборот), но не с севера на юг или в каком-то неопределенном, неуказанном направлении; это или следует прямо из текста, или выводится логическим путем. Все путешествия W, начиная с его побега из России в юности, отмечены этим левым/правым направлением. Контраст «восток-запад» – еще один аналог противопоставления левого/правого, который структурирует миры романа.
Тема кровосмешения, которую мы подробно разобрали выше, тоже очевидно соответствует правой/левой симметрии в повествовании. Похоже, сам повествователь, его жена Ирис, ее брат Ивор Блэк и Владимир Благидзе являются детьми главного шпиона графа Старова, как и, по всей вероятности, вторая жена VV Анна Благово. Тема кровосмешения снова звучит в эпизоде с Бел, дочерью повествователя. Здесь развивается особенно четко выраженная симметрия правого и левого, которая, кажется, отражена в обоих мирах романа. Вероятно, не может быть просто совпадением то, что Бел и последняя любовь VV, «ты», родились в один день. «Ты» рассматривается как вторжение «Реальности» в двойственное существование писателя (СА 5, 291 и 311). Такая ситуация дает в высшей степени элегантное уравнение, соединяющее миры-двойники VV: Бел так относится к «ты», как Вадим Вадимович относится к «Владимиру Владимировичу». Еще одно такое уравнение включает в себя псевдоним повествователя: В. Ирисин: Вадим Вадимович :: В. Сирин: «Владимир Владимирович». На наиболее абстрактном уровне может показаться вполне уместным рассматривать кровосмешение как метафору для взаимодействия русских и английских произведений VV.
Модель двуправорукой вселенной, в которой один мир – искаженное отражение в зеркале другого мира в высшем измерении, использовалась Набоковым в нескольких произведениях, хотя и не в той конфигурации, которая предлагается книгой Мартина Гарднера. Одно из самых ранних произведений, где используется подобная космология – роман «Приглашение на казнь», написанный в 1934 году. Эта тема далее развивается в романе «Под знаком незаконнорожденных», написанном в начале сороковых годов. «Ада», роман, который писался на протяжении большей части шестидесятых, построен на основе мира и антимира, Терры и Анти-Терры. События романа разворачиваются на Анти-Терре (или Демонии), а герой, Ван, посвящает свою профессиональную жизнь исследованиям возможности существования Терры, искаженного зеркального отражения его собственного Антимира.{234} Опять-таки, переходными зонами между двумя мирами служат сумасшествие и смерть.
Последний роман Набокова «Смотри на арлекинов!» – кульминация развития темы двуправорукой вселенной, темы, которая дает основополагающую космологию для целого ряда его важнейших произведений. События этих романов происходят в антимирах. Сюжеты разворачиваются вокруг стремлений героя из антимира постичь параллельный реальный мир своего двойника или своего создателя. В каждом случае слабые проблески и блики «реального» мира даруются герою лишь в снах и/или в припадке безумия, а полное понимание приходит только со смертью, точкой перехода между двумя мирами. Однако есть еще один источник доказательства существования «реального» мира, который доступен героям антимиров Набокова и его читателям. Это сложный и замысловатый набор узоров и ключей, которые вставлены в текст(уру) вымышленного антимира. Именно растущее понимание этих аллюзий и узоров часто ведет героя (и читателя) к тому, чтобы догадаться о существовании другого мира.
В каждом из романов с мирами-двойниками Набоков дает герою (и читателю) некую основную оппозицию, биполярную метафору, которая отделяет один мир от другого. В романе «Смотри на арлекинов!» Набоков взял из книги Мартина Гарднера «Этот правый, левый мир» фундаментальную оппозицию «левое/правое», чтобы придать своей вымышленной космологии символическую структуру.
Часть VI
Набоков – мыслитель-гностик
В предисловии к посмертному изданию русских стихотворений своего мужа В. Е. Набокова формулирует «главную», с ее точки зрения, тему Набокова – тему, которая, словно водяной знак, отмечает все его произведения, но остается незамеченной читателями (РеС I, 348). Тема «потусторонности»{235} появляется у Набокова уже в 1919 году – в стихотворении «Еще безмолвствую – и крепну я в тиши» (СР 1, 496) и заканчивается только с последним стихотворением «Влюбленность» (1974), приписанном Вадиму Вадимовичу в романе «Смотри на арлекинов!» (СА 5, 120).{236} Наиболее явно эта тема выражена в стихотворении «Слава» (1942). В первой части стихотворения появляется некий призрак в духе произведений Гоголя, который говорит писателю, что он – изгой, у которого нет читателей и не будет бессмертной славы. Во второй части автор прогоняет это мучительное видение и утверждает, что счастлив, так как Совесть, «сонных мыслей и умыслов сводня, не затронула самого тайного».
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
А точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
О читателе, теле и славе.
Поэт счастлив, несмотря ни на что, потому что «со мной моя тайна всечасно». Подставив буквы под звезды, он научился расшифровывать ночь и превозмогать себя. Стихотворение заканчивается так:
Но однажды, пласты разуменья дробя,
Углубляясь в свое ключевое,
Я увидел, как в зеркале, мир, и себя,
И другое, другое, другое.
(СР 5, 422)
По словам В. Е. Набоковой, этот секрет, который нельзя было никому открыть, давал Набокову «его невозмутимую жизнерадостность и ясность» (РеС I, 348) перед лицом многочисленных невзгод. Для пояснения своей мысли госпожа Набокова отсылает читателя к тому отрывку в романе «Дар», в котором Федор Годунов-Чердынцев пытается передать суть личности своего горячо любимого покойного отца, путешественника и лепидоптеролога: «Я еще не все сказал; я подхожу к самому, может быть, главному. В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами: дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношение ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй)…» (СР 4, 298). Федор не может подобрать слова, чтобы определить тайну, бывшую источником одиночества его отца. Может быть, заключает он, опаленный молнией старик-сторож в поместье (единственный из местных крестьян умевший ловить и правильно насаживать бабочек) был прав, говоря, что отец Федора «знает кое-что такое, чего не знает никто» (СР 4, 299). Этот намек на некое гностическое знание напоминает крик Цинцинната «я… знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает…» (СР 4, 167).
Главнейшая тайна Набокова облекается в различные формы в разных произведениях. В романах герои Набокова часто сталкиваются с довольно неопределенной всеобъемлющей загадкой, решение которой обещает объяснить «все тайны, все загадки» (СА 1, 329). В романе «Король, дама, валет» (1928) Франц, беспринципный молодой человек, собирающийся вместе с женой дяди убить своего дядю-благодетеля, видит кошмары: «В этих снах ужас, бессилие, отвращение сочетались с каким-то потусторонним чувством, которое знают, может быть, те, кто только что умер, или те, кто сошел с ума, разгадав смысл сущего» (СР 2, 261). В одном из таких снов его дядя медленно заводит граммофон, и «Франц знал, что сейчас граммофон гаркнет слово, которое все объяснит и после которого жить невозможно» (СР 2, 261). Кроткий Пнин одержим тем же чувством, что и отвратительный Франц. После наводящей тоску встречи с бывшей женой Пнин приходит в отчаяние при мысли о том, что пустая душа Лизы может воссоединиться на небесах с его душой. Внезапно ему кажется, что он «оказался на грани простой разгадки мировой тайны» (СА 3, 55). Однако откровение не состоялось из-за белки, которая хотела пить. Вариант этого важнейшего вопроса находим и в романе «Прозрачные вещи». В дневнике Хью Персона «Альбом психушек и тюрем» некий умирающий сумасшедший («дурной человек, но хороший философ») пишет: «Распространено убеждение, что если человек установит факт посмертного выживания, он тем самым решит или вступит на путь, ведущий к решению загадки Бытия» – утверждение, которое сумасшедший философ немедленно подвергает сомнению (СА 5, 87).
Воплощение космической загадки Набокова разработано наиболее полно не в стихотворениях и не в упомянутых выше романах. Эта тема выходит на первый план в романах, написанных в конце тридцатых – середине сороковых годов. Это было время величайшего напряжения для писателя. Хотя тема загадки мироздания фигурирует и в произведениях, написанных как до, так и после этого времени, фокус ее – в двух произведениях этого переходного периода: незаконченном последнем русском романе «Solus Rex» и в первом американском романе «Под знаком незаконнорожденных». К этим двум произведениям мы сейчас и обратимся.
Тайна бесконечного сознания в романе «Под знаком незаконнорожденных»
«Под знаком незаконнорожденных» – первый роман Набокова, написанный в Соединенных Штатах. Впервые о нем упоминается в ноябре 1942 года в письме к Эдмунду Уилсону. Набоков пишет, что подал заявку на получение стипендии Гуггенхайма и как часть заявки «написал (боюсь, довольно глупый) синопсис» романа, над которым он работает и который называется «Человек из Порлока».{237} Это название было первое в ряду нескольких, рассматривавшихся и отвернутых Набоковым, прежде чем он остановился на названии «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»). На различных промежуточных стадиях работы роман назывался «Solus Rex», «Vortex» и «Game to Gunm».{238} Работа продвигалась медленно, и 25 мая 1946 года Набоков торжествующе писал Уилсону:
Ia konchil roman. Я только что закончил роман… Не знаю, внушает ли он симпатию, но, во всяком случае, это честный роман, то есть, он настолько приближен к тому образу, который у меня был все это время, насколько это в человеческих силах. Я очень надеюсь… что кто-нибудь его купит, потому что мне ужасно не хватает денег… Но я рад, что наваждение закончилось и бремя снято.
События романа разворачиваются в маленькой вымышленной европейской стране, где только что произошла коммунацистская революция и к власти пришел некий диктатор Падук, основатель партии Эквилистов (Уравнителей). Протагонист повествования – Адам Круг, когда-то учившийся вместе с Падуком в школе, а теперь всемирно известный философ, преподающий в местном университете. Время действия, кажется, в общем совпадает со временем написания романа. События охватывают краткий период с конца ноября, когда умирает Ольга, жена Круга, до конца января следующего года, когда сам Круг, обезумевший от горя из-за того, что режим по ошибке убил его восьмилетнего сына Давида, пытается напасть на Падука и погибает. Сюжет строится вокруг сопротивления Круга, единственного интеллектуала страны, известного за ее пределами, постоянно возрастающему давлению правительства, которое пытается заставить его публично поддержать новый режим. Из-за своей международной известности Круг считает себя неуязвимым для такого давления, но он ошибается. Круг отказывается от таких соблазнов, как место президента университета, автомобиль, велосипед и корова, и после этого он становится свидетелем того, как один за другим его друзья подвергаются аресту и исчезают. Сначала это происходит с Максимовыми, пожилой русской парой, на дачу к которым Круг и Давид уезжают после смерти Ольги; затем аресту подвергается шекспировед Эмбер, друг и переводчик Круга, и, наконец, его коллега математик Хедрон. Когда и эти меры не помогают добиться покорности Круга, его самого тоже арестовывают, а его сына берут в заложники. Круг немедленно капитулирует, но уже поздно: новоиспеченный деспотический режим из-за административной ошибки позволил убить Давида в ходе экспериментальной программы психотерапии. Государство делает последнюю попытку подкупить Круга, дав ему возможность спасти от расстрела его друзей, родственников и коллег (двадцать четыре человека), но, убив Давида, режим утратил единственный способ влияния на Круга, который сошел с ума и стал действительно неуязвимым. Его безумие, навлеченное автором, принимает следующую форму: он понимает, что он сам и его мир – всего лишь не имеющие большого значения измышления автора, который выстраивает повествование.
«Под знаком незаконнорожденных» занимает уникальное положение среди романов Набокова, так как в своем предисловии к изданию в рамках серии «Time Reading Program» автор снабдил читателей комментариями, объясняющими различные аспекты книги. Однако мы увидим, что как бы ни были полезны эти заметки, многого они не касаются и в некотором смысле даже вводят в заблуждение.{239} В своем вступительном очерке Набоков изо всех сил старается подчеркнуть, что, в сущности, его роман – не «о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве», то есть что роман не является социальным или политическим комментарием (СА 1, 197). Главная тема романа, говорит Набоков, – «биение любящего сердца Круга» и та пытка, которой подвергает его Падук, используя его сына в качестве рычага давления на неуязвимого в остальном отца. Именно ради этой любви, продолжает Набоков, и была написана книга, именно из-за этого ее и следует читать. Учитывая то, что и сам Набоков не так давно едва спасся из захваченной нацистами Европы с женой-еврейкой и маленьким сыном, это утверждение кажется особенно правдоподобным, но в действительности, хотя отношения Круга с сыном отличаются и нежностью, и глубиной, они занимают не слишком большое место в повествовании. Они имеют важное значение только как мотивация сюжета. Любовь к сыну – рычаг, используемый государством для давления на аполитичного Круга, единственное желание которого – заниматься философией и своими личными делами. Может быть, заявление Набокова было вполне искренним, но принимать его надо только с оговорками. Набоков также указывает на две второстепенные темы. Одна – это тупость тирании, которая, наконец-то наткнувшись на единственное средство достижения своей цели, делает грубейшую ошибку и уничтожает Давида; вторая – «благословенное безумие» Круга, благодаря которому ужас его участи смягчается пониманием того, что он сам и его мир – всего лишь части авторского драматургического замысла.
Хотя Набоков называет все вышеуказанное «темами», возможно, было бы точнее рассматривать их, в особенности первые две, в качестве контекстных аспектов романа, имеющих отношение скорее к сюжету, чем к основной теме. Отношения отца и сына было бы лучше всего рассматривать как человеческий аспект романа, а нерасторопную жестокость полицейского государства – как политико-сатирический аспект. И только третий и последний аспект – подозрения Круга о том, что он и его мир – только чей-то вымысел, и его конечное откровение через безумие – приближает нас к главной теме, которую находим в нескольких романах Набокова. Мы сказали «приближает», так как идея о том, что искусство – это ловкий трюк, нечто намеренно искусственное – только один аспект того, что мы предложим считать истинной темой романа «Под знаком незаконнорожденных» – тайны Сознания. Использование Набоковым идеи «искусственности искусства» (то есть идеи о том, что мы все – герои романа) – часть расширенной метафоры, определяющей природу Сознания.{240}
Сознание – сущность философского антагонизма Круга и Падука. Философия, на основе которой Падук организовал свою победоносную революционную партию – учение, развитое старым чудаком по имени Скотома (ср. русское слово «скотина»), чье имя не случайно содержит греческий корень слова «темнота», которое в своей англизированной форме («scotoma», рус. «скотома») является медицинским термином, обозначающим «потерю зрения в части визуального поля; слепое пятно». Разработанная Скотомой философия Эквилизма (Уравнительства) значительно превосходит сравнительно скромный эгалитаризм, обещанный социализмом, основанным на экономическом единообразии, или религией, предсказывающей духовное равенство после смерти. Философия Скотомы обещает окончательный эгалитаризм – эгалитаризм самого сознания. Очевидно, ни одна из упомянутых выше традиционных панацей не осуществима, пока одни люди наделены сознанием богаче, чем другие. Согласно Скотоме, в мире существует фиксированное и исчислимое количество сознания. Все беды общества вытекают из его неравного распределения. Однако эту ошибку можно исправить, регулируя емкость человеческих сосудов. Справедливого распределения можно достичь «либо выравняв содержимое, либо устранив затейливые сосуды и приняв стандартный размер» (СА 1, 264). Теоретик Скотома не предлагает какого-либо способа воплотить свой план в жизнь. Эту задачу берет на себя Падук, который желает обеспечить окончательный эквилизм в распределении человеческого сознания.
Круг как философ поначалу не интересуется проблемой Сознания, хотя теория Скотомы его и возмущает. Круг-философ никогда не занимался традиционными поисками «Истинной Субстанции, Единого, Абсолюта» (СА 1, 341). «Конечный разум, сквозь тюремные прутья целых чисел вперяющийся в радужные переливы незримого, всегда казался ему отчасти смешным» (СА 1, 341). Не занимаясь поиском и синтезом, Круг посвятил себя «творческому разрушению» (СА 1, 343). Однако с течением времени Круг начинает ставить под сомнение добровольно наложенные им ограничения и пытается представить себе мир, лежащий за пределами физики, вне измеримого, мир, в котором «босоногая Материя перегоняет Свет» (СА 1, 342).
Эти размышления посещают его после смерти Ольги, и сначала Круг находится в слишком сильном оцепенении, чтобы следовать этой новой линии мысли. Однако понемногу творческий настрой возвращается, но сама тема не поддается ясной формулировке. Он просматривает какие-то давние заметки, но не может вспомнить объединяющую их идею, секретную комбинацию. Он сидит за столом, думая, что если бы только у него была новая ручка, букет отточенных карандашей, или «стопка матовых гладких листов вместо этих, ну-ка, посмотрим, тринадцати, нет, четырнадцати более или менее мятых… я смог бы начать писать ту неведомую мне вещь, которую хочу написать; неведомую, если не считать нечеткого очерка, похожего формой на след ноги, инфузорчатой дрожи, которую я ощущаю в своих беспокойных костях…» (СА 1, 331). Расстроенный своей недостаточной сосредоточенностью и сексуальным беспокойством, которое пробуждает в нем Мариетта, новая горничная, он оставляет свои усилия. Проходят недели, и он снова безуспешно пытается найти свою ускользающую тему (глава XV). Наконец, в конце января, укладывая Давида спать, Круг внезапно чувствует, как его наполняет любовь к сыну:
…какая же мука, думал мыслитель Круг, так безумно любить крохотное существо, созданное каким-то таинственным образом… слияньем двух таинств или, вернее, двух множеств по триллиону таинств в каждом… проникнутое сознанием – единственной реальностью мира и величайшим его таинством.
(СА 1, 354)
Сам того не понимая, Круг нашел фокус давно искомой им новой философской проблемы. После раннего ужина он засыпает в кресле. Когда он просыпается (в состоянии сексуального возбуждения), он чувствует, что случилось нечто «необычайное». Он понимает, что может писать (СА 1, 356). Приняв холодный душ, он начинает:
В этом предварительном сообщении о бесконечности сознания определенная лессировка существенных очертаний неизбежна. Приходится обсуждать вид, не имея возможности видеть. Знание, которое мы сможем приобрести в ходе подобного обсуждения, по необходимости находится с истиной в такой же связи, в какой павлинье пятно, интраоптически созданное нажатьем на веко, состоит с дорожкой в саду, запятнанной подлинным солнечным светом.
(СА 1, 358)
От работы его отвлекает Мариетта, которая пытается соблазнить его. Она прерывает ход его мысли, и когда он уже почти овладел ею, раздается звонок в дверь. Является полиция, чтобы арестовать Круга и забрать Давида. Как раз тогда, когда к Кругу вернулись силы и он начал мыслить в принципиально новом направлении, о тайнах бесконечного сознания, его зарождающиеся прозрения были прерваны. Пришел «Человек из Порлока» (первое название, придуманное Набоковым для этого романа), и нарождающиеся откровения Круга разрушены.{241}
Романы Набокова характеризуются искусным переплетением темы, сюжета и лейтмотива. Определив тему романа «Под знаком незаконнорожденных», мы теперь можем обратиться к рассмотрению того, как она реализуется в рамках сюжета и мотива романа. Роман концептуально организован с помощью двух миров: с одной стороны, вымышленный мир Круга и Падука, с другой стороны, мир вездесущей авторской персоны, которую Набоков называет в своем предисловии «антропоморфным божеством, изображаемым мною» (СА 1, 202).








