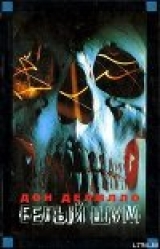
Текст книги "Белый шум"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
27
Я прошел медосмотр – второй после токсического явления. Никаких устрашающих цифр на компьютерной распечатке не оказалось. Эта смерть по-прежнему таилась так глубоко, что и не разглядишь. Мой доктор, Сундар Чакраварти, спросил, почему я вдруг так зачастил на медосмотры. В прошлом я неизменно боялся что-то узнать.
Я ответил, что и сейчас боюсь. Он широко улыбнулся, ожидая шутливого объяснения. Я пожал ему руку и вышел из кабинета.
Домой я поехал по Элм-стрит, намереваясь заскочить в супермаркет. На улице было полным-полно аварийных машин и карет «скорой помощи». За ними я увидел лежащие повсюду тела. Потом услышал свисток, и прямо перед машиной возник человек с нашивкой на рукаве. Я мельком увидел других – в костюмах из милекса. Улицу перебежали санитары с носилками. Когда человек со свистком подошел поближе, я сумел разобрать буквы на его нашивке: УСВАК.
– Задний ход! – сказал он. – Улица перекрыта.
– А вы, ребята, уверены, что готовы к имитации? Может, лучше дождаться еще одной крупной утечки? Зачем зря время терять?
– Отъезжайте, отгоняйте машину! Вы в зоне поражения.
– Что это значит?
– Это значит, что вы мертвы, – сказал он мне.
Я задним ходом выехал с улицы и поставил машину. Потом не спеша вернулся и пошел пешком по Элм-стрит, старательно делая вид, что я тут совсем не лишний. Держался поближе к магазинам, смешиваясь с толпой техников и полицейских, с людьми в форме. На улице стояли автобусы, патрульные машины, санитарные фургоны. Люди с электронной аппаратурой, казалось, пытались обнаружить радиацию или токсичные осадки. В конце концов я приблизился к жертвам-добровольцам. Их было человек двадцать – они лежали ничком и навзничь, облокачивались на бордюрный камень и с ошалелым видом сидели на мостовой.
Я вздрогнул, увидев среди них свою дочь. Она лежала посреди улицы, на спине, вытянув руку в одну сторону, а голову повернув в другую. Я едва не отвел взгляд. Неужели именно такой она видит себя в девять лет – профессиональной жертвой, что старательно оттачивает свое мастерство? Как естественна она, как глубоко прониклась страшной катастрофой. Неужели только такое будущее она предвидит?
Я подошел и присел на корточки.
– Стеффи! Это ты?
Она открыла глаза.
– Тебе нельзя здесь, если ты не жертва, – сказала она.
– Я только хочу убедиться, что с тобой ничего не случилось.
– Если тебя увидят, у меня будут неприятности.
– Сейчас холодно. Ты заболеешь. Баб знает, что ты здесь?
– Я записалась добровольцем в школе, всего час назад.
– Могли бы хоть одеяла раздать, – сказал я.
Она закрыла глаза. Я поговорил с ней еще немного, но она не желала отвечать. В ее молчании не было ни раздражения, ни легкомыслия. Только добросовестность. Она уже давно предана своей жертвенности.
Я вернулся на тротуар. На другой стороне улицы, где-то в супермаркете, зарокотал усиленный громкоговорителем мужской голос:
– Позвольте поприветствовать всех вас от имени «Организации современных катастроф», частной консультационной фирмы, которая планирует и проводит условные эвакуации. Во время данной учебной тревоги – надеюсь, первой из многих, – мы координируем свои действия с двадцатью двумя ведомствами штата. Чем чаще мы будем репетировать катастрофу, тем меньшая опасность будет грозить нам во время подлинного бедствия. Ничего не поделаешь, такова жизнь, не правда ли? Семнадцать дней подряд вы берете с собой на работу зонтик – и ни капли дождя. В первый же день, когда вы оставляете его дома, – рекордный ливень. И так всю жизнь, не правда ли? Этот механизм мы рассчитываем использовать наряду с прочими. Ладно, к делу. Когда прозвучат три долгих гудка, тысячи специально отобранных эвакуируемых покинут свои дома и рабочие места, сядут в свои транспортные средства и направятся к хорошо оборудованным убежищам, снабженным всем необходимым. Руководители дорожной диспетчерской службы помчатся на свои компьютеризованные посты. По радиовещательной сети УСВАК будут переданы последние, уточненные указания. В зоне действия облака развернутся специальные подразделения, которые будут отбирать пробы воздуха. В зоне приема пищи специалисты будут в течение трех дней брать пробы молока и выбранных наугад продуктов питания. Сегодня мы не моделируем какую-то определенную утечку. Утечка или разлив у нас сегодня – универсальные. Это могут быть и насыщенные химикатами облака, и радиоактивный пар, и дымка неизвестного происхождения. Самое главное – эвакуация. Надо вывести всех из зоны поражения. После ночи вздымающегося облака мы многому научились. Однако плановую имитацию заменить нечем. Если вмешается реальность в виде автокатастрофы или падения жертвы с носилок, важно помнить, что мы собрались не для того, чтобы вправлять сломанные кости или тушить настоящие пожары. Мы собрались ради имитации. При подлинных чрезвычайных обстоятельствах любая заминка может стоить человеческих жизней. Научившись действовать без задержек сейчас, мы сумеем обойтись без них потом, когда будет дорога каждая минута. Ладно. Когда дважды уныло провоет сирена, старосты улиц обойдут все дома в поисках тех, кого случайно забыли: птичек, рыбок, пожилых и умственно неполноценных людей, инвалидов, больных и так далее. Жертвы, осталось пять минут! Спасатели, помните, что это не имитация взрыва! Эти жертвы обессилены, но не травмированы. Приберегите свою нежную, трогательную заботу о людях для ядерного взрыва, намеченного на июнь. Остается четыре минуты, и мы продолжаем отсчет. Жертвы, обмякните! И помните: вы здесь не для того, чтобы кричать и метаться. В жертвах мы ценим сдержанность. У нас здесь не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. Достаточно и тихих стонов.
Решив, что мне ни к чему на это смотреть, я вернулся к машине и поехал домой. Подъезжая к дому, я услышал первые три гудка. На крыльце сидел Генрих в оранжевом жилете с отражателями и своей камуфляжной кепке. С ним был парень постарше – крепко сбитый здоровяк неопределенного цвета кожи. С нашей улицы, видимо, никто не эвакуировался. Генрих что-то искал в прикрепленных к планшету бумагах.
– В чем дело?
– Я староста улицы, – сказал он.
– Ты знал, что Стеффи будет жертвой?
– Она говорила, что это не исключено.
– Почему ты мне не сказал?
– Ну, подберут ее и положат в «скорую». Что тут страшного?
– Я и сам не знаю, что тут страшного.
– Она должна поступать так, как ей хочется.
– Такое впечатление, что она просто создана для этой роли.
– Когда-нибудь это, возможно, спасет ей жизнь, – сказал он.
– Каким образом игра в раненых и мертвых может спасти кому-нибудь жизнь?
– Раз она занимается этим сейчас, возможно, ей не придется заниматься этим впоследствии. Чем упорнее ты к чему-то готовишься, тем меньше вероятность, что это случится на самом деле.
– Консультант сказал то же самое.
– Это уловка, но она действует.
– А это кто?
– Это Орест Меркатор. Он будет помогать мне разыскивать оставшихся.
– Значит, вы – тот парень, который собирается сидеть в клетке с ядовитыми змеями. Можете объяснить, зачем?
– Хочу побить рекорд, – сказал Орест.
– Почему ради рекорда непременно надо погибнуть?
– Погибнуть? Кто сказал хоть слово о том, чтобы погибнуть?
– Вас будут окружать редкие и смертельно опасные рептилии.
– Они лучшие в своем деле. А я хочу быть лучшим в своем.
– Каково же ваше дело?
– Просидеть в клетке шестьдесят семь дней. Именно столько времени потребуется для побития рекорда.
– Вы хоть понимаете, что рискуете умереть ради пары строчек в книжонке?
Он испытующе посмотрел на Генриха, явно считая мальчишку ответственным за этот идиотский допрос.
– Они вас укусят, – не унимался я.
– Не укусят.
– Откуда вы знаете?
– Знаю и всё.
– Это же настоящие змеи, Орест. Один укус – и дело с концом.
– Один укус – если они будут кусаться. Но кусаться они не будут.
– Это живые змеи. Вы – живой человек. Змеи постоянно кусают людей. Их яд смертелен.
– Людей кусают. А меня не укусят.
Неожиданно для себя я сказал:
– Укусят-укусят. Эти змеи не знают, что вы и мысли о смерти не допускаете. Они не знают, что вы молоды, сильны и думаете, будто смерть может грозить всем, кроме вас. Они укусят вас, и вы умрете.
Я замолчал, устыдившись страстности своей аргументации. Потом с удивлением заметил, что Орест смотрит на меня с некоторым интересом, с невольным уважением. Быть может, из-за моей чрезмерной горячности осознал всю серьезность своей задачи и почуял неотвратимость гибели.
– Если захотят укусить, укусят, – сказал он. – По крайней мере, сразу отдам концы. Это самые лучшие, самые проворные и ядовитые змеи. Если меня укусит африканская гадюка, я умру через пару секунд.
– К чему такая спешка? Вам девятнадцать лет. Вы еще найдете сотни способов умереть, и они будут гораздо лучше змей.
Что это за имя – Орест? Я всматривался в его лицо. Он вполне мог бы быть уроженцем Латинской Америки, Ближнего Востока, Центральной Азии, темнокожим восточноевропейцем, светлокожим негром. Есть ли у него акцент? Я толком не понял. Может, он полинезиец, североамериканский индеец, еврей-сефард? Все труднее понять, чего нельзя говорить людям.
– Сколько фунтов сможете выжать лежа? – спросил он меня.
– Не знаю. Не очень много.
– Вы били когда-нибудь человека кулаком по лицу?
– Может, разок и стукнул слегка. Давно.
– А я бы врезал кому-нибудь по морде. Кулаком, без перчатки. Изо всех сил. Чтобы выяснить, каково это.
Генрих ухмыльнулся, словно типичный стукач из кино. Прозвучала сирена – два унылых гудка. Оба мальчишки принялись искать в своих бумагах нужные адреса, а я вошел в дом. На кухне Бабетта кормила Уайлдера.
– На нем оранжевый жилет, – сказал я.
– Это на всякий случай. Если будет туман, его не собьют машины, в которых люди спасаются бегством.
– По-моему, никто и не думает спасаться бегством. Как ты себя чувствуешь?
– Получше, – сказала она.
– Я тоже.
– По-моему, когда я с Уайлдером, у меня улучшается настроение.
– Я тебя понимаю. Мне с Уайлдером всегда хорошо. Может, потому, что ему все быстро надоедает? Он эгоистичен, но не жаден, он ведет себя несдержанно и совершенно естественно. Поразительно: стоит ему бросить одну вещь, как он тут же пытается схватить другую. Если остальные дети не вполне понимают ценность каждого мгновения, каждого события, мне становится досадно. Они упускают то что следует бережно хранить и смаковать. Но если так поступает Уайлдер, я вижу в этом подлинную гениальность.
– Возможно, однако меня в нем радует нечто другое. Нечто более важное, возвышенное. Я и сама толком не знаю, что именно.
– Напомни мне, что нужно спросить у Марри, – сказал я.
Бабетта поднесла ко рту малыша ложку супа, гримасничая, чтобы он ее передразнивал, и залопотала:
– Да-да-да-да-да-да-да.
– У меня один вопрос. Где дилар?
– Забудь о нем, Джек. Это золото дураков, или как там их называют.
– Жестокий самообман. Знаю. Но мне хотелось бы хранить таблетки в надежном месте – просто как доказательство существования дилара. Если у тебя вдруг омертвеет левое полушарие, я хочу иметь возможность подать на кого-нибудь в суд. Осталось четыре таблетки. Где они?
– Ты что, хочешь сказать, что под кожухом батареи их нет?
– Вот именно.
– Я их не трогала, честное слово.
– Может, ты выбросила их в миг раздражения или депрессии? Они нужны мне только ради исторической достоверности. Как пленки, записанные в Белом Доме. Их отправляют в архив.
– Ты не прошел предварительных испытаний, – сказала она. – Даже одна пилюля может оказаться опасной.
– Я не хочу ничего принимать.
– Нет, хочешь.
– Никто не зовет нас в зону приема пищи. А где мистер Грей? Может, я из принципа хочу на него в суд подать.
– Мы с ним заключили сделку.
– По вторникам и пятницам. Мотель «Грей вью».
– Я не об этом. Я обещала никому не называть его подлинное имя. Учитывая твои намерения, я тем более не должна нарушать обещание. Скорее ради тебя, чем ради него. Я ничего не скажу, Джек. Давай просто продолжать жить как жили. Давай пообещаем друг другу сделать для этого все что в наших силах. Да-да-да-да-да.
Я подъехал к начальной школе и остановился на другой стороне улицы, напротив главного входа. Спустя двадцать минут на улицу хлынула толпа школьников – около трехсот детишек, говорливых, веселых, безудержных. Они выкрикивали остроумные оскорбления, со знанием дела, обстоятельно сквернословили, мутузили друг дружку ранцами и вязаными шапочками. Я сидел за рулем и вглядывался в эту массу лиц, чувствуя себя то ли извращенцем, то ли торговцем наркотиками.
Разглядев в толпе Денизу, я посигналил, и она подошла к машине. Раньше я никогда не заезжал за ней в школу, и Дениза, обходя машину спереди, бросила на меня жесткий подозрительный взгляд – это значило, что она не расположена выслушивать о нашем решении разъехаться или развестись. Домой я поехал вдоль берега реки. Дениза внимательно разглядывала мой профиль.
– Речь о диларе, – сказал я. – Этот препарат не имеет отношения к забывчивости Бабетты. Как раз наоборот. Она принимает дилар для улучшения памяти.
– Я тебе не верю.
– Почему?
– Потому что ты не стал бы заезжать за мной в школу только для того, чтобы это сказать. Потому что мы уже выяснили, что по рецепту это лекарство не купишь. Потому что я разговаривала с ее врачом, и он в первый раз о нем слышит.
– Ты звонила ему домой?
– В кабинет.
– Для обычного терапевта дилар – средство чересчур специфическое.
– Моя мама – наркоманка?
– Я думал, ты умнее.
– Не умнее.
– Нам бы хотелось знать, что ты сделала с пузырьком. Там еще оставалось несколько таблеток.
– Откуда ты знаешь, что я их взяла?
– Мы оба с тобой это знаем.
– Если мне кто-нибудь скажет, что такое дилар, может, мы и договоримся.
– Ты еще не все знаешь, – сказал я. – Твоя мама его больше не принимает. Из каких бы соображений ты ни взяла пузырек, они уже не являются вескими.
Мы развернулись и поехали на запад, через территорию колледжа. Я машинально достал из кармана пиджака темные очки и надел.
– Тогда я его выброшу, – сказала Дениза.
Какие только доводы я ни перепробовал за следующие несколько дней – от искусной паутины некоторых просто захватывало дух. Пытаясь убедить Денизу, что пузырек должен храниться у взрослых, я даже заручился поддержкой Бабетты. Однако воля девочки была воистину несокрушима. В прошлом жизнь ее как юридического субъекта зависела от чужих переговоров и сделок, и теперь она раз и навсегда постановила придерживаться неких принципов – слишком строгих для возможности хоть какого-то соглашения, компромисса. Она твердо решила прятать пузырек до тех пор, пока мы не откроем его тайну.
Может, оно и к лучшему. В конце концов, препарат мог оказаться опасным. К тому же я не сторонник простых решений и не верю, что проглоченное лекарство избавит мою душу от застарелого страха. И все же мысли о блюдцевидной пилюле не давали мне покоя. Подействует ли это лекарство? Может, оно помогает не всем, а некоторым? Доброкачественный вариант ниодиновой угрозы. Таблетка скатывается с моего языка прямо в желудок. Растворяется сердцевина с лекарством, благотворные химические вещества попадают в мою кровеносную систему, устремляются к участку мозга, отвечающему за страх смерти. Сама пилюля бесшумно самоуничтожается посредством крошечного взрыва, направленного вовнутрь, полимерной имплозии, осторожной, аккуратной и заботливой.
Технология с человеческим лицом.
28
Уайлдер сидел на высоком детском стульчике перед плитой и смотрел, как в маленькой эмалированной кастрюльке кипит вода. Казалось, этот процесс его зачаровал. Может, малыш обнаружил некую чудесную связь между явлениями, которые всегда считал отдельными? На кухне подобные мгновения бывают ежедневно – быть может, не только у меня, но и у него.
Вошла Стеффи:
– Насколько мне известно, только у меня среда – любимый день.
Видимо, ее заинтересовал сосредоточенный вид Уайлдера. Она подошла и встала рядом, пытаясь понять, что именно притягивает его к бурлящей воде. Потом наклонилась и заглянула в кастрюльку: нет ли там яйца?
У меня в голове вдруг зазвучала песенка из рекламы продукта под названием «Рэй-Бэн Уэйфэрер».
– Как прошла эвакуация?
– Многие так и не явились. Мы слонялись без дела и ныли.
– На реальную явятся, – сказал я.
– Тогда будет поздно.
Свет на кухне – яркий, прохладный, от него все сверкало. Стеффи уже собралась в школу и надела пальто, но от плиты не отошла и смотрела то на Уайлдера, то на кастрюльку, пытаясь отыскать, что именно так заинтересовало и восхитило его.
– Баб говорит, ты получила письмо.
– Мама хочет, чтобы я приехала на Пасху.
– Отлично. Ты хочешь поехать? Конечно, хочешь. Тебе же твоя мама нравится. Кажется, она сейчас в Мехико, да?
– Кто меня отвезет?
– В аэропорт – я. А мама тебя встретит. Это нетрудно. Би постоянно это проделывает. Тебе же нравится Би.
Осознав всю чудовищную сложность этой задачи – перелета в другую страну чуть ли не со сверхзвуковой скоростью, на высоте десяти тысяч метров, в одиночку, в горбатом контейнере из титана и стали, – Стеффи на минуту умолкла. Мы смотрели, как кипит вода.
– Я опять записалась в жертвы. Это будет перед самой Пасхой. Поэтому, наверно, придется остаться.
– Еще одна эвакуация? А на сей раз что за повод?
– Странный запах.
– То есть какой-то химический продукт с завода за рекой?
– Наверно.
– Что же должна делать жертва запаха?
– Нам еще не сказали.
– Не сомневаюсь, что уж на этот раз, в виде исключения, тебя отпустят. Я напишу записку.
Первым и четвертым браком я сочетался с Дейной Бридлав, матерью Стеффи. В первом браке мы прожили неплохо и это вдохновило нас на повторную попытку, как только выдался удобный для обоих случай. Когда мы ее предприняли – после безрадостных эпох Дженет Сейвори и Твиди Браунер, – все опять пошло наперекосяк. Правда, лишь после того, как мы зачали Стефани Роуз – одной звездной ночью в Барбадосе. Дейна должна была дать там взятку какому-то чиновнику.
О своей службе в разведке она почти ничего мне не рассказывала. Я знал, что она рецензирует беллетристику для ЦРУ – в основном большие серьезные романы с кодированной структурой. Эта работа утомляла ее и раздражала, почти не оставляя времени наслаждаться едой, сексом или беседами. По телефону она постоянно разговаривала с кем-то по-испански, была сверхдеятельной матерью и вся так и сверкала, будто какая-то жуткая молния. Толстые романы приходили по почте регулярно.
Любопытно, что я то и дело невольно оказывался в обществе разведчиков. Дейна занималась шпионажем на полставки. Твиди происходила из знатного старинного рода, где по давней традиции воспитывались разведчики и контрразведчики, а теперь была замужем за высокопоставленным оперативником, работающим в джунглях. Дженет до ухода в ашрам была специалистом по иностранной валюте и занималась исследованиями для засекреченной группы передовых теоретиков, связанной с неким подозрительным «мозговым центром». Мне она сообщила только, что они никогда не встречаются в одном месте дважды.
Что же касается Бабетты, то к моему обожанию наверняка примешивалось чувство облегчения. Она не хранила в себе никакие тайны – по крайней мере, пока страх смерти не довел ее до безумства подпольных изысканий и эротического жульничества. Я пытался представить себе мистера Грея и его висячий член. Образ получался смутным, незавершенным. Оправдывая фамилию, человек был в буквальном смысле серым, испускал просто зримые помехи.
Вода в кастрюльке заклокотала. Стеффи помогла малышу слезть со стульчика. Выйдя в прихожую, я столкнулся с Бабеттой. Мы обменялись простым, но заданным от чистого сердца вопросом – тем, который после откровенного ночного разговора о диларе задавали друг другу дважды или трижды в день: «Как ты себя чувствуешь?» Задав этот вопрос и услышав его, мы оба почувствовали себя лучше. Я помчался наверх за своими очками.
По телевидению передавали благотворительную викторину в пользу раковых больных.
В закусочной Сентенари-холла я смотрел, как Марри обнюхивает свою посуду. Нью-йоркские эмигранты были бледны как-то по-особому мертвенно. Особенно Лашер и Траппа. Их болезненная бледность свидетельствовала об одержимости, о сильных страстях, подавляемых в тесноте помещений. Марри сказал, что Эллиот Лашер похож на персонажа из film noir. Резкие черты лица и надушенные каким-то маслянистым экстрактом волосы. Мне пришла в голову странная мысль: эти люди тоскуют по черно-белому, а в стремлениях каждого доминируют ахроматические тона, их личные оттенки послевоенной городской серости, возведенные в абсолют.
Излучая угрозу и агрессию, за столик сел Альфонс Стомпанато. Казалось, он смотрит на меня: один завкафедрой оценивает ауру другого. К его мантии на груди была пришита эмблема «Бруклин Доджерз».
Лашер скомкал бумажную салфетку и швырнул ее в человека, сидевшего через два столика от нас. Потом пристально посмотрел на Граппу.
– Кто оказал на твою жизнь самое большое влияние? – спросил он угрожающим тоном.
– Ричард Уидмарк в «Поцелуе смерти». Когда Ричард Уидмарк столкнул ту старую даму в инвалидной коляске с лестницы, я сделал для себя нечто вроде эпохального открытия. Оно разрешило ряд противоречий. Я стал подражать садистскому смеху Ричарда Уидмарка и смеялся так десять лет. Это помогло мне пережить несколько тяжелых в эмоциональном отношении периодов. Ричард Уидмарк в роли Томми Юдо в «Поцелуе смерти» Генри Хатауэя. Помнишь тот жуткий смех? Лицо гиены. Мерзкое хихиканье. Благодаря этому смеху я многое в жизни понял. Он помог мне стать человеком.
– Ты когда-нибудь плевал в свою бутылку с газировкой, чтобы не делиться с другими детьми?
– Машинально. Некоторые даже на бутерброды плевали. Мы играли в расшибец, а потом покупали что-нибудь поесть и попить. И тут начинался целый ливень плевков. Ребята плевали на свои сливочные помадки, в свои русские шарлотки.
– Сколько тебе лет было, когда ты впервые понял, что твой папаша – ничтожество и тупица?
– Двенадцать с половиной, – сказал Граппа. – Я сидел на балконе в кинотеатре «Лоуз Фэрмонт» и смотрел «Ночную схватку» Фрица Ланга с Барбарой Стэнуик в роли Мэй Дойл, Полом Дагласом в роли Джерри д'Амато и великим Робертом Райаном в роли Эрла Пфайфера. С участием Дж. Кэрролла Нэша, Кита Эндиса и молодой Мэрилин Монро. Фильм снят за тридцать два дня. Черно-белый.
– У тебя хоть раз бывала эрекция, когда стоматолог-гигиенист чистила тебе зубы и при этом терлась о твою руку?
– Да я со счета сбился.
– Когда ты откусываешь заусенец на большом пальце, ты съедаешь его или выплевываешь?
– Пожую немножко, а потом быстро смахиваю с кончика языка.
– Ты когда-нибудь закрываешь глаза, – спросил Лашер, – сидя за рулем на шоссе?
– На Северном девяносто пятом закрыл глаза на целых восемь секунд. Восемь секунд – мой личный рекорд. По извилистым проселочным дорогам я ездил с закрытыми глазами не дольше шести секунд, да и то со скоростью тридцать или тридцать пять миль в час. На многорядных автострадах обычно разгоняюсь до семидесяти и только потом закрываю глаза. Это надо проделывать на прямых участках. На прямых участках, когда в машине сидели люди, я закрывал глаза аж на пять секунд. Главное – дождаться, когда пассажиры задремают.
Лицо у Граппы круглое, влажное, озабоченное. Чем-то похож на обиженного пай-мальчика. Я смотрел, как он закуривает, гасит спичку и бросает ее в салат Марри.
– А в детстве ты очень любил, – спросил Лашер, – воображать себя мертвым?
– Да что там детство! – сказал Граппа. – Я и сейчас постоянно это воображаю. Стоит из-за чего-нибудь расстроиться, как представляю, что все друзья, родственники и коллеги собрались у моего фоба. Они очень, очень сожалеют о том, что не были ко мне внимательнее при жизни. Чувство жалости к себе – вот чего я всячески стараюсь не утратить. Неужели нужно отказываться от него только потому, что взрослеешь? Жалость к себе очень хорошо удается детям, а значит, она – чувство естественное и очень важное. Воображать себя мертвым – проявлять самую низкую, гнусную, самую приятную форму детской жалости к себе. Как раскаиваются и скорбят все эти люди, с виноватым видом стоящие у твоего большого гроба, выкрашенного под бронзу! Они даже не могут взглянуть в глаза друг другу, поскольку знают: смерть этого порядочного, сердобольного человека – следствие заговора, в котором все они принимали участие. Гроб завален цветами и обит изнутри ворсистой тканью оранжево-розового или персикового цвета. Какими чудесными противоречиями жалости к себе и самоуважения можно упиваться, если вообразить, как тебя готовят к похоронам, обряжают в темный костюм с галстуком, а ты при этом выглядишь загорелым, бодрым и отдохнувшим, как говорят о президенте после отпуска. Но есть во всем этом нечто инфантильнее и приятнее жалости к себе, и оно объясняет, почему я систематически пытаюсь вообразить себя покойником, замечательным парнем в окружении распустивших нюни родных и близких. Так я наказываю людей зато, что считают, будто их жизни важнее моей.
Лашер обратился к Марри:
– Нам надо бы учредить официальный День Мертвецов. Как у мексиканцев.
– Уже есть такой. Называется «Неделя Суперкубка».
Этого я слушать не хотел. Мне приходилось задумываться о собственной смерти, не зависящей ни от каких фантазий. Впрочем, доля истины в словах Граппы, пожалуй, имелась. Его ощущение заговора задело меня за живое. На смертном одре мы прощаем вовсе не жадность или нелюбовь. Мы прощаем людям их способность отстраняться, тайком плести против нас интриги, фактически сводить нас в могилу.
Я смотрел, как Альфонс поводит плечами – медведь медведем. Наверняка разминается, готовясь заговорить. Мне захотелось броситься наутек, бежать сломя голову, удрать.
– В Нью-Йорке, – сказал он, уставившись на меня, – постоянно спрашивают, есть ли у вас хороший врач по внутренним болезням. Ведь подлинная сила именно в них, во внутренних органах. В печени, почках, желудке, кишечнике, поджелудочной железе. Средство от внутренних болезней – подлинное колдовскрое зелье. От хорошего терапевта выходишь полным сил и обаяния, каким бы методом он ни лечил. Люди спрашивают о специалистах по налоговому законодательству и проектированию поместий, торговцах наркотиками. Но важен именно врач-терапевт. «Кто ваш терапевт?» – то и дело строго спрашивает кто-нибудь. Этот вопрос означает, что если ваш терапевт никому не известен, вы наверняка умрете от грибовидной опухоли поджелудочной железы. Вы должны чувствовать себя неполноценным и обреченным не только потому, что из ваших внутренних органов может сочиться кровь, но и потому, что не знаете, к кому по этому поводу обратиться, не умеете заводить полезные знакомства, завоевывать положение в обществе. Военно-промышленный комплекс – ерунда. Подлинную власть – благодаря этим мелочным сомнениям и страхам – каждодневно прибирают к рукам такие, как мы.
Я поспешно доел десерт, встал из-за стола и ушел не прощаясь. За дверью подождал Марри. Когда он вышел, я взял его за руку чуть повыше локтя, и мы пошли по территории колледжа, словно два почтенных пожилых европейца, склонивших головы за беседой.
– Как вы можете все это слушать? – спросил я. – Смерть и болезни. Неужели им больше не о чем поговорить?
– Я был спортивным обозревателем и часто ездил в командировки с другими журналистами. Гостиницы, самолеты, такси, рестораны. Тема разговора у нас была только одна. Секс и смерть.
– Это две темы.
– Вы правы, Джек.
– Очень не хочется верить, что они неразрывно между собой связаны.
– Просто дело в том, что в разъездах все взаимосвязано. Точнее, все и ничего.
Мы прошли мимо подтаявших сугробиков.
– Как продвигается семинар по автокатастрофам?
– Мы уже просмотрели сотни сцен автомобильных аварий. Столкновения легковушек с легковушками. Легковушек с грузовиками. Грузовиков с автобусами. Мотоциклов с легковушками. Легковушек с вертолетами. Грузовиков с грузовиками. Мои студенты считают эти фильмы пророческими. В них отражена тяга – А вы им что говорите?
– В основном это низкобюджетные фильмы, телефильмы, кино, которое показывают в сельских залах под открытым небом. Своим студентам я говорю, что в подобных местах бесполезно искать апокалипсис. Я считаю эти автокатастрофы частью давней традиции американского оптимизма. Это позитивные явления, проникнутые старинным духом «будет сделано». Каждая новая автокатастрофа должна стать лучше предыдущей. Непрерывно совершенствуются орудия труда и мастерство, ставятся более трудные задачи. Режиссер говорит: «Мне нужно, чтобы этот грузовик с платформой сделал в воздухе двойное сальто, а образовавшийся при этом оранжевый огненный шар в тридцать шесть футов диаметром освещал оператору всю съемочную площадку». Я уверяю своих студентов, что, если они хотят связать все это с технологией, им придется принять в расчет эту тягу к грандиозным свершениям, погоню за мечтой.
– За мечтой? И что отвечают студенты?
– То же, что и вы: «За мечтой?». Вся эта кровь, это стекло, зловещий визг резины. А как же быть с совершенно бессмысленным расточительством, с ощущением, что цивилизация находится в упадке?
– Ну и как же? – спросил я.
– Я говорю им, что они сталкиваются здесь не с упадком, а с простодушием. Кинематограф избавляется от трудных для понимания людских страстей, чтобы показать нам нечто стихийное, нечто яркое, шумное и недвусмысленное. Это исполнение тайных желаний консерватора, стремление к наивности. Нам хочется снова стать безыскусными. Повернуть вспять поток жизненного опыта, суетности и связанных с нею обязанностей. Мои студенты говорят: «Взгляните на эти раздавленные тела, на отрезанные конечности! Где же тут невинность?»
– И как вы на это возражаете?
– Я говорю им, что автокатастрофу на экране нельзя считать актом насилия. Это прославление, новое утверждение традиционных ценностей и взглядов. Автокатастрофы я связываю с такими праздниками, как День благодарения и День независимости. Мы не оплакиваем умерших и не радуемся чудесам. Это дни извечного мирского оптимизма, самопрославления. Мы станем лучше, будем преуспевать, совершенствоваться. Понаблюдайте за любой автокатастрофой в любом американском фильме. Это же мгновение пылкой отваги, напоминающее о старомодном высшем пилотаже, когда каскадеры ходили по крылу самолета. Постановщики таких аварий способны передать беспечность, беззаботную радость, которая и не ночевала в катастрофах зарубежного кино.
– И насилие здесь ни при чем.
– Вот именно. И наличие здесь ни при чем, Джек. В фильмах царит удивительный дух наивности и веселья.








