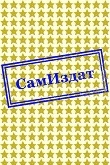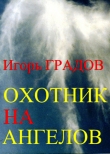Текст книги "Тайна Запада: Атлантида - Европа"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
XXIII
«Сына родила Владычица, Сильная – Сильного! Hieron eteke potnia ischyra, ischyron!» – возглашал иерофант из подземной глубины святилища, как бы из сердца земли (Hippolyt., Philosoph., V, 1. – Foucart, Les mystères d’Eleusis, 1893, p. 49). В этом Елевзинском возгласе – вопль о спасении двух человечеств – первого, погибшего, и второго, погибающего: «Из преисподней вопию к Тебе, Господи!»
Мать родила Сына в вечности – родит в веках: это знают только здесь, в Елевзисе, и там, в Самофракии – на этих двух вершинах всей дохристианской древности – остриях двух пирамид, озаренных первым лучом восходящего солнца – Сына.
XXIV
Вдруг, точно искорки по угольно-черной, истлевшей бумаге, в темном святилище начинают бегать огни, красные от факелов, белые от лампад и светильников; все больше, больше, ярче, ярче, – и засиял, в бесчисленных огнях, весь храм, как солнце в ночи: «Елевзинские ночи прекраснее солнца сияют».
В ту же минуту, открываются двери святилища, и ожидавшая извне толпа входит в него. Иерофант, взойдя на помост, высоко подымает и показывает молча безмолвной толпе «сию великую, дивную и совершеннейшую тайну лицезрения» – «Свет Великий» – «Срезанный Колос».
Радуйся, Жених,
Свет Новый, радуйся!
восклицает толпа, в священном ужасе, падая ниц.
XXV
Кто этот новорожденный бог? Будущий, последний, смотря по двум возможным счетам, третий или четвертый Дионис-Иакх – «первенец, рожденный в браке несказанном» arretôis lektrois, по слову орфиков (Hymn. Orph., XXX, 2. – Арх. Хризанф. Религия Древнего мира, 463), а по нашему, в узле «кровосмешений», так сложно и туго затянутом, что распутать его почти невозможно.
«Кровосмешение» – грубое, кощунственное слово, не древнее, а наше. У древних для этого нет слова: это для них «несказанно-святое» в таинствах, arrêton. Слишком, однако, не будем пугаться слова. Все наши слова о Боге грубы, слабы и невольно-кощунственны; не то говорят, и даже обратное тому, что хотят сказать; проклиная, благословляют и, кощунствуя, молятся. Если бы не глухота привычки, мы никогда не забывали бы, – и это к нашему благу, – что для «непосвященных» Крест, слава наша и спасение, – только «позорный столб», а приношение Сына Отцом в жертву – только «сыноубийство». Так же трудно не знающим, так же легко «посвященным» понять и этот, как будто кощунственный, символ «божественных кровосмешений».
Здесь, в «несказанном браке», человеческий Эрос как бы на самого себя восстает, преодолевает себя, чтобы кончить «дурную бесконечность» рождений-смертей; воля к обрекающему личность на смерть, безличному роду становится волей к вознесенной над родом, бессмертной личности. Тем, что сын зачинает от матери, дочь – oт отца, как бы обращается назад нисходящая во времени, естественная чреда поколений: рожденное рождает оттуда, откуда само родилось, как бы поворачивает время назад – заставляет реку течь вспять. Вечно вертящееся колесо рождений-смертей вдруг останавливается и начинает вертеться назад. Это беззаконно-чудовищно, в порядке человеческом, но в божественном – не может быть иначе, потому что здесь «Сын и Отец – одно». Если рождение Сына не пустая отвлеченность, чем уничтожался бы самый догмат Боговоплощения, то Сын в Отце рождает Себя от Духа-Матери. Или, говоря нашим грубым и слабым человеческим языком, все три Лица Божественной Троицы соединяются, рождая друг друга и друг от друга рождаясь, в Матерне-Отче-Сыновней, несказанно-брачной любви.
XXVI
Вот почему Эрос-Фанес орфиков тот же Иакх-Дионис есть «Мать и Отец самому себе» (G. Wobbermin. Religiongeschichtliche Studien, 1896). «Я – самим собою беременный; я – самого себя рождающий», – говорит умерший – воскресающий, в египетской Книге Мертвых. Вот почему у гностиков Дух-Мать есть Дочь и Возлюбленная Отца Своего, Бога Всевышнего (W. Bousset. Hauptprobleme der Gnosis, 1907, p. 337).
О, Мать моя! Жена моя!
скажет видению Сольвейг, возлюбленной своей, умирающий – «посвящаемый в великие таинства» – Пэр Гюнт. Это и значит: все еще до наших дней, «в браке несказанном», рождается Иакх.
XXVII
Человеческий Эрос восстает на себя самого и рушит закон естества своего – безличных рождений-смертей, в категории времени, кровосмешением, а в категории пространства, – двуполостью.
«Пребывать в половой раздельности, значит пребывать на пути к смерти… Кто поддерживает корень смерти, тот вкусит и плода ее… Бессмертным может быть только целый человек» (Вл. Соловьев). – «Личность есть равноденствие полов». – «Бессмертен только первый, полный Адам», Адамо-Ева, Мужеженщина (В. Розанов). – «Некогда был третий пол, состоявший из двух, мужского и женского… Эрос возвращает нас к этой первоначальной природе, делая все, чтобы соединить обе половины и восстановить их в древнем совершенстве» (Платон).
Сын-Отец соединяется с Дочерью-Матерью, Дионис-Дий – с Персефоной-Деметрой, чтобы рушить закон рождающего – умирающего естества во времени, а чтобы рушить тот же закон в пространстве, Отрок-Дева соединяется с Девою-Отроком, Дионис-Персефона – с Персефоной-Дионисом, Андрогин – с Андрогином.
Тайна воскресения совершается в тайне личности, восстановляемой в первоначальной целости, двуполости, и тем замыкающей врата смерти – половой расщеп, распад на мужское и женское. Древняя заповедь: «Да будут двое одна плоть», получает только здесь свой окончательный смысл. Как бы, сближаясь и входя одна в другую, падают, рушатся стены пространства, отделяющие пол от пола – две половины одной, некогда целостной, Личности, «да будет новая тварь kainê ktisis, новый Человек, который есть Мужеженщина, arsênothelys», – как учат гностики Офиты (Hippol., Philosoph., V, 7).
Вот почему все божества Елевзинского цикла – Дий-Урания, Персефона-Загрей, Деметра-Дионис, Кора-Иакх – двуполы: «двуестественны», diphyes. В иератических изображениях, младенца Иакха кормит грудью Персефона-Андрогин (Новосадский, 1. с., 170).
«Вакх тройной… первородный… Сын-Отец… Бог-Дева»… – «Мужа-Деву призываю, двуестественного Иакха Освободителя», – молятся орфики (Hymn. Orph., XLIX, XLI, ap. – Fr. Lenormant. Monographie de la voie Eleusinienne, 380). Бог Фанес-Эрикапей – тот же Иакх – выходящий из первичного яйца (может быть, андрогинной «сферы» Платона), «златокрылый, вологлавый, змеевенчанный», Мужеженщина, есть Всевышний Бог гностиков Валентиниан – Mêtropator, «Матереотец» (Greuzer, 305).
XXVIII
В иератических росписях ваз Иакх, так же как Дионис-Загрей, изображается крылатым Отроком-Девою, едва отличимым от наших ангелов.
Что такое ангел? Существо бесполое, ни мужчина, ни женщина? Нет, сыны чертога брачного – не скопцы и скопчихи, а женихи и невесты. Это знают святые, знает и последний посвященный в Елевзинские таинства, Гете.
Мефистофель, во главе сатанинского воинства, борется с ангельским – за душу умершего Фауста. Рдеющие угли-розы небесной любви, попаляя бесов, обращают их в бегство.
Как режут ухо, визгливо-звонки,
Мне ваши с неба голоса,
Полумальчишки, полудевчонки,
Ханжам любезная краса!
Постыднейшим, что есть в душе и в теле,
Чем род людской мы погубить хотели,
Вы их умеете пленять…
…И нас хотя за то клянете,
Вы – мастера соблазном плоти
Мужчин и женщин соблазнять! —
все еще смеется Мефистофель и борется, но уже слабеет, разжигаемый содомскою похотью к мужеженской прелести Ангелов и, отступая, выпускает из когтей добычу – душу Фауста, возносимую ангельским хором к Матереотцу, Мэтропатору (Faust, II, Th., V, Act., Grablegung).
Здесь небывалому
Сказано: будь!
Вечная Женственность —
К этому путь!
Нет, Мужеженственность вечная.
XXIX
Человеческий Эрос тает в божественном, как снег под вешним солнцем. Все более бесплодные, все менее рождающие, соединения двух Андрогинов – Дия с Уранией, Загрея с Хтонией, Диониса с Персефоною, Иакха с Корою – стремятся к совершенной двуполости, «двуестественности», освобождающей от колеса «дурной бесконечности» – рождения-смерти. В этой цепи двуполых браков, убывающих рождений, последнее звено – уже как будто нерожденный, невоплощенный Иакх – острие пирамиды – всего до-христианского человечества; высшая точка, как будто не-сущая, а на самом деле, единственно-сущая, потому что вся пирамида только для нее и строится, только и стремится к ней.
Здесь величайшая радость и ужас таинства, слепое касание, осязание грядущего Сына, – как бы Его самого, еще во мраке незримого, живое дыхание в лицо.
XXX
Царство Божие наступит тогда,
когда два будут одно…
мужское будет как женское,
и не будет ни мужского, ни женского,
это «незаписанное слово» Господне, agraphon, это «неизреченное», arrêton, столь непонятное для нас, поняли бы здесь, в Елевзисе, пред лицом Мужа-Девы, Иакха. Вот куда привел нас великий Средиземно-Атлантический путь двух Двуострых Секир, двух двуполых божеств – Сына и Матери.
XXXI
Св. Иоанн Дамаскин, ссылаясь на древние, для своего, VIII века, значит, вероятно, первохристианские свидетельства, говорит о Христе, как будто незначительно, а на самом деле очень глубоко: «Был Он лицом, как все мы, сыны Адамовы». Это значит: лицо у Него было простое, обыкновенное, – лицо, как у всех. И прибавляет только одну, должно быть, особенно врезавшуюся в память видевших это лицо, вероятно, подлинную черту: «Он был похож на Матерь Свою». Ту же черту, теми же почти словами, через шесть веков, напоминает, ссылаясь, кажется, на других, помимо Дамаскина, древнейших свидетелей, Никифор Каллист: «Было лицо Его похоже на лицо Матери»; и повторяет, настаивает, видимо, тоже чувствуя драгоценную подлинность этой черты: «Был Он во всем совершенно подобен Своей Божественной Матери» (G. A. Müller. Die leibliche Destalt Jesu Christi, 1909, p. 44–46).
Вот почему, глядя на Сына, нельзя не вспомнить о Матери: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» Он – в Ней, Она – в Нем: вечная Женственность сквозь Мужественность вечную.
Здесь, в Елевзинских таинствах, люди как будто уже видят это лицо Иисуса Неизвестного.
XXXII
Будущий Дионис, Иакх, – еще не тело, не образ, а только тень, звук, клик в безмолвии ночи: Iakchôs от iakchô, «кличу», «зову»; клик и зов всего дохристианского человечества к Сыну.
В хоре Софокла, Иакх – «хоровожатый небесных светил», choragos astrôn. Вечною пляскою, уносящею души, солнца и атомы, предводительствует он. В хоре Аристофана, Иакх – «Звезда Светоносная», phosphores astêr (Fr. Lenormant. 1. c., 383). – «Радостный Иакх, ужас богов, приди, Блаженный!» – кличут орфики. Боги умрут – звезды потухнут, и только одна загорится, на ровно светлеющем небе, утренняя звезда, вестница солнца, – Иакх.
В росписи одной аттической вазы новорожденный Иакх изображен со светочем в руке и с надписью:
Свет Божий, Dios phôs.
Это и значит: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». – «Я есмь свет миру».
XXXIII
Люди ничего не знают о нем; знают только, что вот-вот родится. «Иакх есть Дионис Младенец, у груди Матери», epi tô mastô (Suidas, s. v. Jacchos, ap. Harrison, Proleg., 543. – Lanzani, 1. с., 95). Это последний, к христианству ближайший, из бесчисленных, рассеянных по всему Средиземно-Атлантическому пути в Европе, Азии, Африке, от неолитиской древности идущих образов: Матерь с Младенцем.
Иакх – вечное «Дитя», Pais, так же, как последний Самофракийский Кабир – Кадмил. Имя Иисуса, Мужа в совершенном возрасте, столь необычное и непонятное для нас, в «Постановлении Двенадцати Апостолов», – тоже «Дитя», Pais. Сын подобен Отцу, Ветхому деньми: «волосы Его белы, как белое руно, как снег» (Откр. I, 14). Имя же Его – «Дитя», «Младенец», потому что Он не только однажды родился, но и вечно рождается в мир.
Parvus puer, «маленький Мальчик», называет Его и «первый из нас, христиан», nostorum primus, Maro (Lactant., Divin, instit., ap. – S. Reinach, 1. с., 83), Виргилий, в IV эклоге, столь обвеянной елевзино-орфическим веяньем. Самые маленькие грудные дети, узнавая издали мать, вдруг начинают смеяться.
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem.
Матерь начни узнавать, засмейся, маленький Мальчик! —
как будто глазами увидел Виргилий то, что будет в Вифлееме. Может быть, прав был Константин Равноапостольный, когда в речи к отцам первого Никейского собора, переведя на греческий язык IV эклогу Виргилия, поставил его наравне с Исаией (Jeremias, 1. с., 225).
XXXIV
Я возвещаю Всевышнего Бога – Иао,
сообщает Макробий стих будто бы самого Орфея (W. Baudissin. Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 1876, p. 213).
Иао-Иагве – Иакх: в смысле не филологическом, а более глубоком и действительном: эти два имени, может быть, недаром созвучны: Иакх – чужой Сын; Иагве – родной Отец, наш иудео-христианский Бог.
Искра молния, соединяющая два полюса – иудейство и эллинство, вспыхнула «Великим Светом» в христианстве.
Иао – Иакх – радостный Клич – Свет —
сказано в надписи на одном послехристианском магическом камне-талисмане, с изображением змея древнеегипетского бога Хнубиса – одного из вечных и всемирных символов, идущих, может быть, от «перворелигии» всего человечества (Baudissin, 215).
Иудеохристианская книга «Pistis Sophia» так объясняет три звука этого «неизреченного» имени
IAÔ
«Iота – мир исходит, exiit mundus; альфа – все к себе возвращается, reventuntur intus; омега – будет конец концов, erit finis finium» (Baudissin, 243).
Так, в имени Божием, заключены имена трех миров – Отца, Сына и Духа-Матери – первого, второго и третьего человечества.
XXXV
Чаяние царства всемирного и вечного – царства Божьего, принадлежащего еще не рожденному Богу Младенцу, слышится, за всю языческую древность, только в Елевзинских и Самофракийских таинствах. Главная новизна их, небывалость, единственность, в том, что здесь Дионис-Иакх не в мифе, позади, а впереди, в истории; не в прошлом, как все остальные боги Атлантиды – Кветцалькоатль, Озирис, Таммуз, Аттис, Адонис, Митра, – а в будущем, как Мессия пророков израильских. «Был», – говорили о нем во всех древних таинствах; только здесь сказали: «Будет».
Вот почему имя того единственного на земле, святого места, где люди впервые узнали, что Он будет, придет, «Елевзис» – «Пришествие».
XXXVI
В ночь на 20-е месяца боэдромиона (начало октября), в конце святой Елевзинской недели, совершалось торжественное шествие. Юноши-эфебы, в белых одеждах и миртовых венках, с круглыми щитами и копьями, сопровождали колесницу с изваяньем новорожденного Иакха. Медленно влачилась за ней, на паре волов, простая, сельская, с деревянными, сплошными, пронзительно-скрипучими колесами, телега, подобная тем, в каких возили пшеницу на гумна и виноград на точила. Круглые, с плоскими крышками, перевязанные шерстяными пурпурными лентами, плетеные корзины и кошницы, с «ненареченными святынями», стояли на этой смиренной телеге. Следом за нею шли иерофант, иерофантида, жрецы и жрицы, факелоносцы, глашатаи и весь афинский народ. Шествие двигалось в блеске бесчисленных факелов, как будто с неба на землю сошел «Хоровожатый пламенеющих звезд» (Foucart, 1. с., р. 302, 325. – Demetrios Philos., Eleusis, p. 21). Тихая земля, тихое небо, тихое море – все оглашалось таинственным кликом:
Iakche, ô Iakche!
К нам, о Диево чадо,
К нам, о бог-предводитель
Пламенеющих хоров
Полуночных светил!
(Sophocl., Antig.)
Люди радовались, в эту Елевзинскую ночь, что Бог Человек вот-вот родится, так же как в ту, Вифлеемскую, что Он уже родился. Ангелы как будто уже пели на небесах:
Слава в вышних Богу
и на земле мир!
«Мир» – величайшее слово земли – повторяло небо и сходило на землю, как будто на земле все уже исполнилось – готово к Царству Божьему.
XXXVII
Две колеи – след колесничных колес, проложенный Иакховым шествием, в течение многих веков, на Елевзинской Священной дороге, via sacra, там, где она проходит по камню, сохранился до наших дней (Foucart., 302).
Мы, новые язычники, хуже древних, – те, еще не видя, верили, а мы не верим, уже видя, – может быть, не обратимся в христианство, как следует, пока не поцелуем смиренно, в святой пыли Елевзинской дороги, этот первый след, проложенный шествием человечества к Царству Божьему.
XXXVIII
За немного дней до Саламинской битвы, сообщает Геродот, афинянин Дикей и лакедемонянин Демарат, находясь на Фрийской равнине (Thria), увидели подымающуюся со стороны Елевзиса тучу пыли, как бы от шествия тридцатитысячного войска, и услышали клик, в котором Дикей узнал «таинственный клик» Иакхова шествия. «Голос этот есть сила Божия, идущая от Елевзиса, на помощь афинянам и союзникам», – сказал Дикей Демарату (Herodot, VIII, 95).
Кажется, Геродот ошибается: Иакховы шествия совершались только по ночам, при свете факелов; значит, Дикей и Демарат могли бы увидеть не тучу пыли, а лишь зарево елевзинских огней, а так как, в самый разгар войны, не совершались, конечно, таинства, то зарево было одним из тех чудесных видений, какие посылаются людям в роковые минуты жизни. В Саламинской битве, так же как во всей Персидской войне, – третьем великом поединке Востока с Западом (первый – баснословная или доисторическая война Атлантиды с Европой, второй – полуисторическая Троянская война), решались вечные судьбы не только всей Греции, но и всего европейского – будущего христианского – человечества. Вот кому на помощь шла от Елевзиса великая «Сила Божия».
«В полночь видел я солнце, белым светом светящее». Этого солнца зарю, восходящую над Елевзисом, и увидели с Фрийской равнины Дикей и Демарат.
Мы, новые язычники, может быть, не обратимся в христианство, как следует, пока не увидим той же зари, не поверим, что людям в древних таинствах уже являлся Тот, Кого они еще не знали, а мы уже не знаем.
XXXIX
За семь дней до Голгофы, когда множество народа, выйдя с пальмовыми ветвями навстречу к Иисусу, восходившему в Иерусалим, восклицало: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» – совершилось то, что можно бы назвать «Елевзисом» – «Пришествием», в самом Евангелии. Эллины, пришедшие на праздник Пасхи, захотели видеть Иисуса; но были робки: знали, что они для Иудеев – «необрезанные», «нечистые», «псы», подбирающие крохи со стола детей; прямо подойти к Иисусу не посмели, как делали это последние люди в Израиле, блудницы и мытари. Подошли сначала к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, «страны языческой». – «И просили его, говоря: господин! мы хотим видеть Иисуса».
Люди, от начала мира хотели этого, жаждали, умирали от жажды, и вот эти три слова: «Иисуса видеть хотим» – как бы открытые, сжигаемые Танталовой жаждой, уста.
Эллинских «псов» подвести к Царю Израиля и Филипп не посмел. «Идет и говорит о том Андрею; потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому».
Что это значит? Почему слава Сына – пришествие эллинов? Разве быть Царем Израиля уже не слава? Нет, те же уста, что сегодня восклицают: «Осанна!» через шесть дней, завопят: «распни!» Слава Сына – исполнить волю Отца, спасти мир. «Весь мир идет за Ним», – говорят между собою фарисеи, за минуту до прихода эллинов, как будто уже зная о нем. Мир вещественный – Рим, мир духовный – эллинство. Он-то и пришел к Сыну. Первые попавшиеся эллины к Нему не пришли бы; эти знали, конечно, зачем и к Кому идут. Он и говорит им, как знающим:
Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно,
падши на землю, не умрет,
то останется одно;
а если умрет, то принесет много плода.
Вся Елевзинская тайна в этом слове, и слыша его, не могли не понять знающие тайну Эллины, что зерно – Он сам.
Когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе.
(Ио. 12, 12–32)
Слыша и это слово, не могли они не понять, что перед ними – высоко вознесенный, «Срезанный Колос», – «Великий Свет» Елевзинских ночей – Спаситель мира.
XL
Эта одна из самых не только божественно, но и человечески-подлинных страниц Евангелия, остается доныне как бы не прочитанной, слово Господне о пришествии мира к Нему как бы не сказанным. Но если бы мы не были так слепы, то увидели бы, что здесь, в пришествии Эллинов, боги древних таинств, боги Атлантиды – первого погибшего мира, привели второй, погибающий, – к Спасителю.
14. К ИИСУСУ НЕИЗВЕСТНОМУ
I
В Рождество Христово я кончаю эту книгу об Атлантиде-Европе. Здесь, на берегу Средиземного моря у подножья Лигурийских Альп, дни зимнего лета, «Гальционовы», как называли их греки, потому что Бог Посейдон в них углаживает волны моря, утишает бури, чтобы гальционы-чайки, ему посвященные, могли высиживать птенцов своих в плавучих гнездах, – эти райски-тихие дни – самые блаженные в году. Летом пахнет, в декабре, смолистая хвоя в кипарисовых аллеях запустевших вилл,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.
Тают в несказанном свете, как в славе Преображения, розово-снежные Альпы, прозрачно-лиловые холмы Эстереля и моря, воздушно-голубое, как небо, где паруса белеют, подобно крыльям ангелов. И в зимнем, сонном щебете птиц слышится ангельский хор:
Слава в вышних Богу
и на земле мир.
Острова Блаженных, Гомеров Элизиум, напоминает, в эти золотые дни, этот очарованный край:
Ты за пределы земли, на поля Елисейские, будешь
Послан богами туда, где живет Радамант златовласый,
Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает,
Где сладко-шумно летающий веет зефир, Океаном
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным.
Кажется, век Золотой притаился в этих райских долинах, как в полуденной щели скалы – зимняя бабочка и небо сходит на землю, как будто все на земле уже совершилось, кончено – готово к царству Божьему. Только здесь верит сердце в Золотой Век, бывший и будущий, золотой сон человечества, и хочется плакать от грусти и радости: радость о том, что это было и будет; грусть о том, что это было так давно и так не скоро будет.
II
Есть у каждого сердца свои приметы, пусть для других суеверные, но для того, кто наблюдает их, несомненные. Есть и для меня такие приметы на книге моей, как бы таинственные знаки судьбы.
Первый знак – время, когда книга написана: после первой всемирной войны и, может быть, накануне второй, когда о Конце никто еще не думает, но чувство Конца уже в крови у всех, как медленный яд заразы.
Знак второй – то, что книга написана русским изгнанником. Только видевший конец своей земли знает, чем будет конец всей земли – Атлантиды-Европы. Люди без родины – духи без тела, блуждающие по миру, на страшную всемирность обреченные, может быть, видят уже то, чего еще не видят живущие в родинах – телах, – начало и конец всего, первые и последние судьбы мира, Атлантиду-Апокалипсис.
Третий знак – то, что книга написана во Франции – вечной, вопреки всему, посреднице между двумя мирами – древним, эллино-римским, а может быть, и древнейшим, друидо-кельтским, кроманьонским, и новым, европейским; между двумя морями – Средиземным и Атлантическим; между двумя тайнами – Востоком и Западом.
Знак четвертый – то, что книга написана здесь, в этой райской долине, где все еще скользит легко-легко, почти незримо, как тень от крыльев зимней бабочки по бледным лепесткам декабрьской розы, последняя тень Атлантиды – золотого века, прошлого, а может быть, и будущего – первая тень.
И, наконец, пятый знак, самый для меня счастливый, таинственный, – то, что я кончаю эту книгу о рождестве человечества, в день Рождества Христова.
III
Ночью, при блеске молнии, путник в горах видит вдруг с высоты весь пройденный путь; так, говорят, умирающий видит всю свою жизнь; так же и я, в этой книге о древних таинствах, увидел – вспомнил, в одно мгновение, всю жизнь человечества, ибо знают ли это люди или не знают, хотят или не хотят, – все во всемирной истории движется от таинств к таинствам, как в теле человека – от сердца и к сердцу льющаяся кровь.
Все, что мы узнали, увидели в этом мгновенном видении, – весь, от начала мира до сегодняшнего дня, пройденный человечеством путь – можно бы выразить в трех словах: тайна таинств – Христос.
IV
«Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Лук. 7, 19.) – этот вопрос – соблазн Иоанна Предтечи, как будто забывшего свои же слова: «Идет за мною Сильнейший меня», повторяют ученики Господни, уже после явлений Воскресшего, как бы не веря в них и снова влагая персты в крестные язвы Распятого. Вот что рассказывает Петр, в своем «Возвещении», Kêrygma:
«Мы же, раскрывши книги Пророков, возвещающих Христа Иисуса, то в темных притчах и образах, то в ясных словах, и увидевши, что в них предсказаны Его пришествие, и смерть, и крест, и воскресение… все, что было и будет, – поверили, ибо познали, что все сие, воистину Бог совершил» (Clement Alex., Strom., VI, 15, 128. – Preuschen, Antilegomena, 1901, p. 54, 145).
Когда говорят пророки,
вот, Я Сам говорю.
Hoti ho lalôn en tois prophêtais
idou pareimi,
по «незаписанному» слову Господа (Epiphan., Haeres., XXIII, 5. – A. Resch, Agrapha, 207).
Где же эти пророки, только ли в Израиле? Нет, во всем человечестве.
Многие придут с востока и запада и возлягнут с Авраамом, Исааком,
и Иаковом в царстве небесном,
а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю.
(Мт. 7, 11–12)
Дух дышит, где хочет, не в одном углу земли, а по всей земле, «ибо Господня земля и что наполняет ее» (Пс. 22, I); Дух говорит не на одном языке, а на всех; тот же Дух в древних таинствах, как в пророках Израиля; тот же «свет к просвещению язычников», fôs eis apokalypsin ethnôn (Лук. 2, 32), только в призме иной, в иные цвета преломляемый; та же звезда, ведущая в вертеп Вифлеемский, волхвов с Востока и богов Атлантиды с Запада.
V
Кто такая Сибилла эллинно-римская? Древневавилонская schebiltu (А. Jeremias, 88), Гераклитова Пифея, что «гласом своим в Боге, проницая тысячелетия, вещает исступленными устами грозное» – начало и конец всего, – дохристианская душа человечества – «перворелигия». Вот почему гимн Фомы Челанского (Thomas da Celano) о кончине мира, повторяемой органными гулами средневековья, соединяет Сибиллу с Давидом, пророком Израиля:
Dies irae, dies illa,
Solvet saecuum in favilla,
Teste David et Sibylla.
Вот почему, и в росписи на сводах Сикстинской капеллы, каждого из двенадцати ветхозаветных пророков сопровождает Сибилла.
Тайна Востока и тайна Запада – как бы две колеи, проложенные Иакховым шествием на Елевзинской Священной дороге.
Ныне грядущему Господу путь уготован.
Первый завет – путь ко второму, Отчий – к Сыновнему, не только в Израиле, но и во всем человечестве.
«Когда говорят посвященные в таинства, – вот, Я Сам говорю», – мог бы сказать Иисус Неизвестный.
VI
В Капернауме-городке, у Тибериадского озера, маленькие, бедные домики построены из черных базальтовых плит; только одна синагога – из белого известняка, подобного мрамору. Венцы колонн и архитравы ионического ордена, а также львы, орлы, кентавры и боги-дети с цветочными вязями, в украшающих стены ваяниях, – все напоминает эллинский храм (P. Rohrbach. Im Lande Jahwes und Jesu, 1911, p. 344–345). Как бы два девственных, живому телу Персефоны подобных мрамора – тот, в синеве елевзинского, и этот – галилейского неба. Здесь, в Капернаумской синагоге, начал Иисус проповедывать.
Рабби Иоханану, галилейскому книжнику, учителю Израиля, фарисею из фарисеев, чистому из чистых, чаша с тисненным по краям изображением эллинского бога, может быть, самого Диониса, не казалась нечистою (G. Dalman. Orte und Wege Jesu, 1924, p. 152). Мог ли поднять и Господь такую чашу на Тайной Вечере, когда говорил: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь»? На этот вопрос детски-просто отвечают росписи древнейших катакомб, где хлебный колос Деметры и виноградная гроздь Диониса означают хлеб и вино Евхаристии (Champagny, Les Antonins, 1863, v. II, p. 304).
Греческий язык, на котором написано Евангелие, так называемый «общий», koinê, всемирный язык Александра Великого и самого Диониса, – как бы золотая чаша с тисненным по краям изображением всех богов мистерии, богов Атлантиды, и самого небодержца, страстотерпца, Атласа.
Раз уже из чаши такой причастился – спасся; может быть, и снова, причастится – спасется погибающий мир.
VII
Это есть тень будущего,
а тело во Христе, —
говорит ап. Павел о пророчествах Израиля (Кол. 2, 17). Мог ли бы он это сказать и о древних таинствах?
«Став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано:
Неведомому Богу.
Agnostô theô.
Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17, 22–23).
Кто этот «Неведомый Бог», знали посвященные в мистерии. – «Сын есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое… Все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего» (Кол. 1, 15–17). Это знает Павел, знает и Гераклит, посвященный в Елевзинские таинства:
Логос прежде был,
нежели стать земле.
Люди до христианства знали, что Христос будет, так же как мы знаем, что Он был: это и есть тайное знание мистерии. Вот почему Павел, апостол язычников, первый, а за ним и вся Церковь, до наших дней называет величайшие святыни свои, таинства, тем же словом, какое произносилось и в Елевзинском и в Самофракийском святилище: mysteria. Слово это понятно всем народам, от Вавилона и Египта до Перу и Мексики; всем векам, от начала мира до сегодняшнего дня.
Вот что значит: тайна таинств – Христос.
VIII
«Это есть тень будущего, а тело во Христе». По облику черной, на белой стене движущейся, человеческой тени, можно узнать не только самого человека, но и то, что он делает; так мы узнаем по символам древних таинств, не только самого Христа, но и то, что Он сделает. В них, говоря словами «Возвещения» Петрова, «пришествие Господа и смерть Его, и крест, и воскресение… все, что было и будет предсказано». Эта откинутая назад, до начала мира – «Атлантиды», простершаяся тень так неотразимо-чудесна, что людям неверующим, когда они увидели ее впервые, оставалось одно из двух: или поверить в чудо, или попытаться уничтожить самое тело, откинувшее тень, – историческую личность Христа. Четверть века назад эта попытка и была сделана, но оказалась покушением с такими негодными средствами, что, можно надеяться, ее уже никто не повторит, кроме слепых изуверов и людей, плохо знающих, что такое история.
Чтобы смешать тело с тенью, надо быть слепым; но и слепому стоит только протянуть руку, пощупать, чтобы почувствовать, что тело не тень. Был ли Иисус? В голову никому не пришел бы этот вопрос, если бы до него уже не помрачало рассудка желание, чтобы Иисуса не было. Чудо Христово в древних таинствах такое людям бельмо на глазу, что они готовы лучше отвергнуть историю, чем принять ее с этим чудом.