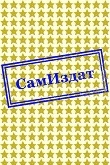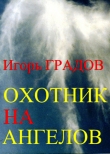Текст книги "Тайна Запада: Атлантида - Европа"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Люди уже не помнят или еще не знают, какое, откуда и куда несут сокровище, но берегут его, как душу свою, и сберегут, донесут – через сколько веков и народов! – до вертепа Вифлеемского, где положат к ногам Иисуса Младенца, как те волхвы с Востока – ладан, смирну и золото, эти – с Запада – Атлантидную жемчужину.
XLII
Вольная жертва Сына или невольная? Этим решается все: в первом случае, Дионисово таинство – путь к единой и последней Жертве Голгофской; во втором – к бесконечности человеческих жертв, к той религии бога-дьявола, которая уже погубила первый мир и погубит – второй, если он отречется от Жертвы Единой.
Было ли сознание вольной жертвы в древних таинствах? Было, но в очень слабой степени. «Потому любит меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее» (Ио. 10, 17–18). Между этим сознанием и тем, что брезжит в Дионисовых таинствах, такая же для человечества разница, как для блуждающего путника – между болотным огоньком и солнцем, или для умирающего от жажды – между снящейся водой и настоящей. Но если бы в древних таинствах люди не бодрствовали так, то не увидели бы солнца восходящего; если бы не жаждали так, то не нашли бы воды живой.
XLIII
Каждый человек есть Дионис растерзанный – жертва Богу или дьяволу. Будем это помнить, когда искушает нас лукавый дух смиренья: «Что я могу, один?» Каждый человек что-то может и один; каждый – погибает или спасается со всеми, и, если погибнет, даст ответ за себя и за всех.
XLIV
Мы никогда не нашли бы «скрижали атлантов» – подлинного смысла древних таинств, не будь у нас нового таинства христианского – божественного лота океанских глубин. Если бы находка скрижали произошла не в духовном порядке, а в вещественном, менее действительном, то очень вероятно, что впечатление от нее было бы таким же потрясающим, как от пришедшей на землю вести с планеты Марс; Крест, Агнец и надпись: «Сын Божий умер за людей», больше всего удивили бы: чудом казалось бы, что за 8000 лет до Р. X. люди могли узнать, что это будет, как будто меньшее чудо, что через 2000 лет от Р. X. люди уже забыли – помнят только умом, но не сердцем, – что это было. Также вероятно, что находка смутила бы нынешних христиан и врагов христианства одинаково, хотя и по-разному: эти сделали бы вид, что злорадствуют: «Все христианство только миф», но втайне боялись бы: «Не слишком ли древний миф?» А христиане сделали бы вид, что радуются, но втайне тоже боялись бы: «Не только ли миф христианство?» И, если бы, при первом слухе о том, что могут быть найдены атлантидные сокровища, более понятные всем, чем эта ржавая доска, все о ней забыли бы, то христиане и враги христианства вздохнули бы с облегчением одинаковым.
Понял ли бы хоть кто-нибудь из нас, что эта скрижаль больше всех сокровищ мира; понял ли бы хоть кто-нибудь, почему весть о гибели первого человечества послана именно нам, именно в наши дни – может быть, накануне второй Атлантиды – Европы; понял ли бы хоть кто-нибудь, что спасение наше зависит от того, услышим ли мы этот остерегающий зов наших погибших братьев, атлантов – пять самых для нас непонятных, забытых и неизвестных из всех человеческих слов:
Сын Божий умер за людей?
12. ДИОНИС ЧЕЛОВЕК
I
«Здесь покоится умерший Дионис, рожденный от Семелы», надписи этой на гробе Диониса в Дельфийском святилище (Philochor., fragm., 22, ар. Malala. – Welcker, 632) как будто противоречит миф: там Дионис, растерзанный титанами и погребенный в Дельфах, – сын Персефоны, а здесь – Семелы. Что это, ошибка? Нет, кажется, два Диониса – премирный и рожденный в мир – отождествляются сознательно; или, может быть, Дионис, бог, забыт, помнится только Человек, потому что он людям нужнее: много богов на небе, и все они сходят на землю, но ни один не сходил так, как Дионис-Человек, чтобы жить, страдать, умереть и воскреснуть.
II
В три года раз, в ноябрьскую ночь, пять дельфийских жрецов, hosioi, «чистых», «святых», приносят над гробом Диониса Ночного, Nyktelios, «неизреченную жертву», по слову Плутарха, вынимают из гроба растерзанные члены его, – должно быть, выточенные из дерева или вылепленные из воску, и складывают их, соединяют в цельное тело, как бы воскрешают мертвого, в то время как вакханки-фиады, с горящими факелами, с пением и пляской, качая колыбель Новорожденного бога Ликнита (Liknitos), над гробом умершего, «будят спящего» (Plutarch., de Isid. et Osirid., XXXV. – P. Foucart. Le culte de Dionysos en Attique, 1893, p. 28. – Welcker, 632), а высоко над Дельфами, на снежных полях Парнасса, в зареве бесчисленных огней, полыхающих так, что плывущие по Коринфскому заливу корабельщики видят их издали, – тысячи фиад, со всех концов Греции, пляшут исступленную пляску-радение тому же Дионису Ночному (Preller, Theogonie und Götterlehre, 1894, p. 690); в лунной вьюге вьются, лунные призраки; тонким хрусталем от мороза подернувшись, плющевые тирсы звенят, как хрустальные; падают на снег плясуньи, изнеможенные, полузамерзшие, но сердца их горят неутолимою жаждою «богоявления», «пришествия», – сами они еще не знают, Кого.
III
Гроб Диониса Человека в Дельфах есть «омфал», omphalos, «пуп земли», тот центр, вокруг которого движется все в пространстве и времени (Tatian., contra Graec., VIII, 251. – Hippolyt., Philosoph., V, 20. – Harrison, Prolegomena, 554). Тайнодействием жрецов, соединяющих растерзанные члены умершего бога, тайнодействием жриц, пробуждающих новорожденного бога, возвещается главное, им самим еще непонятное, дело человечества – «того эона всемирной истории, чье содержание вечное, начало и конец, причина и цель, – Христос» (Д. Мережковский. Тайна Трех, 28).
IV
Дионис родился Человеком, это знает миф; но как он жил и умер, – еще не знает или уже не помнит.
Дионис родился, по Геродоту, в 1544 г. до Р. X., – значит, при XVIII египетской династии, Тутмозов, в полном для Египта свете исторического дня, в предутренних для Греции сумерках (Greuzer, 107). «Было три Диониса, обожествленных после смерти человека», по Диодору. Три меньше одного, если дело идет о достоверности лица исторического. Первый, старший, Дионис Индийский учит людей виноделию; второй, средний, – сын Зевса и Персефоны, «с рогами овчими» (Агнец-Жертва), учит их земледелию; и третий, младший, – сын Зевса и Семелы, Дионис – Вакх, проходит по всей земле, во главе женского воинства, должно быть, амазонок-мэнад; тирсы их – копья, обвитые плющом, притупленные на остриях сосновыми шишками, чтобы не ранили, – оружие войны, превращенное в знамение мира.
Без оружья, без насилья,
Легки все дела богов.
В братский союз объединяет он все племена и народы, прекращает войны, устанавливает вечный мир – новый Золотой век – царство Божье на земле (Diodor., III, 6, 64. – Foucart., 1. с. 12).
Это и есть тот Дионис Человек, чьи растерзанные члены покоятся в гробу Дельфийского святилища. Кем же он растерзан и за что? Этого миф не знает. Сказка-болтунья вдруг умолкает, немеет, как будто испугавшись чего-то. Этого не знает миф, ни даже мистерия. – «Вакховы таинства (растерзание бога-жертвы) произошли из действительных событий, из человеческих жизней или смертей», – кажется, так можно истолковать неясные, но глубокие слова Лактанция: ipsi ritus ex rebus gestis, vel ex casibus, vel ex mortibus nati (Вяч. Иванов, 1. с., V, 38). Это и значит: таинства связаны с каким-то лицом историческим. Но воля мифа к истории чем-то у древних обессилена, – чем, они еще сами не знают; как бы рукой осязают что-то завернутое в ткань покрова, но снять его еще не могут.
V
Бледною тенью исторического лица проходит через всю эллино-римскую древность Дионис-Орфей. Летопись Паросского Мрамора помнит год его рождения, 1399 до Р. X.: значит, почти современник египетского царя, Ахенатона, и это, может быть, не случайно: так схожи эти два лица (A. Wiedermann, Herodots. Zweites Buch, 1890, p. 242). Конон, писатель Августова века, не сомневается в историческом бытии Орфея, так же как историк Страбон, знающий даже место, где он родился, – Пимплею (Pimpleia), y Термейского залива, в Южной Фракии (Conon, Narrat., XLV. – Strab., fragm. 17–19. – Harrison, 1. с. 468). «Чудным даром песен, врачеством болезней и знанием обрядов для умилостивления богов, Орфей достиг власти над людьми», – сообщает Павзаний (Pausan. IX, 12). По Диодору, Орфей «писал о Дионисе Первом (Загрее) пелазгийским письмом», – может быть, критоминосским, только что нами открытым, но еще не прочитанным (Harrison, 467). Самый же для нас важный намек у неоплатоника Прокла: «Будучи пророком Дионисовых таинств, Орфей пострадал, подобно богу своему», homoia pathein tô aphesterô theô (Procl., ad. Plat. Polit., ар. Harrison, 461). Этим страданиям, «страстям» Диониса-Орфея посвящена потерянная трагедия Эсхила «Бассариды» (так назывались поклонницы Диониса Лютого, жены бассаров, Bassaroi, дикого фракийского племени). Вот что сообщает о ней Эратосфен, александрийский ученый времен Птоломеев: «Не Диониса почитал Орфей величайшим из богов, а Гелиоса-Аполлона, и, восходя до света на гору Пангей (Pangaion), ждал зари, чтобы первому увидеть солнце; за что Дионис, разгневавшись, наслал на него бассарид… и те растерзали его и разметали члены его; музы же, собрав их, похоронили» (Eratosth., Catasterism., XXIV). А по другому сказанию, тело его пожрали бассариды-людоедки, так же как тело Загрея – титаны (S. Reinach, 1. с., II, 89).
Если Орфей – воплощение Диониса Кроткого, Meilichios, то понятно, почему он восстает на страшного двойника своего, Диониса Лютого, Omêstês.
Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,
Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.
(Horat., Ars poet., с. 391, s. s.)
То же делает, на другом конце мира, древнемексиканский Орфей-Кветцалькоатль. Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.
На гору восходит Орфей до-свету, когда все еще люди спят, и первый поклоняется восходящему Солнцу, – древние еще не знают какому, – мы уже знаем.
VI
Тень Орфея – Пифагор, так же как сам Орфей – Дионисова тень. «Чистые», «святые», hosioi, katharoi, – имя пифагорейцев-орфиков. Так называемая «орфическая жизнь», orphikos bios, в «монастырских общежитиях», «киновиях», koinobioi (то же слово, как для будущих фиваидских пустынников), южноиталийских городов VI века, – общность имущества, пост, целомудрие, молчание, послушание, – уже настоящее дохристианское «монашество». Так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать христиан; так же скрываются они в подземных тайниках, «катакомбах». Дом, где заперлись в Кротоне, сожгла возмутившаяся чернь, и почти все они погибли в пламени. Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжен на костре, в Метапонте, как настоящий христианский мученик (Diogen. Laert., 1, I. VIII, X. – A. Chaignet, Pythagore et la Philosophie pythagoricienne, 1873, p. 102, 120, 87. —Fracassini, 101. – Carcopino, 178, 214).
«Св. Пифагор», «св. Орфей», хочется сказать, – почему, понял бы Данте, сходивший в Ад, подобно им обоим, с учеником их, Виргилием. В нимбе святости, и вошел в христианскую легенду Орфей. В стенописи римских катакомб, он – певец-кифаред небесной любви; в равенской мозаике Apollinarius in Classe – Пастырь Добрый, а на гематитовой печати гностиков Офитов – распятый на кресте (S. Reinach, 1. c. II, 83. – Harrison, 457).
VII
Как Дионис Человек жил в мире однажды, мы не знаем, но знаем, как он всегда живет в человечестве. Эта жизнь – экстаз, extasis, в древнем смысле, – не нашем; наше слово «экстаз» измельчало и стерлось так, что потеряло свой первоначальный смысл. Трудно объяснить и еще труднее дать почувствовать нынешним людям, что такое экстаз, как слепорожденным, что такое солнце.
Первые точки экстаза доступны всякой живой душе человеческой; каждый из нас проходит через них, в любви, в природе, в музыке, в детских, райских снах; но только что пытаемся мы провести от этих точек линии вверх, как они искривляются вниз – из светлого экстаза в темный, из божеского – в демонический. «Если мы выходим из себя, exestemên (тот же корень, как в слове exstasis), то для Бога», – говорит ап. Павел, один из величайших учителей экстаза, «восхищенный до третьего неба и слышавший там неизреченные глаголы» (II Кор. 5, 13; 12, 2–4); а мы должны бы сказать: «Если мы выходим из себя, то для себя, а не для Бога». В этом и разница между древним экстазом и нашим.
Чтобы в стакан с водою влить вино, надо сначала выплеснуть воду; так человеку надо «выплеснуть» душу свою, чтобы влилось в нее нечеловеческое – не будем предрешать, что именно, здешнее или нездешнее, божеское или демоническое, – скажем просто: «неизвестное», какое-то искомое х. Оно не может войти в человека, пока он полон собою; ему надо сначала «выйти из себя» (по слову Павла и посвященных в мистерии), «потерять душу свою», чтобы приобрести душу иную, – не будем опять предрешать, какую именно, лучшую или худшую, – скажем просто: неизвестную «душу-х», как есть «х-лучи». Вот это «выплескивание», «потеря души», это «выхождение» человека из себя и есть в религиозном, столь для нас непонятном смысле, Экстаз.
VIII
Все мы живем не по «большому», а по «малому разуму»; его лишиться, значит для нас «сойти с ума». Легче нам себя убить, чем сделать это добровольно, а это и нужно, чтобы испытать экстаз.
Еврипид в «Вакханках», уже забоявшийся и усомнившийся в экстазе, вместе с Сократом, знает все-таки, что суд «малого разума» над «безумием» экстаза немногого стоит:
Немудро то, что мудростью считают.
То sophon d’ou sophia.
(Eurip., Bacch., v. 395)
«Мудры мы одни, остальные безумны», – вещает исступленный Вакхом, старый прорицатель Тирезий.
Лучше Еврипида знают это пророк Исаия и ап. Павел: «Мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну, говорит Господь». – «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (Ис. 29, 14; 33, 18. – I Кор. 1, 25, 27; 3, 19).
Можно отвергнуть всякую религию, как «безумие», но, приняв ее, надо принять и мудрость ее – экстаз.
IX
Может быть, он «болезнь»; но если дети, когда у них прорезаются зубы, и женщины, когда рождают, – болеют, то из этого не следует, что людям надо жить без зубов и без детей. Может быть, экстаз такая же «болезнь души», как жемчужина – болезнь раковины. Будь мы не только телом, но и духом здоровы, как боги, может быть, мы погружались бы из экстаза в экстаз, как в бурном море пловцы – из волны в волну.
Х
«Вышел из себя», exsestê, сказано в Евангелии о Сыне Человеческом, тем самым словом, каким посвященные в древние таинства говорят о людях в экстазе. «Ближние Его пошли взять Его (kratêsai, „взять силою“), потому что говорили, что Он вышел из Себя» (Марк. 3, 21–30). «Впал в исступление», in furorem versus est, в переводе Вульгаты, или, по-нашему, «сошел с ума». «Ближние» – братья, сестры, Мать, а Матери ли было не знать, Кого Она родила? Если могут люди так ошибаться о самом божественном из всех экстазов, то о человеческом – тем более.
XI
Ритм, лад мирового движения, есть Дионисова пляска, уносящая души, так же как солнца и атомы. В глубь засасывает щепку водоворот; душу увлекает к Богу пляска.
Кто изведал силу пляски, в Боге тот,
как будто вторит Джелаледин-Руми, персидский поэт-дервиш, св. Клименту Александрийскому: «Кто лада хоровых плясок не ведает, тот еще не причастен к Божественной Истине» (Вяч. Иванов, 1. с., V, 343. – Clement Alex., Strom., VII, 41. – Anrich, Das antike Mysterienwesen, 133).
Пляшем и мы, но, в лучшем случае, ни для кого, а в худшем – для Ирода, чья плата за пляску – голова Предтечи. Если бы кто-нибудь из нас вздумал плясать для Бога, мы посмеялись бы над ним, как Мелхола – над Давидом, «плясавшим и скакавшим пред ковчегом Господним»: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек! – И сказал Давид Мелхоле: пред Господом плясать буду… пред Господом играть и плясать буду… И еще больше уничижусь… и буду славен! – И у Мелхолы не было детей до дня смерти ее» (II Цар. 6, 14–24). А от семени Давидова родится Спаситель мира.
Наша казнь за презрение к божественной пляске – казнь разумной Мелхолы – бесплодие.
XII
Сердце Диониса, растерзанного и погребенного, прозябло, как семя в земле, и выросло из него Древо Жизни, Виноградная Лоза, чьи слезы – вино; божья скорбь – радость человеков (Jeremias, 186).
Вакховы слезы прольются, слезы людей услаждая.
(Nonnos Panopol., Dionysiak., ар. Koeler, 24)
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь… Пребудьте во Мне, и Я – в вас… Я есмь лоза, а вы – ветви» (Ио. 15, 1–5). Ветви, гроздья, листья, волокна, клетки растительной ткани – многие души племен, народов, родов, людей, а Душа единая – ствол и корень Лозы – Дионис. С нею-то и соединяет отдельные души экстаз, чья последняя, в самом христианстве еще не достигнутая цель: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ио. 17, 21).
XIII
Надо быть ученым прошлого века, кажется, еще более религиозно-низменного, чем наш, чтобы сравнивать, как это делает Ервин Родэ, автор знаменитой «Психеи», учитель бедного Нитцше – «бедных Нитцше», потому что имя их сейчас легион, – чтобы сравнивать Дионисову пляску с нашею средневековою «пляской черной смерти» (Erw. Rohde, Psyche, II, 42). Очень может быть, что в той, древней пляске было нечто еще более страшное, демоническое, чем в этой, новой; но ведь было же и нечто другое, что с демоническим боролось и победило в христианстве. Скажем на эстетическом, для Нитцше-Родэ более понятном, языке: из Дионисовой пляски родилась трагедия – величайшая на земле красота и одна из величайших мудростей, а из «пляски черной смерти» не родилось ничего. Чтобы этого не видеть, надо быть слепым, как Мелхола.
XIV
Родэ объясняет Дионисову пляску «повальною душевною болезнью» эллинских племен в VIII–VII веке – следствием страшного душевного потрясения, испытанного в ближайшие прошлые века Ахео-Дорийского нашествия, так внезапно и дотла разрушившего Микено-Троянскую Грецию. Но мы теперь знаем, что «болезнь» началась раньше.
Добрый, старый Плутарх правее нынешних ученых и здесь, как почти везде в мистериологии. В «Жизни Александра», – кстати сказать, одного из величайших вакхантов, или, по Нитцше-Родэ, «душевнобольных», – победившего мир македонскою фалангою видимых копий и вакхической – невидимых тирсов, – Плутарх замечает, что «экстаз», «энтузиазм, enthousiasmos, одушевление человека духом Божьим», идет «от глубочайшей древности, ek tou pany palaiou» (Plutarch., Alexand., II. – P. Perdrizet, Cultes et mythes du Pangée, 1910, p. 75). Мы теперь знаем, что древность эта для Западной Европы – Неолит или Бронза, а для Крито-Эгеи – баснословное «царство Миноса».
Вспомним десять пещерных мэнад Когульской росписи в Восточной Испании, пляшущих неистово, изгибающих, ломающих осино-тонкие станы, вокруг черного, голого мальчика, и тут же, на самом видном месте, но вне плясового круга, жертвенную лань, пронзенную двумя стрелами – может быть, напоминание о том, что сам бог – тот мальчик в средоточии пляски – есть Жертва (См. выше: Атлантида I, Атлантида-Преистория, VIII).
Вспомним резьбу на золотом перстне Изопаты, города близ Кносса, столицы Миносского царства, II–III тысячелетия – времени близкого, по летосчислению Геродота, к Дионисову «пришествию»: тонкие, гибкие, как водоросли девушки-плясуньи, в таких же юбках-колоколах, как у тех пещерных мэнад, с такими же осино-тонкими, ломкими станами и с острыми, голыми сосцами, пляшут на цветущем шафранном лугу, такую же исступленную пляску, терзающую тела их судорогой смертной боли, упоения смертного, и вызывающую «видение» phasma, бога Отрока (R. Dussaud, La civilisation préhellénique, 375).
С Крита путь – на запад, судя по Когульским пещерным мэнадам, в Восточную Испанию – к Столпам Геркулесовым, к Атлантике, а на Восток – в Ханаан, Св. Землю, где некогда Давид будет плясать пред ковчегом Господним, как исступленный вакхант, и Сын Человеческий скажет: «Я есмь истинная виноградная лоза»; таков для Дионисовой пляски, так же как для всех древних таинств, Средиземно-Атлантический путь.
XV
Шестой век из всех веков дохристианского человечества за память истории – религиозно-небывалый, единственный. Пифагор и Гераклит в Греции, Второ-Исаия в Израиле, Зороастр в Мидии, Будда в Индии, Лао-Дзи и Конфуций в Китае: надо всем миром как бы дыхание Духа Божьего повеяло. Кажется, под ним-то и вспыхнуло пламя Дионисовой пляски в Греции, с такою силою, как еще никогда.
XVI
Всякий обуянный Вакхом человек становится богом: вот почему имя его просто «вакх» для мужчин, «вакханка» для женщин; имя же экстаза – «слияние», synchysis (П. Страхов. Воскресение, 1916, с. 39). Человеческие души с духом Дионисовым сливаются в огне экстаза, как расплавленный металл с металлом.
Больше вакханок, чем вакхов, потому что женское жертвеннее мужского, восприимчивее к богу-жертве; ближе и к ночному «Я», общему корню всех «я», дневных, отдельных; эсхатологичнее: если мужское продолжает, то женское начинает и кончает все.
«Богоодержимость», katochê, – другое имя экстаза (Perdrizet, 75). Исступленная Сибилла Виргилия «силится сбросить с себя божество одержащее, как бешеный конь – всадника, но укрощается ударами, толчками бога, и принуждаема вещать с пеною у рта» (Вяч. Иванов, 1. с., III, 44). Дельфийская Пифия – та же Сибилла – по Гераклиту, «гласом своим в боге проницает тысячелетия» в будущем, и правит настоящим: голос ее для Эллинства то же, что голос пророков для Израиля, и Церкви для христианства. «Немудрое Божие премудрее человеков», – это лучше нас знала Греция и сделала для мира больше нашего.
XVII
Еще другое имя экстаза – «безумие», mania, от mainesthai, откуда «мэнады», «безумные»; имя постыдное, в нашем, Мелхолином, смысле, а в Давидовом, – славное, но страшное.
С «жалом овода», oistros, сравнивается экстаз в тайном учении орфиков. Имя Диониса – oistreeis, oistromanes, значит: «оводом жалящий», «исступляющий, как овод». Лисса, богиня Бешенства, вдохновляет мэнад в уцелевшем отрывке «Эдонян» Эсхила: «Судорога подходит и распространяется вверх по темени, как укус скорпиона пронзающий» (Вяч. Иванов, 1. с., III, 44). – «Некий вакхический Овод напал на Лакедемонских и Хиосских женщин», – сообщает Элиан (Aelian., Var. hist., III, 42). В горной Фракии, целые области охвачены этим повальным безумием; от села к селу, от города к городу, идет беснование жен. В южноиталийских Локрах и Регионе, девушки, сидя дома, за трапезой, вдруг слышат чей-то далекий таинственный зов, hos kalountos tinos – как бы с того света зовет их возлюбленный, – в исступлении вскакивают и бегут в горы плясать (Вяч. Иванов, III, 51). Этот неистовый бег исступленных, как бы не своей волей несущихся, обозначается эратическим словом thyô, «рваться», «метаться», «нестись»; от того же корня thyella, «буря» и thias, «фиада», «плясунья», как бы в человеческом теле воплощенная буря экстаза (A. Loisy, 25). Хоровод плясуний, «фиаз», thiasos, кажется не греческое, а крито-эгейское слово (Autran, Phéniciens, 1920, p. 39).
«На гору! На гору!» – этот крик фиад будет и криком летящих на шабаш ведьм. «Чертовыми гумнами» все еще называют нынешние пастухи те снежные поляны Киферона и Парнасса, где 25 веков назад плясали ведьмы-фиады (Preller, 690).
Только ночью, в горах и лесах, «является» им бог.
Как лань, играя на лугу зеленом,
Закинутую шею оголю,
Под росной свежестью ночного ветра.
(Perdrizet, 84)
В этом хоре Еврипидовых «Вакханок» (Euripid., Bacch., IV chor., I. csr.) – уже начало всей нашей «романтики» – бегство от людей в природу.
XVIII
«Бегали, прядали туда и сюда, как толкала их непоседная ярость, и раскидывали волоса по ветру, и белая пена струилась из неистовых уст на хитоны желто-шафранные», – описывает Нонн пляску фиад (Вяч. Иванов, III, 56), а Эсхил в «Эдонянах» – хоровод вакхантов:
Держит один в руках буравом
просверленные флейты,
и пальцы его исторгают из них
манящие к исступлению звуки.
Песнь звучит громовыми кликами,
и вторят ей, неведомо откуда,
ревы, подобные бычьим, ужас наводящие,
и глухие, как подземные громы,
рокотания бубнов.
(Aeshyl., fragm. Edon., ар. Strabo, X. – Harrison, Proleog., 414)
Это «бычий рев» того исполинского вала, что затопил Атлантиду, гул тех «подземных громов», что Атлантиду разрушили.
Скоро вся земля запляшет.
Autika gâ pâsa choreusai,
в этой песне фиад (Euripid., Bacch., v. 114) – такая же радость Конца, как в чаянии первохристиан: «Скоро всему конец».
XIX
Жалки, как больные дети, слабы, как цветы под бурей, но богом хранимы от зла, людям страшны, «святы», Hosiai (Вяч. Иванов, III, 52).
Счастлив смертный… освятивший жизнь свою…
очистивший душу в непорочных таинствах, —
поют вакханки Еврипида (Euripid., 1. с., I chor., stroph. II).
Дельфийские мэнады, пробегав однажды всю ночь по высям и долам Парнасса, утром, изнеможенные, пали среди вражьего войска, на городской площади Амфиссы, и, не приходя в себя, уснули, полуголые, беззащитные, но пальцем никто их не тронул (Plutarch., de mulier. virt., 13. – Perdrizet, 84).
XX
Жаждут бога увидеть; бегают, ищут, зовут, кличут протяжными кликами – «завываньем», «улюлюканьем», ululatus, ololygmos, alala, с каким травят зверя ловцы (Perdrizet, 77). Жадно слушают, не ответит ли бог; нет, только горное эхо повторяет их собственный клик. И снова бегут, зовут, заклинают.
Сниди к нам, о Герой,
В храм Элеян святой,
В сонме нежных Харит,
С топотом бычьих копыт,
Царственный Бык,
Царственный Бык! —
кличут элидские жены (Plutarch., Quest. grec., XXXVI. – Harrison, 1. с., 437), и вакханки Еврипида:
Каков бы ни был образ твой, явись, —
явись огненнооким львом,
стоглавым змеем или горным туром, —
о, бог, о, зверь, о, тайна тайн, – явись!
(Euripid., Bacch., v. 1017, s. s.)
«Исступляются, пока не увидят желанного» (Philo, de vita comptempl., 2). Но видят только мимолетный «призрак», phasma, и удержать, воплотить его не могут; вместо вечного солнца болотный огонек, мерцающий; то «явление», epip hania, то «исчезновение», aphanismos (Rohde, Psyche, II, 12):
Вскоре вы не увидите Меня,
и опять вскоре увидите.
(Ев. Ио. 16, 16)
Жаждут, умирают от жажды, быть с Ним навсегда; смертною тоскою томятся, как любящие, покинутые Возлюбленным; руки на себя накладывают. О повальном самоубийстве милетских девушек, «тайно лишавших себя жизни через удавление», сообщает Плутарх (Plutarch., de mulier, virt. I, 608), а Мартиан Капелла – о «величайшем голоде смерти», appetitus maximus mortis, у того фракийского племени бассаров, чьи жены растерзали и пожрали Диониса-Орфея (Rohde, 36. – Jeremias, 190).
XXI
«Человекотерзатель», anthroporrhaistûs (Вяч. Иванов, V, 30), – имя бога, страшное для всех, кроме самих терзаемых: знают фиады, хотя еще и смутным знанием, – ясным узнают потом св. Мария Египетская и св. Тереза, – что слаще всех нег земных эти ласки-раны, лобзанья-терзанья небесной любви; лучше с Ним страдать и умирать, чем жить без Него и блаженствовать.
XXII
Все это лицевая сторона медали, но есть и оборотная. Чем грозит опьянение неправым экстазом, напоминает слово орфиков:
Тирсоносцев много, вакхов мало.
(Perdrizet, 11)
Это значит: просто безумствующих много, но безумствующих в Боге мало. А если так, то иногда и простой здравый смысл, в суде над экстазом, может быть правее, чем это кажется. Разума человеческого стоит лишиться, чтобы приобрести мудрость Божью, но, чтобы оказаться в человеческом безумьи, не стоит: лучше и «малый разум», чем никакого. Старую душу потерять, «выйти из себя», легко; но еще неизвестно, какую душу приобретешь, и кто в человека войдет, – Лютый или Кроткий, бес или бог. Ждут одного, а приходит другой. Эта игра опасная: чет или нечет, а ставка – душа.
«Дуры мы, дуры! Что мы наделали!» – плакать должны были многие несчастные, перед тем, чтобы сунуть шею в петлю, как милетские девушки.
XXIII
Ужас Дионисова безумья выразил в «Вакханках» Еврипид.
Вакх-Человек, под видом чужеземного пророка, возвращается на родину, в Бэотийские Фивы. Здешний царь Пентей не узнает его, отвергает безумье вакхических таинств и, видя грозящую городу опасность, велит схватить пророка, заковать и заточить в темницу, во дворце своем. Но узы спадают с него; дворец пылает и рушится. Вакх поражает Пентея безумьем и внушает ему страстное желанье подглядеть за тайнами фиад, самого наряжает фиадою, ведет на гору, прячет в ветвях на верхушке сосны и направляет на него исступленных женщин, как свору гончих – на зверя. Мать Пентея, царица Агава, принимая сына за горного льва, кидается на него, убивает, растерзывает, втыкает голову на тирс, пляшет с нею, поет, и так возвращается в город. Только здесь, опомнившись, понимает, что сделала.
Фиванские менады, ваша песнь
Кончается рыданием надгробным! —
плачет Хор, а Дионис торжествует:
Признали богом вы меня, но поздно!
Сам Еврипид, ученик Сократа, воплощенного Разума, отвечает Дионису, устами Агавы:
…в страстях,
Не должен бог уподобляться людям.
И устами Хора:
Воистину, прекрасная победа,
Где кровью сына обагрилась мать!
(Euripid., Bacch., passim. – M. Meunier, Euripide, Les Bacchantes 1923, p. 122–191)
Жалкая победа над людьми – безумья над разумом:
Вот каким злодеяньям вера в богов научила!
Tantum religio potuit suadere malorum!
XXIV
Двум Дионисовым кумирам, выточенным из той самой киферонской сосны, в чьих ветвях был спрятан и у чьих корней растерзан Пентей, поклонялись коринфяне (Pausan., Att., XX; II, 2, 6. – Meunier, 160). Здесь посвященные знали, что Пентей, чье имя значит «Скорбный», – сам Дионис. Если бы это знал Еврипид, понял ли бы он, что его трагедия кощунственна, что в лице Пентея Дионис Кроткий борется с Лютым, и не человека терзает, а в человеке терзается бог? Знает ли сам Еврипид, что значат эти слова Диониса Пентею:
Страшный, на страшную муку идешь,
Чтобы славу стяжать, возносящую к небу!
(Meunier, 150)
XXV
Древо Пентея будет Древом Жизни – крестом Диониса-Орфея распятого, на магической печати гностиков офитов, а на византийских и русских старинных иконостасах появится, не по заслугам, конечно, сам Еврипид, эллинский «пророк», рядом с ветхозаветными и благочестивый византийский инок, в «Страстях Господних», Christos paschôn, вложит в уста Богоматери, плачущей над снятым с креста телом Господа, плач Агавы (Brams, Christos patiens, 1885, p. 15–17. – Meunier, 182). Вот какое возможно в самом христианстве смешение кощунства с пророчеством.
XXVI
Римский сенат в 186 году до Р. X., обвинив около 7000 посвященных в Дионисова таинства в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались средневековые колдуны и ведьмы, большую часть их приговорил к смерти (Tit. Liv., XXXIX, 8, 19. – Fracassini, 84. – Carcopino, 179–180).