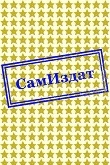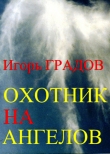Текст книги "Тайна Запада: Атлантида - Европа"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
XVIII
«Царство – детям, paidos hê basileia», – учит Гераклит (Heraclit., fragm. 128–130), как будто уже предчувствуя, что будет сказано: «Кто не примет царства Божия, как дитя, тот не войдет в него. – И, обняв детей, возложил руки на них и благословил их» (Мрк. 10, 15–16). Кажется, это благословение Господне – и на древних детях, критянах.
Дети, в Елевзинских и Самофракийских таинствах, допускались к посвящению легче взрослых и даже совершали над ними, у алтаря со священным огнем, обряд очищения.
Ныне ты счастлив в полях Елисейских,
за то, что исполнил
Древнюю заповедь Бога с легкою жить
простотою.
Olim jussa deo simplicitas facilis,
эта надгробная, о языческом отроке, надпись от времен римской империи сохранилась на мраморной плите помоста, в нынешней христианской церкви около Филипп, в Македонии, где не тщетно проповедовал ап. Павел (L. Heuzey. Mission archeologue en Macédoine, 1876, v. I, 123).
Души простейшие,
Animae simplicissimae, —
сказано в другой, тоже языческой, надгробной надписи (Heuzey, 132). Лучше нельзя сказать и о критянах.
XIX
Богу открыты только «простейшие души».
…Всегда нам открыто являются боги…
С нами они без чинов за трапезу садятся…
Всех нас считают родными,
говорят у Гомера феакийцы-критяне (Odis., VII, v. v. 201–205).
«Всюду, в Елевзисе, Самофракии, Фракии, у племени Киконов, в земле Орфея… посвящения в мистерии совершаются тайно; в Кноссе же явно», – сообщает Диодор (Diod., V, 77. – Harrison, Prolegomena, 566). Здесь как будто противоречье: таинство не тайное; но что это значит, мы могли бы понять по нашему собственному христианскому, как будто всем открытому, и сокровеннейшему таинству.
XX
Боги на Крите – такие же дети, как люди. «Мертвый возвращается в ту землю, где боги были детьми» – это чудное слово египтян поняли бы критяне.
Имя здешнего бога – «Пигмалион», «Малый», или «Пигмей», «Дактиль», – «Мальчик-с-пальчик» (Dussaud, 371). В Кносском дворце, часовеньки – крошечные келийки, локтя три-четыре в ширину и длину (G. Karo. Altkretische Kultstatten, 127): чем теснее, тем святее; в тесноте, в малости Бог; бесконечно-великое в малом, солнца в атомах, царство Божие в горчишном зерне. Это и значит: Бог Младенец.
XXI
Он родился здесь, на Крите, на горе Эгэоне, Aigaion, в подземной, сталактитовой пещере, недавно открытой, где, судя по слою жертвенного пепла и обугленных костей в семь футов глубины, а также по геометрическим, на глиняных черепках, рисункам, поклонение здешнему богу совершалось уже около V–VI тысячелетия (G. Karo, 118–122).
Здесь «колыбель нашего рода святая», Бога Младенца вертеп довифлеемский. Древнего имени его мы не знаем, а имена позднейшие, крито-эгейские: Kirris, Gauas, Pygmalion, Zan (Dussaud, 371); имя ханаанское, от конца второго Бронзового века: Adonai, что значит на вероятном языке Иисуса, галилео-арамейском, «Господь мой» (Frazer, 6); и, наконец, самое позднее, греческое: Zeus Krêtagenes, «Зевс Криторожденный», или просто – Kouros, «Дитя», «Младенец»; это имя самое вещее.
Многоименный – безыменный: Тот, Кого еще нельзя назвать по имени.
XXII
Здесь, на Крите, родился; здесь же и умер на горе Юкте, Juktas, над Кноссом, чей облик, в золоте вечернего неба, напоминает чудесно, и в наши дни, обращенное к небу лицо человека, спящего или мертвого (Evans, Palace of Minos, 156). Бог родился, жил и умер, как человек, смертный, от смертной рожденный, – вот главный догмат здешней религии, так же как древнемексиканской, – Кветцалькоатля.
Куча огромных каменных глыб, должно быть, след «заповедной ограды», temenos, сохранилась на горе Юкте, до наших дней. Память о том, что здесь было, так живуча, что и нынешние критские пастухи продолжают называть эти глыбы «гробом Зевса», mnêma tou Zia (Evans, Mycenaean tree and pillar cult, p. 121). Это тот самый «гроб Адониса, Адоная», – «гроб Господень», нельзя перевести иначе, – на котором будто бы Пифагор написал:
Здесь лежит умирающий Зан, именуемый Зевсом (Porphyr., vita Pythag., с. XVII). Не умерший однажды, а всегда «умирающий».
Циклопические глыбы эти напоминают «Атлантское» зодчество анагуакских развалин в Мексике, тиагуанакских – в Перу, а также исполинские глыбы, подобные тем, что шли на стройку египетских пирамид, найденные на дне моря, у о. Фароса, исторической, Александрийской и, может быть, доисторической, Крито-Эгейской гавани; а эти последние напоминают гидравлическое зодчество атлантов – подземные каналы и гавани, по описанию Платона.
Если все это так, то значит, первое, что люди, после потопа – «Атлантиды», снова начали строить на земле, есть «гроб Господень». Рушилось все, а это осталось; и, может быть, все опять рушится, а это останется.
XXIII
«Гроб и колыбель Господня», – вот с каким грузом с далекого Запада приплыл и остановился, в виду Св. Земли, таинственный Остров-Ковчег.
XXIV
Бог Младенец – Курос, а дядьки, пестуны его, – Куреты. Кто они такие? «Первые люди Золотого века», по Гезиоду, а по Диодору: «Жили Куреты на горах, в дремучих дебрях лесных и в расселинах скал, – всюду, где находили естественный кров, потому что люди, в те дни, строить домов еще не умели» (Brit. Soc. Ant., XV, 1903, p. 352). И по Эсхилу:
Во тьме сырых землянок и пещер,
Как муравьи проворные гнездились.
«Их первых увидело солнце, прозябших из земли, как древесная поросль», толкует один христианский писатель миф о Куретах (Hippolyt. Philosoph., V, 7). Первые люди, Куреты, вышли из земли, после потопа, как после теплого дождя грибы выходят из-под кучи прелых листьев, – так можно понять Овидия:
…largoque satos Curetos ab imbri.
(Ovid., Metàm., IV, v. 282)
Если между Критом и Западной Европой существовала духовная, а может быть, и племенная связь, что очень вероятно, судя по Когульским пещерным росписям, то Куреты – мифологические тени пещерных людей Ледниковой древности, кроманьонов, наших европейских праотцев. Это первого человечества последние, второго – первые люди.
XXV
Нынешние критские пастухи и охотники видят по ночам, на оголенных теперь, но некогда дремуче-лесистых, вершинах Сфакии, Sphakia, блуждающих духов, леших, мужских и женских, или, вернее, мужеженских, тени Куретов, существ, кажется, таких же двуполых, как сам питомец их, божественный Отрок-Дева, Kouros-Korê.
Ласковые дядьки-няньки пестуют бога Младенца, кормят, моют, пеленают, баюкают, а главное, прячут от лютого отца, Кроноса, который хочет пожрать Сына. Это, впрочем, только новая, ледяная кора мифологии, а древний, теплый ключ на дне мистерии: Сына приносит Отец в жертву за мир. Чтобы уберечь Младенца до времени, Куреты заслоняют его телами своими, в вечной пляске, как будто воинственной, а на самом деле, очень мирной. «Тесным кольцом окружают тебя, ударяя мечами в брони свои, дабы оглушаемый Кронос младенческих криков твоих не услышал» (Callimach., Hymn. ad Jovem).
Странная пляска эта, с топаньем ног, головокружительно-быстрая, но все на одном и том же месте, напоминает оргийную «пяточную пляску», чьи следы сохранились в Тюк-д’Одубертской пещере, перед маленьким глиняным идолом Ледникового быка, бизона. Вот когда уже люди поклонялись богу Младенцу, великому Куросу.
Плотник Иосиф, муж Девы Марии, спасший Младенца Иисуса от Ирода, тоже как бы «топаньем ног», но уже не на месте, а в величайшем из всех движений мира – в бегстве в Египет, – последний Курет.
XXVI
Около Диктейской пещеры, на восточном берегу Крита, обращенном к Св. Земле, в нынешнем Палайкастро, древней Элейе (Heleia, «Ивовая Заросль»), столице острова после Разрушения Кносса и Фэста около 1400 г. до Р. X., найден гимн Куретов, песнь Золотого века, одна из простейших и прекраснейших человеческих молитв:
Курос Величайший, радуйся,
Вседержитель радости, радуйся!
Шествуешь ты,
предводительствуя духами;
приди же и к нам, на гору Диктейскую,
и с песнью-пляской возрадуйся!
Да взыграем на лютнях тебе,
согласуя их с флейтами,
и воспоем, стоя вокруг
алтаря крепкозданного.
Ибо здесь тебя, Дитя бессмертное,
кормильцы щитоносные,
от Реи приняв – с топаньем ног,
спрятали.
И годы тогда потекли, изобильные,
и правда овладела смертными,
укротил же и диких зверей
мир благоденственный.
(Harrison. Themis, 1912, p. 1)
«Мир», – в одном этом слове – вся религия Адониса-Атласа. «В мире жить, не подымать друг на друга оружья никогда», может быть, заповедь эту на такой же орихалковой скрижали, как бог Посейдон – в столице атлантов, начертал и царь Минос, сойдя к народу с Диктейской горы, где родился божественный Курос (Donelly, 207).
Здесь, на восточном конце рухнувшего Атлантического моста, Курос, а там, на западном – Кветцалькоатль, оба – вестники мира: «уши затыкают оба, когда говорят им о войне». И уже в Ханаане, будущей Св. Земле, где поселятся Керетимы, выходцы с Крита, Мельхиседек, царь Салима – «царь мира» – благословит Авраама именем Бога Всевышнего, Адоная, «Господа нашего» – Бога мира (Евр. 7, 1–2. – Fr. Lenormant. Lettres Assyriologique, 1872, v. II, p. 291). Так, в бывшей религии последнее, а в будущей – первое слово: мир.
XXVII
Самое мирное из всех живых существ – растение; самое чистое, детское, райское; самое жертвенное: всех питает, в жертву приносится всем, а ему – никто. В этом подобно Сыну. «Плоть твою люди вкушают», – сказано в египетской Книге Мертвых об Озирисе-Бате, Bata, Хлебном Духе (A. Moret. Rois et dieux d’Egypte, 106, 114).
Бог в растении – это поняли критяне так, как, может быть, никто никогда. Всюду на резных камнях и росписях – поклонение богу Дереву – плакучей иве, кипарису, лозе, явору. Жертвенник – перед входом в часовеньку, в «заповедной ограде», abaton, и тут же деревцо – растение-дитя так же как бог-дитя; жрицы, со священною пляскою, вырывают его из земли с корнем, – убивают, приносят в жертву; или деревцо – на самом жертвеннике, как заколаемый бог-животное (Dussaud, 347); или между святыми рогами закланного бога Тельца: как бы четыре ступени восходящей жертвенной лестницы – растение, животное, человек, бог (Evans, Palace of Minos, 161).
На овальной печати золотого Микенского перстня, голая жрица-плясунья вырывает – убивает деревцо, и сама убивается, плачет над ним, как мать – над умирающим сыном или невеста – над женихом, а с неба слетает к Деревцу Голубь, мы уже знаем, какой (Evans, Mycenaean tree and pillar cult, 101).
В глиняных чанах-гробах, pithoi тоже растут деревца, напоминая о том, что воскресший выйдет из мертвого, как растение из зерна (Dussaud, 412). В росписи на саркофаге Hagia Triada, Древо Жизни зеленеет перед мертвым, выходящим из гроба (Evans, 1. c., 439–441).
Когда началось поклонение богу Злаку или Дереву, мы не знаем, но можно проследить его до III тысячелетия на Крите, и, может быть, до IV–V – в Египте и Вавилоне; кончилось же оно только вместе с Адониями, в III–IV веке по Р. X.
XXVIII
Вспомним Гильгамешев Злак Жизни, на дне океана, райское Древо Жизни, Еноха, на «Закате всех солнц», золотые плоды Геракла, в саду Гесперид-Вечерниц, глиф маянских письмен – человека-дерево, растущее из вод потопа, и, наконец, в изваянии Кесарии Филипповой, всеисцеляющий Злак, прозябший у ног Иисуса; вспомним все это и мы прочтем еще один исполинский, по всему земному шару, во всех веках-эонах, начертанный символ – Древо Жизни.
XXIX
Бог невидим, неизобразим, – критяне и это знают: нет у них ни божеских идолов-образов, ни даже, в позднейшем смысле, храмов; только естественные пещеры, пустые, с глиняными рогами Жертвы-Тельца, домашние часовеньки и заповедные ограды, abata, с низенькими, в виде полукруга, каменными стенками, тоже пустые, только с камнем-бэтилем, деревцом или жертвенником; голые, открытые места, – «всегда нам открыто являются боги», – но никому, под страхом смерти, не доступные: «Как страшно место сие; это не иное что, как дом Божий, врата небесные!»
В этих-то оградах и совершаются странные, открытые всем, как бы не тайные, таинства, изображаемые в резьбе на здешних драгоценных камнях-талисманах и на овальных печатях золотых, должно быть, магических, перстней: жрицы (в царстве Матери, царстве жен, нет вовсе или почти нет жрецов) вызывают бога живого, во плоти, – вот почему не нужно им идолов, – чародейственной пляской, вихревым, лабиринтным круженьем, оргийно-неистовым, точно таким же, как у пещерных мэнад в Когульской росписи, пляшущих вокруг маленького голого, черного мальчика – может быть, уже Куроса-Адониса. К здешним, критским мэнадам сходит он с неба, в виде двуострой Секиры, Лабрис – будущего Крестного знаменья, или в человеческом виде – маленького бога, крылатого, реющего в воздухе бабочкой, должно быть, ослепительно-белой, как молния или как те грозовые огни Диоскуров, что вспыхивают спасительным для пловцов знаменьем, на верхушках мачт, или, наконец, как разделяющиеся языки пламени, что почили на апостолах в день Пятидесятницы (Evans, Palace, 161. – Mosso, Escurs, 165. – Karo, 145. – Dussaud, 343. – Fr. Lenormant, Cabiri, ар. Daremberg-Saglio, Dict. Antiq., t. I, v., II, 757. – Деян. 2, 1–4).
XXX
Что же все это значит?
«Многие люди спят с открытыми глазами, что греки называют „исступляться“, „корибанствовать“», – объясняет Плиний Натуралист все вообще «богоявления», «теофании», уже с почти нашею, бездушною, мнимо-научною грубостью (Plin., Natur. Hist., XI, 147). Неоплатоник Прокл объясняет их несколько тоньше: «В таинствах (Елевзинских) бывают явления несказанных Образов, phasmata» (P. Foucart. Les Mystères d’Eleusis, 1914, p. 395). Тем же словом определяет и Платон «Идеи» – существ нерожденных рождающие Тени, Образы, eidola, – кажется, то самое, что Гете называл «Матерями», die Mütter (Goethe, Faust, II, 1 Akt, finstere Galerie).
«Вакхом обуянные приводят себя в исступление, enthousiazousi, пока не увидят желаемого (бога)», – приоткрывает ту же святейшую тайну мистерий Филон Александрийский, современник, хотя и не участник того, что первые христиане называют parousia; слово это значит не только будущее «пришествие», но и всегдашнее «присутствие» Господа (Philo, de vita contemplat., 2. – Erw. Rohde, Psyche, II, 11). Эти «парузии», «пришествия», «богоявления» древних мистерий понял, кажется, из всех современных людей один только Шеллинг: Персефона-Корэ, Куроса женский двойник, в Елевзинских таинствах, «есть нечто и для нас действительно Сущее, ein wirklich existirendes Wesen» (Schelling, Philosophie der Offenbarung 1858, p. 500).
Надо с ума сойти, чтоб этому поверить, – кажется нам, христианам и нехристианам, одинаково. Мы все забываем – не всегда, впрочем, а только в нужных нам случаях, – что никто никогда «научно» не опровергнет возможного просперо-шекспировского взгляда человека на себя, и шопенгауэро-буддийского – на весь мир, как на «представление», «майю», «сон с открытыми глазами», «галлюцинацию».
С этой, для нас как будто «сумасшедшей», точки зрения путь к Тому «действительно Сущему», о Ком здешний же, критский мудрец Эпименид скажет, – и эти слова повторит ап. Павел в Афинском Ареопаге: «Им же живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17, 28), – страшно далекий путь к Нему уже начат в этих «присутствиях», «богоявлениях» критского бога Младенца, Куроса, а может быть, и того жалкого, голого, черного мальчика в Когульской росписи – Адониса Пещерного.
XXXI
Нынешние критские горные пастухи и охотники, перекликаясь в случае опасности, трубят в огромные раковины-трубы, издающие оглушительный, гулу океана или бычьему реву подобный, звук. Пять тысяч лет назад миносские жрецы, как видно по изображениям на здешних резных камнях, трубили в точно такие же трубы (Schelling, Philosophie der Offerbarung, 1858, p. 500). Может быть, эти хорошо и нам известные средиземно-атлантические раковины, margaritana sinuanta, tridacna squamosa, напоминали им здесь, на Востоке, далекую родину, Запад (Poulsen, 65–66). Зов ее слышится во всей Крито-Эгее, как в исполинской раковине гул Океана.
Трубят, кличут, зовут Кого-то, как пастухи на горах – коз и овец, или, вернее, одного-единственного Агнца. И не тщетно зовут, – придет.
XXXII
Этот неумолкаемый зов повторит и ап. Павел двумя незапамятно-древними, как всегда в таких молитвах-заклятьях, неизменными, может быть, в Ханаан, Св. Землю, оттуда же, с Крита, занесенными словами:
Maran atha.
Господь гряди.
(I Кор. 16, 22. – D. Nielsen, 238, 247)
Этим раковинам-трубам Атлантиды – первых дней мира – может быть, ответит, и в последний день, труба Архангела.
5. АДОНИС – АТЛАС
I
Главного в Адонисовых мистериях, – общего, критского, а может быть, и средиземно-атлантического, корня, – мы не знали бы вовсе, по греческому мифу, смешавшему действительную, древнюю родину бога, Крит, с новою, мнимою, – Кипром, где совершались позднейшие Адонии, если бы не отзвук мифа, более древнего, может быть, ханаано-пелазгийского, дошедший до нас в случайной заметке христианского писателя Феодора Мопсуэтского, в одном несторианском сборнике св. отцов, – комментарии к той Афинской речи ап. Павла, где повторены слова Эпименида Критского о Зевсе Криторожденном: «Им же все мы живем и движемся, и существуем». – «Сказывают Критяне, будто бы Зевс был сыном царевым, и растерзан диким вепрем и погребен; и вот, говорят они, гроб его тут же, у нас» (Cook, 157).
Вепрем убит, по греческому мифу, Адонис, а по Феодору Мопсуэтскому, Критский Зевс, он же – Zan, Пифагоровой надписи на Юктской гробнице. Это значит: Зевс, Зан, Адонис-Адонай – одно и то же лицо, смертный, рожденный от смертной, такой же баснословный или доисторический богатырь, как Озирис, Таммуз, Аттис, Дионис, Митра, Кветцалькоатль, – все страдающие боги-люди. Вепрь, убийца Адониса, – это мы тоже знаем по бесчисленно повторенному, от Сапфо до Овидия, греческому мифу, – есть посланец бога войны, Арея, или сам бог. Юный зверолов насмерть ранен клыком зверя. Что это, бессмысленно-роковая судьба? Нет, затаенный или забытый новым мифом смысл древней мистерии глубже. Гибель Адониса – вольная жертва. «Он знает день, когда его не будет», – сказано об одном двойнике его, Озирисе, а другой – Таммуз – сам говорит о себе:
Нисхожу я стезей сокровенной,
Путем без возврата,
В глубины подземные.
«Да возвестит он волю мою», – говорит бог Эа о боге Таммузе. Отец – о Сыне. Это значит: Сын да сотворит волю Отца (W. Anz. Ursprung des Gnosticizmus, 1897, p. 98).
В мифе сознание вольной жертвы потухло, и даже в мистерии чуть брезжит; полным светом засияет только в христианстве: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы снова принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее; власть имею отдать ее и власть имею принять ее. Заповедь сию получил я от Отца Моего» (Ио. 10, 17–18).
II
В вольной жертве убивается богом войны, Ареем, бог мира, Адонис-Курос, тот, с чьим пришествием, как поют куреты:
Укротил и диких зверей
Мир благоденственный.
Вот луч мистерии во мраке мифа.
Быть между нами не может любви… доколе,
сраженный,
Кровью своей не насытит один свирепого
бога Арея,
говорит враг врагу на войне. Но вот, между ними падает, сраженный, сам бог любви, Адонис, и кровью своей напишет заповедь мира уже не на орихалковой скрижали Закона, а в сердцах человеческих; вольно отдаст себя в жертву за людей душ человеческих Возлюбленный, чтобы люди, наконец, поняли, что такое война.
Так же и древнемексиканский бог мира, Кветцалькоатль, борется с богом войны, Витцилопохтлем: тот же миф, та же мистерия – на Юкатане и Крите – двух уцелевших концах рухнувшего моста – Атлантиды.
III
Атлантида погибла от войны и разврата, «язвы убийства» и «язвы рождения». Ту принял на себя Адонис-Атлас в смерти, эту – в любви; обе, по мифу, – невольно; вольно, – по мистерии.
Аполлодор и Павзаний сохранили греческий миф об Адонисе, кажется, впервые записанный, около V века до Р. X., греческим поэтом Паниазом, Panyasis (Ch. Vellay. Le culte et les fêtes d’Adonis-Thammouz, 1904, p. 26).
Чистой из чистых, той, чье имя – благоухание – «Мирра», дочери кипрского царя, Фиаза, Theias, или, по другим сказаниям, Кинира, Kinyras, выходца из Финикии, «Красной Земли» (какой, Восточной или Западной?), внушает кровосмесительную похоть к отцу Афродита Лютая. Мирра поступила с отцом своим, так же как дочери Лота – «напоила его вином и вошла к нему, и спала с ним, а он не знал, когда она легла и когда встала» (Быт. 19, 30–36). Праведный Лот, пощаженный в Содоме, узнав, что с ним сделали дочери, не возмутился, хотя за меньшие грехи, по закону Моисееву, будут сжигать и побивать камнями. Царь же Фиаз-Кинир возмущается, хочет убить дочь; уже гонится за нею с мечом, но она убегает от него, и боги превращают ее в мирровое дерево. «Там, на полях Аравийских, текут из древесной коры горящие слезы ее, драгоценны, благоуханны, по имени Мирры, миррою названы», – поет Овидий (Ovid., Metamorph., 1. X). Есть одно среди довольно плоских и грубых слов его, бездонно глубокое и нежное:
Люди ее никогда не забудут.
Через девять месяцев раскрылась на дереве вспухшая кора, и «вышел из нее младенец плачущий, прекрасный Адонис».
IV
В белые ризы облекся я,
От смертей и рождений очистился…
Чистый на нечистом, белый на черном ложе кровосмешения зачат. Может ли это быть? Может. Вольно захотел страдать с людьми во всем, – и в этом; принял все человеческие раны, – и эту «стыдную рану» пола.
Мирру губит Афродита? Нет, Мирра – сама Афродита в мистерии, не Лютая, Подземная, а Кроткая, Небесная, Урания, страдающая Мать, женский двойник Сына. Так же как он, сходит и она с неба на землю, чтобы с ним страдать за людей. Люди приносят ей в жертву чистейшую мирру; но вот, сама она захотела принести себя в жертву людям, сгореть на алтаре благоуханною миррою.
V
«Моав – умывальная чаша Моя», – говорит Господь о горных озерах Моава, сына Лотова, зачатого на ложе кровосмешения: воды эти так чисты, что лицо Господне умывается в них (Пс. 59, 10). Ясно, что мы чего-то не понимаем в обоих мифах; что-то в них замкнуто от нас семью замками; но, может быть, открыто в мистерии, где догмат «божественных кровосмешений» соответствует догмату «божественной двуполости» (Fr. Lenormant. Lettres assyriologiques, 1872, II, 277). В этом последнем пол как бы восстает на себя, хочет преодолеть себя в категории пространства, где внутреннее единство мужеженского в первично-целостной личности разделяется на мужское и женское, как на правое и левое, верхнее и нижнее; а в догмате «кровосмешений», пол так же восстает на себя и хочет преодолеть себя, в категории времени, где внутреннее единство сыновне-отчего в той же первично-целостной личности разделяется на отчее и сыновнее, бывшее и будущее. В самых глубоких местах своих, омутах, естественное течение пола по нисходящей линии родов, образуя водовороты, как бы возвращается вспять, к истоку: сын хочет снова родить себя от матери, дочь – от отца, уже не во времени, а в вечности. Воля к безличному роду становится волей к торжествующей над родом – рождением, смертью, – бессмертной Личности.
Вот почему и на мифе сохранился, как царапина львиного когтя на теле ягненка, след мистерии: часто Адонис смешивается с Киниром, сын – с отцом; не потому ли, что Сын и Отец одно? (Vellay, 28–29.)
VI
В этих двух догматах древних мистерий – «божественном кровосмешении», «божественной двуполости» – брезжит смутно уже христианская Троичность. Если Сын и Отец одно в Духе-Матери, то мистически-понятно, хотя эмпирически-чудовищно, нелепо, непредставимо, как это часто бывает и в математике, когда дело идет о величинах бесконечных, что не только Отец рождает Сына, но и Сын рождает Отца.
О, Мать моя, Жена моя! —
говорит у Ибсена, менее всего, конечно, думающий о древних мистериях Пэр Гюнт, когда ему является в предсмертном видении его возлюбленная, Сольвейг.
…Я – Мать,
А кто Отец? Не Тот ли, Кто прощает,
По просьбе Матери?
Это и значит: Отец, Сын и Мать – одно в одной любви Троичной.
Так, самый черный, страшный, как бы адский, уголь пола превращается в звездный алмаз.
VII
Myrra – Mirjam, это не филологическое сродство, а более таинственное созвучье имен на галилео-арамейском языке Иисуса, где греческое имя «Мария» звучит «Мирьям», – как напугало бы всех маловерных и обрадовало бы всех неверных, – мелких бесов кощунства, от Лукиана и Цельза до Вольтера и Бруно Бауэра!
«Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве… Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее» (Мтф. I, 18–19). Смысл греческого слова deigmatisai: «сделать так, чтоб на нее указывали пальцами, ругались над ней». Это, кажется, и вспомнили фарисеи, ругаясь над Сыном: «Мы не от любодеяния рождены» (Ио. 8, 41). Смысл довольно ясен: «Как Ты». Этого не поняли христиане, за две тысячи лет, но тотчас поняли враги Христовы.
«Мать его (Иисуса) была Мирьям, Mirjam, женских волос уборщица, magaddla». Хитростью однажды выманил у нее Рабби Акиба признание, что «сын ее родился от любодеяния». – «Имя же любовника ее Pandera», – сообщает Талмуд Вавилонский (Babyl. Hagiga, 4, b. – Misna Jebamoth, 4, 13. – H. Strack, Jesus nach den ältesten Judischen Angaben, 1910, p. 26, 34. – J. Aufhauser, Antike Jesus-Zeugnisse, p. 44).
Гнусность эту жадно подхватил и «просвещенный» римлянин Цельз, александрийский врач-эпикуреец, в своем «Слове истины»: «Сына родила она от какого-то воина Пантеры, Panthera (судя по имени, римского легионера), и, выгнанная мужем, бездомная, презренная, где-то в темном углу, родила Иисуса, skotion egennêse» (Origen., contra Celsum, I, 32; 28).
Тех, римских, солдатских, во дворе Каиафы, плевков на челе Господа чище ли эти, увы, не только иудейские, – на челе Марии?
Как же было смиреннейшей тени у ног Ее, Мирре, не принять позора, принятого Ею самой, лучезарною, Солнцем солнц?
VIII
Мир наполнился благоуханием, когда родился Адонис, мирровый цвет. Сын – в мать; вот почему «люди ее никогда не забудут».
«Дух Св., Pneuma, подобен благоуханию тончайшему и вездесущему», – учат сэтиане-гностики (Hyppol., Philosoph., V, 19. – W. Bousset, Hauptproblème der Gnosis, 1907, p. 120). Мир – цветок, благоухающий Богом Духом.
В дереве бог – Адонис, и Мирра – тоже. Вспомним Древо Жизни Еноха, на «Закате всех солнц»: «Благовоние его сладостней всех благовоний… Не прикоснется же к нему никакая плоть до великого дня; тогда оно будет дано смиренным и праведным… И благовоние его напитает кости их… И не будет уже ни болезни, ни плача, ни воздыхания».
IX
В Греции сначала, а потом в эллинизме, миф об Адонисе выветрился окончательно; в мифе мистерия умирает жалкою смертью. Мосх, Бион, Феокрит, и особенно Овидий уже ничего не помнят, ничего не знают, ни во что не верят; «делают из этого забаву», легкостью, плоскостью эстетической заменяют глубину и тяжесть религиозную; Бога Адоная Всевышнего превращают в жеманного пастушка, фарфоровую куколку идиллии; неизреченную тайну богозачатия, от которой херувимы закрывают лица свои в ужасе, – в соблазнительную сказку или случай из уголовной хроники.
…Мягче сна пурпурное ложе Киприды…
Нежных богининых уст поцелуй не уколет
безусый.
(Theokr., Idyl., XV)
Трижды любимый Адонис, и в мраке Аида
любимый…
Уст холодеющих все еще сладко лобзанье
Киприде…
«…О, помедли, помедли со мною, мой бедный
Адонис!
Вздох твой последний с дыханьем моим
да сольется…
Жадными-жадными выпью устами я вздох
твой последний…
…Нет, умираешь; мне же, несчастной,
бессмертной,
Смерти с тобой разделить невозможно…»
(Bion, Idyl., I)
Все это, может быть, и красиво, но безбожно, и потому бессмысленно.
Плач свой оставь, Киферея, умерь свое горе и слезы:
Ведь и в грядущем году снова плакать придется, —
глупо утешает Бион.
Так же как в поздних Адониях, вся метафизика таинства здесь опрокинута: «исчезновению» бога, aphanismos, предшествует его «нахождение», heuresis, как будто сначала воскрес, а потом опять умер; плач после радости, после временной жизни вечная смерть (Vellay, 148–151); смрад тлена сквозь благовонную масть погребения. Все эти поэты упадка – над мифом, как нечистые мухи – над перезрелым и уже загнившим плодом.
Х
В росписи помпейского домика, Casa d’Adone, бог, похожий на римского кинеда, «альфонса», по-нашему, умирает в объятьях богини – Субуррской сводни, и льющуюся кровь из раны его вытирают полотенцами Эроты, напоминающие тех гнусных «рыбок» в лазурных банях Капреи, которыми разжигал свою похоть дряхлый Тиберий (H. Brugsch. Die Adonisklage und das Linoslied, 1852, p. 8). Серного дождя и пепла стоила Помпея-Содом.
Может быть, наглядевшись на такие картинки и начитавшись таких идиллий, императрица Юлия Домна и шепнула сыну своему, Каракалле, на ложе кровосмешения: «Si libet, licet, если хочешь, можешь!»
XI
Благочестивые люди все еще упорно ищут смысла в мифе – жизни в трупе; но лучше б не искали: мнимый смысл хуже бессмыслицы.
«Жатву созревших плодов означает убиение Адониса» – по Аммиану Марцеллину (Ammian Marcell., Hist., XXII, 9), а по бл. Иерониму, Адонис умирающий – в хлебном семени, а воскресающий – в колосе (Hieronym., ad Ezech, 8. – Movers, Die Phönizier, 1841, p. 208–209).
Вся религия Адониса – только «земледельческий культ плодородья», – это нелепое кощунство останется незыблемым от V века до XX. Ну, конечно, Адонис – хлебный злак, умирающий и воскресающий, но совсем не в том смысле, как думают «натуралисты», от бл. Иеронима до Фразера (J. G. Frazer, Adonis, Attis, Osiris, 1906), а в том, как учит ап. Павел: «Что ты съешь, не оживет, если не умрет… Так, и при воскресении мертвых… Говорю вам тайну» (I Кор., 15, 36–42). «Тайна» эта и сделалась «тщетною», увы, не только в древних Адониях.
XII
Если вся религия страдающего Бога – перворелигия всего человечества – «земледельческий культ плодородья», и ничего больше, то зачем глиняные чаши и черепки с хлебными злаками выставляются нарочно на самом припеке, у стен домов, и обильно поливаются водою, так чтобы зелень как можно скорее взошла и увяла? зачем среди них сажают латук, «яство умерших», скопческий злак, «отнимающий силу чародея»? зачем кладет Афродита мертвое тело Адониса на «латуковое ложе»? зачем кидаются проросшие семена Адонисовых садиков не в плодородную землю, а в бесплодное море и в бездонные колодцы, устья преисподней? (Langrange, 244. – Movers, 200. – Brugsch, 4. – С. P. Tiele, La religion des Phéniciens, 1881, p. 184.) И что, наконец, значит миф, сохраненный Дамасцием, о боге Эшмуне, ханаанском Адонисе, оскопившемся крито-эгейскою двуострою секирою, labrys, чтобы избегнуть любовных преследований богини Астронойи – Астарты Звездной – той же Афродиты Небесной, Урании? (Dussaud, Notes de Mythologie Syrienne, 1903, p. 155. – Tiele, 200. – Damascius ap. Phot. Biblioth., 242. – Fr. Lenormant, Cabiri, 773.) Здесь мнимый «бог плодородья» превращается в настоящего бога скопцов, Аттиса. Можно ли представить себе что-нибудь, менее похожее на «культ плодородья»?