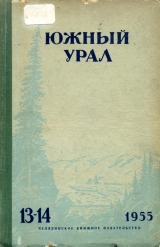
Текст книги "Южный Урал № 13—14"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Соавторы: Мустай Карим,Владислав Гравишкис,Александр Шепелев,Людмила Татьяничева,Леонид Чернышев,Анатолий Головин,Яков Вохменцев,Владимир Акулов,Иван Машков,Станислав Мелешин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Не пойду за Петра Аникеева. Хороший он человек. Не спорю. Да что поделаешь – душа не лежит.
– А ты переломись. Свыкнешься.
– Не нужно мне пока никого, папаша. Учиться буду, коль взялась. Вот и правление помогает – освободило меня от бригадирства. Почту возить хорошо: много свободного времени для занятий. И не говорите, папаша.
– Смотри, сама не маленькая. Природой назначено жить человеку парой, а ты против… близок будет локоток да не укусишь.
Старик ушел, взбивая валенками железистую уличную пыль. Марфа притулилась к белесым доскам сеней, долго наблюдала за парой дутышей, которые разгуливали по крыше каменной завозни. Голубь раскатисто ворковал, кланялся, смешно отдергивая от толя мохнатые ноги. Его белый зоб переливался розовыми искрами. Голубка кокетливо подергивала шеей, перебирала крошечным, не больше пшеничного зернышка носом сиреневые крылья. Марфа принесла из кладовки горсть конопли, высыпала в кормушку. Птицы слетели во двор, начали торопливо клевать.
– Ешьте, ласковые мои, не спешите. Эх, если бы вы знали, как трудно одной!..
4
Было уже далеко заполдень, когда Марфа перестала копать картошку и хватилась, что забыла съездить за почтой. Спешно она запрягла в одноколку постаревшего, но еще резвого в беге Аполлона, и скоро он вынес ее на столбовую дорогу.
Грустно глядеть на сжатое пшеничное поле. То тут, то там по стерне бродят тяжелые, нагуливающие последний жир гуси. Неприютна кочковатая пахотная чернота. Осенний холод в грачином грае. Стучат подковы, шуршат колеса, мягко пружинят рессоры. И снова на уме Алексей – незаменимый, мучительно незабываемый.
– Ты не сердишься, что запозднился? – спрашивает он, подходя к изголовью кровати, в которой лежит Марфа.
– Что ты, Алеша!
От него пахнет табаком и снегом. В щель между закрытыми ставнями просачивается с улицы свет электрической лампочки. Он лоснится в колечках мерлушковой шапки Алексея, стекает по щеке, плавно ложится в складки на рукаве фуфайки, белым кантиком скользит по боковине брюк и пропадает возле голенища чесанка, словно прячется в него.
– Приехал профессор Шумилин. Он нашим шефом будет, – говорит Алексей. – Показывал ему ферму. Понравилась. Ходил я по ферме и почему-то думал о нашем сыне, и знаешь, завидовал ему, а больше, понятно, радовался за него. Когда он подрастет, мы к этому времени получим высшее образование. И ему не придется вступать в жизнь вслепую, как вступали мы.. Спросит он тебя или меня, почему растения имеют зеленую окраску, или другое что-либо спросит, мы не выкрикнем: «Много будешь знать, скоро состаришься», – как отвечали нам отцы и матери, не зная, что ответить, а объясним сыну, почему, как и зачем…
Марфа выпростала из-под одеяла руки, притянула мужа:
– Сбылось бы, Алеша.
– Непременно сбудется.
– Хотя бы, – она поцеловала Алексея, устало упала на подушку и тут же, стесняясь, прошептала: – Алеш, ты говоришь – сын да сын, а вдруг родится девочка?
– Тоже хорошо. Но ты уж постарайся мальчугана. И такого, чтоб можно было с ним порыбачить, поохотиться, а где и поспорить, а где и поругаться. Чтоб страсть любознательный был и мужской норов имел.
А когда родилась Леночка, он не огорчился. Каждый день он приходил, косолапя и добродушно ухмыляясь, по талой дороге к родильному дому, присылал на имя дочери шутливые, ласковые писульки, как будто она могла понять их шутливость и ласковость.
Аполлон спотыкнулся. Звякнули трензеля. Чуть не вырвало вожжи. Марфа встрепенулась, но в первый момент все еще находилась во власти воспоминаний. То, что было явью: высоковольтные мачты, кукушка, покачивающаяся на ветке голой осины, кусты черемухи и река, – показалось ей призрачным, возникшим по странной прихоти мозга, а то, что она представила, показалось ей живым, действительным, но по какой-то непонятной причине вдруг исчезнувшим.
– Вот, Аполлон, мы и добрались до брода, – сказала Марфа.
Высоко подымая копыта, вороной вошел в прозрачный пенящийся поток. Он долго нюхал воду и, раздувая плюшевые ноздри, начал деликатно цедить ее сквозь зубы. Марфа наклонилась с одноколки, окунула в переливающиеся струи кончики пальцев. Холодная вода. Если прислушаться, красиво звучит в ней разноцветная галька. Пятнистые пескари заинтересовались колесом, тыкаются в спицы и ободок, пошевеливая усами, вопросительно смотрят друг на друга. Внезапно впереди Аполлона мелькнула крупная рыба. Щука! Пескари сгрудились, сиганули к берегу на самую отмель. Крошечные, а хитрущие! Теперь доберись-ка до них щука!
Марфу развеселила находчивость пескарей. Она озорно плеснула на круп вороного горсть воды и откинулась на спинку одноколки, обитую цветной вылинявшей кошмой.
Со странным ощущением, что она обязательно получит письмо Алексея, вбежала Марфа в пятистенный дом, где помещалась почта. Такое ощущение никогда не покидало ее, хотя горький смысл документов и времени неопровержимо приводил к одному: убит. Оно поддерживалось в Марфе чувством, в котором была огромная вера в чудо случайности: а вдруг он увезен бывшими союзниками куда-нибудь в Аргентину и еще сможет вырваться – и очень мало места вере в смерть самого дорогого человека на свете.
Начальник почты подал Марфе пачку писем, извещений и телеграмм.
– Видишь, все ушли. Задержался из-за тебя. Знал – приедешь, – проворчал он, морща изъеденный оспой лоб.
Начальник почты натянул на голову кепку, кивнул:
– Там тебе, Марфа Алексеевна, письмо с маркой «Девятый вал».
Марфа выскочила из почты, даже позабыв проститься с Андреем Герасимовичем. Едва коснувшись подножки одноколки, она приказала Аполлону:
– Пошел!
Тот слегка вздыбился, взял с места вихревой рысью. Тяжелая грива вороного полоскалась по ветру, шарахались с дороги куры.
Быстрей на простор, в степь, где тишина и одиночество, где коршуны режут небо неустающими крыльями, где колышутся серебряные волны осыпающегося ракитника.
Быстрей на простор, в степь. Надоело держать натянувшиеся вожжи. Хочется бросить их и разобрать письма. Одно из них к ней. От кого? Неужели от Алексея?!
Деревня осталась за бугром. Марфа пустила Аполлона шагом, раскрыла сумку. Ее пальцы дрожали, перебирая письма. Вот показался уголок марки «Девятый вал». Она зажмурилась, выдернула конверт из кипы, а когда открыла глаза, то увидела на нем знакомую вязь букв, наклоненных влево. Сенькин почерк. Красивый, свободный, но нежелаемый. Марфа равнодушно сунула письмо в карман бумажной кофты, и холодное безразличие нахлынуло на нее. Решительно все равно было ей, что вожжи упали на землю и путались в ногах вороного, что он рассердился и встал, недоуменно оглядываясь, что солнце спускалось к сизому краю горизонта.
Долго бы длилось бездумное оцепенение Марфы, если бы не грузовик с изображением буйвола на крышке мотора. Шофер притормозил возле одноколки, высунул из кабины курносое запыленное лицо:
– Эй, красавица, царство небесное проспишь. Не зевай, когда такие парни проезжают, как я, – и лихо сорвал с кудрей матросский чепчик без лент.
Исчез грузовик, улеглась пыль, но осталось бодрое чувство, которое вызвал водитель-весельчак.
Марфа подобрала вожжи, привязала их за кольцо, прикрепленное к передку одноколки, тронув Аполлона, распечатала письмо.
«Дорогая Марфа! Только сейчас я возвратился из университета. Был на встрече нашего биологического факультета с китайскими писателями. С одним из них – поэтом и редактором молодежного журнала – я разговорился на своем плохом английском языке. Я рассказал ему историю нашего колхоза и о судьбах отдельных колхозников. Вспомнил Алешу, вспомнил тебя. Я даже не утаил от поэта твои недостатки. Например, то, что после смерти Алеши ты замкнулась, заметно утратила интерес к жизни. Прости мою откровенность. Ты же знаешь, я ненавижу подавать предмет только с одной красивой стороны, то есть не подлинно естественным и правдивым. Как ни парадоксально, я считаю, что достоинство человека не только в положительных качествах, но и в его недостатках, разумеется, не крупных. Они делают человека живым, привлекательным, интересным. Наличие или отсутствие их показывает, развивается он или стоит на месте и наслаждается собственным совершенством.
После встречи с китайской делегацией я бродил по Александровскому саду. Цветочные клумбы завяли. Правда, ромашки еще держатся. Удивительно живучи. К основанию кремлевской стены намело всяких листьев: и кленовых, и тополиных, и дубовых. Приятно было ходить здесь и думать о том, что через три месяца, в каникулы, мы встретимся. Я помогу тебе овладеть математикой, и летом ты сдашь на аттестат зрелости. А там пединститут и осуществление Алешиной мечты. Скажешь: «Слова, слова, слова. Ты не учитываешь предстоящего экстерна и последующего пятилетнего заочного обучения». Учитываю, милая Марфа, потому что верю в твои силы.
Из Александровского сада я пошел через Красную площадь в свой угол на Степана Разина. Возле полуоткрытых дверей мавзолея стояли недвижно два солдата. Минуя Спасские ворота, я подумал, что, пожалуй, самая священная память о человеке – это осуществление его высоких замыслов.
Хотел было закругляться да вспомнил фразу, которую сказал мне на прощание китайский поэт. Она о тебе: «Я не верю, чтобы женщина с таким любящим сердцем могла остаться несчастливой». Я тоже не верю. Целуй Лену и Горушку. Сенька».
Марфа прижала к груди прочитанное письмо. Гнетущая мысль, годами зревшая в голове, что жизнь не удалась, показалась Марфе чужой, нелепой и обидной. Нет, рано отчаиваться. Рано зачеркивать себя. В сущности, еще все впереди. Кто знает, может наступит новая весна? Пусть не заменить ей коростелиных ночей, не заглушить прозрачный звон колокола, который выговаривал неповторимо «бон-бон-гон-клинг». Но навсегда поселилось в ее сердце прекрасное чувство, что есть у нее дети и заветные помыслы выучиться и воспитывать людей, подобных Алексею.
Упругий сиверко пел в телефонных проводах. Вдалеке, за лесами и озерами, звал куда-то гудок паровоза. И хотя по вечернему лимонному небу плыли серые тучи, чудилось – не скоро еще начнутся хмурые осенние дожди.
НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Марк Гроссман
ЛИРИКА
НЕМАЛО СЛОВ РЖАВЕЕТ НА ВЕКУ…В ТАКУЮ НОЧЬ НЕ СПАТЬ, А БРЕДИТЬ…
Немало слов ржавеет на веку
Из тех, что подыскал ты для оправы.
И проверяешь временем строку,
Как проверяют кислотою сплавы.
И счастлив ты, когда твоя строка,
Одна строка, как будто долговечна,
Хоть эта радость коротка —
Проверка бесконечна.
ДУБОК
В такую ночь не спать, а бредить,
Марать листы, курить подряд,
Не слыша, как ворчат соседи
И что соседи говорят.
Устать, отчаяться и снова
Писать и черкать вкривь и вкось,
И вдруг понять, что э т о слово,
Что слово нужное нашлось.
И, позабыв и стыд и совесть,
Будить родных и звать к огню,
Узнав в десятый раз, что повесть
Вконец измучила родню.
СКАЗАЛИ МАЛЬЧИКУ В РАЙКОМЕ…
Качается дубок в ненастье,
Его, беснуясь, буря гнет,
А он, прямой и коренастый,
Упрямо к солнышку растет.
Он вытянется к небосводу,
И люди скажут про него:
– Мальчишка выжил в непогоду, —
Ему не страшно ничего.
Сказали мальчику в райкоме:
– Не можем, брат. Не обессудь…
И вот он вновь в отцовском доме,
Лежит и – нету сил уснуть.
В его мешке, в порядке строгом:
Тетрадка, книга, кружка, нож —
Все, что хотел он взять в дорогу
И что теперь уж не возьмешь.
В тетрадке – вырезки и схемы
Уже, выходит, ни к чему, —
Нет, не ему пахать со всеми.
Пшеницу сеять не ему.
Печально дождик бьется в стекла
Глядит малец из-под бровей:
«Земля как следует намокла б,
Для урожая нужно ей…»
…Пускай мальчишке отказали —
Годами вот не вышел он —
Пусть на попутном самосвале
Не он отправился в район,
Не мок в палатке, не печатал
В стенной газете слов: «Дадим!»,
Пусть не о нем грустят девчата,
И нету подвигов за ним, —
Но путь прожитый не напрасен:
Пусть мальчик мал – он сын страны,
Он своего дождется часа,
Своей работы и весны.
Наш путь вперед не прост, но ясен,
И всем нам хватит целины.
Людмила Татьяничева
СТИХИ
В СТЕПИДЕВУШКЕ НЕ СПИТСЯ
Степь как степь.
Ни конца, ни начала.
Мчится «газик», нещадно пыля.
До чего же ты, степь, одичала,
Поросла сединой ковыля!
Обесцветил он краски живые,
Иссушил и цветы и кусты,
Но просторы твои ветровые
Затаенной полны красоты.
Я гляжу,
не могу оторваться,
В твой широкий, как небо, простор.
– Будет трактору, где разгуляться, —
Говорит мне усталый шофер.
Он, как я, на судьбу не в обиде,
Потому что с ребяческих лет
Довелось наяву нам увидеть
Новых дней удивительный свет.
Он из тех, кто своими руками
Возводил, не жалея труда,
Из железа и прочного камня
На уральской земле города.
Не попросят у жизни оторочки
Те, кто сил и дерзаний полны…
Лягут зерен бессмертные строчки
На распаханный пласт целины.
ГУДКИ
Кричит сова – ночная птица.
По-детски плачет козодой.
Все спят в палатке,
лишь не спится
Одной девчонке молодой.
Что за напасть?
Какое горе?
О чем тоскует до утра?
Ночной степи глухое море
Вброд переходят трактора.
Лучами фар осеребренный
Их путь похож на млечный путь.
Быть может, говор их бессонный
Мешает девушке уснуть?
Иль песни отзвук отдаленный,
Иль, может, звезд глубинный свет?
К чему гадать?
И я влюбленной
Была в мои семнадцать лет.
Какое счастье до рассвета
Не спать мечтая,
тосковать,
Еще и в мыслях чувство это
Любовью не посмев назвать!
ТВОЙ ДОМ
Гудки, гудки,
ваш голос зычный,
Будивший в юности меня,
Вошел подробностью привычной
В порядок трудового дня.
Уже на грани пробужденья,
Еще не встретясь с новым днем,
Как скорый поезд отправленья,
Приказа вашего мы ждем.
Когда я слышу на рассвете:
– Готов к труду.
– Готов к труду-у!
Мне громко хочется ответить:
– Уже иду.
– Уже иду!
И я спешу друзьям навстречу,
Навстречу дню больших работ.
В пути едва ли я замечу
Седого вечера приход.
Но грянет час – его предвижу,
Когда средь близких голосов,
Быть может, далее не услышу
Ваш удаляющийся зов.
А мир труда, широк и светел,
Услышит ваш призыв к труду,
И за меня мой сын ответит
Всей силой юности:
– Иду!
Ты часто говоришь:
– Мой дом.
А так ли это, друг?
Ты создавал его трудом
Своих горячих рук?
Когда в родном твоем краю
Кипел смертельный бой,
Спасал ты Родину свою,
Прикрыв свой дом собой?
Готов ли все ты перенесть,
Чтоб в доме счастью быть?
Весьма сомнительная честь
На всем готовом жить!
Елена Цугулиева
ХОРОШИЕ ЛЮДИ
(Рассказ)
В палате № 12 стоит семь коек. Крайнюю слева занимает Анна Андреевна, полная брюнетка лет тридцати пяти. Рядом с ней лежит молоденькая большеглазая девушка, Валя, болевшая плевритом. Два места занимают старухи – бабушка Мосина с пневмонией, и бабушка Сильченкова с инфарктом. Направо от двери лежат Мотя, недавно перенесшая операцию желчного пузыря, – лицо ее еще сохраняет неестественный лимонно-желтый оттенок, – и Марья Тарасовна, пожилая женщина, худая и высокая. По ее чуть выкаченным глазам можно угадать и недуг, приведший ее сюда, – базедову болезнь, или как ее тут коротко называют – базедку. Последняя, седьмая кровать у окна пустует.
Тяжело больных в палате нет. Одной только бабушке Сильченковой врачи еще не разрешают вставать. Остальные все выздоравливают и поэтому сейчас палата скорее напоминает комнату в доме отдыха или обычное женское общежитие, где старостой неофициально считается Марья Тарасовна, особа строгая и решительная. В депо, где она работает кастеляншей, ее уважают и постоянно выбирают в партбюро. Она любит дисциплину и точность, и здесь добровольно взяла на себя обязанность следить за порядком.
Женщины лежат тут уже давно и за это время успели сдружиться. Нередко на их оживленные беседы заглядывает палатная сестра и, улыбаясь, просит:
– Вы бы, девушки, потише. По всему коридору слышно.
И «девушки» послушно смолкают.
А поговорить есть о чем. Здесь, в больнице, жизнь идет своим чередом. Каждый день происходят интересные события. То пробежит мимо и заглянет в дверь больной из соседней мужской палаты, «кузнечик», как его окрестили за худобу и зеленую пижаму. И тогда все дружно начинают поддразнивать Валю, ради которой «кузнечик» якобы так часто пробегает мимо их палаты. То придут соседки из хирургического отделения и расскажут об особенно сложной и удачной операции. Или сестра сообщит, что привезли нового больного с каким-нибудь мудреным недугом. Или, наоборот, выписывается кто-нибудь из «старожилов» и придет попрощаться.
Часто устраиваются громкие читки. Марья Тарасовна обычно читает свежие газеты, а Анна Андреевна – что-нибудь из художественной литературы. Все это вызывает в палате оживленный обмен мнениями.
* * *
К вечеру в палату привезли еще одну больную. Ее положили на последнюю пустовавшую койку у окна, рядом с Марьей Тарасовной. Новая больная лежала молча, повернувшись к окну и прикрыв лицо косынкой. Ей принесли ужин – он остывал, нетронутый, на тумбочке.
Так же неподвижно лежала она и утром, безучастная ко всему. Молча пила лекарство, покорно мерила температуру. Но до завтрака не дотронулась. Марья Тарасовна сообщила об этом «непорядке» сестре.
– Семочкина, – мягко сказала сестра. – Почему вы не едите? Вам не нравится – так скажите, принесут что-нибудь другое. А не кушать нельзя…
Больная открыла свое лицо, молодое, простенькое, с заметными коричневыми веснушками. Она кашлянула, хотела что-то сказать. Но, видимо, раздумала и взяла ложку. Немного поев, снова отодвинула тарелку и отвернулась к окну.
Все шло своим порядком. Новую больную увезли: делать электрокардиограмму. Вернувшись, женщина легла лицом к стене. Мотя и две бабушки дремали. Валя ушла «в гости», в соседнюю палату. Марья Тарасовна раздобыла свежий номер «Правды» и углубилась в газету. Изредка она поглядывала на соседнюю койку. Вдруг старой женщине показалось, что плечи соседки вздрагивают. «Плачет», – решила Марья Тарасовна и бесцеремонно сдернула косынку, которой та прикрывалась. Она увидела смуглое лицо, залитое слезами.
– Ты чего? – шепотом спросила Марья Тарасовна. – Больно?
Та отрицательно покачала головой.
– Нет? А плачешь чего?
– Детишки… одни остались. Вот чего, – тихо ответила женщина и снова уткнулась в подушку. Марья Тарасовна почувствовала знакомый прилив энергии и настойчивости, как всегда, когда видела, что нужны ее помощь и вмешательство.
– Ты перестань слезы проливать, а лучше расскажи толком, – приказала она и, сунув под нос соседке кружку с водой, строго повторила: – Ну, говори. Да только не плачь, температура поднимется.
– Девочки две, – доверчиво глядя на нее, сказала Семочкина. – Валюшка старшая, шесть лет, а Наташке два годика всего.
Из ее рассказа Марья Тарасовна узнала, что Семочкина работает на дальней станции грузчицей, приехала туда недавно с двумя детьми, мужа нету (Марья Тарасовна покачала головой), там на станции внезапно заболела и ее прямо с работы привезли сюда. Дети остались одни, без присмотра.
– Ну, и ничего страшного, – сказала Марья Тарасовна. – В воскресенье кто-нибудь к тебе приедет, поручишь приглядеть за ними. Не пропадут твои дети. Не в Америке.
Но Семочкина уныло покачала головой:
– Кто ко мне придет! Я еще и двух недель там не работаю, только-только на Урал приехала, не сдружилась еще ни с кем. А у квартирной хозяйки и своих забот хватает. Да к тому же расходы на дорогу.
Анна Андреевна, прислушиваясь к их разговору, сказала:
– Надо позвонить на ее место работы, или телеграмму послать.
– Правильно, Нюся, отобьем телеграмму секретарю парторганизации, – подхватила Марья Тарасовна. – Сестру попросим, она пошлет.
– Придумали тоже, – заворчала, проснувшись, бабушка Сильченкова. – Телеграмму еще посылать. Получат там бюрократы – и в стол ее!
– Да что вы, бабушка! – рассердилась обычно спокойная Анна Андреевна. – Почему обязательно бюрократы? Вечно, вы…
– Или телеграмма не дойдет, – упрямо продолжала бабушка. – Потеряет почтальон – вот денежки и пропали.
Но ее уже никто не слушал. Коллективно написали телеграмму, а самая молоденькая из нянечек, припрыгивая, понесла ее на телеграф.
* * *
После обеда все нашли себе занятия. Мотя принялась вязать кружева. Анна Андреевна собиралась в библиотеку и поэтому усиленно занялась туалетом. Она считала, что женщина, где бы она ни была, всегда обязана быть чистенькой и аккуратной. И Анна Андреевна тщательно следила за своей внешностью. Она сооружала изящные прически, делала маникюр. Даже синий больничный халат, в котором все выглядели неуклюжими, на ней сидел как-то особенно ладно и ловко. Из-за отворотов выглядывал белоснежный воротничок нижней рубашки. Тапочки она подобрала по ноге, и они у нее не шлепали, как у других.
– Ты бы попудрилась, что ли, – подмигнув, сказала Марья Тарасовна, внимательно следившая за ее приготовлениями.
– Неудобно, – с сожалением ответила Анна Андреевна, выбирая изо рта шпильки и закалывая косу. – Больница все-таки… Надо во всем меру знать. Вот выпишусь, тогда…
И она, еще раз глянув в зеркальце, выплыла из палаты, вполне довольная собой.
– Газетку там попроси! – крикнула вдогонку Марья Тарасовна.
Две бабушки принялись за свое обычное занятие – стали ссориться, а Марья Тарасовна с неодобрительным выражением на лице слушала их препирательства, выжидая удобного момента, чтобы вмешаться.
Старушки были не похожи друг на друга ни внешностью, ни характером. Бабушка Сильченкова – коротенькая, толстенькая, благообразная. Она любит покушать и посплетничать о своих невестках, пожаловаться на соседок по квартире. Бабушка Мосина – высокая, костлявая, с красным носом и огромными клешневатыми руками, загрубевшими от щелока и холодной воды. В больницу она попала впервые, ей здесь нравится все: и внимательный уход, и хорошая, вкусная пища. Она старается поскорее поправиться и свято выполняет все указания врачей и сестер.
Ссора начиналась обычно с того, что бабушка Сильченкова, поев, крестила рот и приговаривала:
– Вот и бог напитал, никто не видал.
– Как же, – ухмыляясь, говорила бабушка Мосина. – Напитает бог, держи карман шире. Повар сготовил, а нянечка принесла. Без бога обошлись.
Бабушка Сильченкова делала вид, что не слышит кощунственных слов, и продолжала:
– Что-то мне сегодня, вроде как хуже стало. Теснение в груди какое-то. И не продыхну.
– Это ты переела, – разоблачала ее соседка. – Будет теснение, когда одной сметаны цельную банку да крутых яиц штуки три зараз. Утро только занялось, а ты уже вон что опростала.
– …хоть бы господь взял меня к себе, что ли, – заканчивала бабушка Сильченкова.
А другая немедленно подавала реплику:
– Возьмет тебя господь, дожидайся. Зароют в землю и сопреешь там.
Тут вмешивалась Марья Тарасовна, и спор прекращался.
Но на этот раз бабушка Сильченкова была, что называется, «в настроении». Прекратив дискуссию с соседкой, она быстро нашла другую тему для разговора.
– Бедные детки! – заныла она, глядя в сторону седьмой койки. – Остались сиротами, без отца, без матери. Может, сидят голодные, холодные, птенчики божьи…
В ответ послышались приглушенные рыдания.
Марья Тарасовна не выдержала:
– Вы, бабушка, – каждой дыре – гвоздь, – сердито сказала она. – Ну, чего вы причитаете: «сиротки, несчастные»? Не бойтесь, не помрут с голода. Вот характер у вас плохой, потому и не поправляетесь.
– Молода еще меня учить, – сварливо отвечала бабушка, хотя Марье Тарасовне было давно за пятьдесят. – Знаю я, как это заботятся о чужих детях. У всех своих забот полно… Послали телеграмму, – не могла она успокоиться, – брошенные деньги. Так вам и побежали чужих детей искать. Больно нужно им…
…Была суббота – день особенно оживленный. В воскресенье обычно приходили посетители – родные, друзья, знакомые. А в субботу готовились к приему, купали и переодевали больных, меняли постельное белье. Пришли веселые полотеры с ведрами и щетками. Руки и босые ноги у них была оранжевые от краски. Нянечки и уборщицы бегали, как угорелые, со швабрами и тряпками.
Сегодня сестра-хозяйка обновляла покупку: недавно приобретенный пылесос. Она собственноручно чистила дорожки в коридоре. Пылесос ползал по дорожкам, как огромный, коричневый жук, и непрерывно гудел, что крайне возмущало Анну Андреевну.
– Теперь покоя не жди с этим… телескопом, – брюзжала она. – Каждый день будет тут над ухом жужжать – не уснешь!
* * *
Воскресное утро обрадовало больных ярким солнцем, безоблачным небом, свежей зеленью за окном после ночного дождя. По такой погоде гости должны придти ко всем обязательно. Настроение было приподнятое, праздничное.
Раньше всех гости пришли к Марье Тарасовне. Племянница принесла полную кошелку всякой всячины и привет от мужа, который дежурил и придти не мог. Марья Тарасовна, обстоятельно расспросив обо всем, надела очки и писала домой серьезное письмо, которое кончалось словами: «А ты, Леша, будь самостоятельным и от гулянок воздержись». Супруг Марьи Тарасовны иногда любил выпить, и она держала его под неослабным контролем.
К Анне Андреевне пришел муж, принес фрукты, конфеты, духи и букет ландышей. Он сидел рядом с женой и оживленно рассказывал ей, что делается в проектном бюро, где она работала, как ее ждут, и что ее портрет пока еще висит на Доске почета. Анна Андреевна слушала его с блестящими глазами, ахала и сыпала вопросами.
К Вале пришел старший брат – слесарь вагоноремонтного завода, очень молодой и очень гордый, в отлично сшитом костюме и с орденом «Знак почета» в петлице.
Бабушку Сильченкову навестили две дочери, краснощекие, плотные, коренастые. Мать их за что-то вполголоса бранила, а они слушали и виновато молчали.
Нянечка принесла бабушке Мосиной «передачу» – огромный сверток и письмо. Подруги по работе писали ей, что соскучились и посылают «гостинцев для доброго здоровья». Валя читала письмо, а бабушка сидела, подперев щеку рукой, и вдруг неожиданно заплакала, хлюпая красным носом.
– Они там работают сейчас, – басовито гудела бабушка, – к Маю готовятся, а я вот тут лежу. – Слезы капали на пачку печенья «Привет», и она вытирала их уголком одеяла. Бабушка Мосина любила свою работу, свое дело, свой коллектив, и как ей ни нравилось в больнице, она сильно скучала «по дому».
– Семочкина! – крикнула сестра из соседнего отделения.
– У вас Семочкина лежит? К ней пришли.
– Это, наверное, не ко мне, – забеспокоилась Семочкина. – Может, другая какая Семочкина? Ко мне некому придти…
Но именно к ней торопливо шел, пробираясь между кроватями, низенький сухой старичок. Он издали приветливо кивал ей и делал рукой знаки, чтобы она не вставала.
– Лежи, лежи, Клаша, – приговаривал он. – Ну, как здоровье? Что доктора говорят? Когда выпишут?
Он присел на круглый табурет, услужливо пододвинутый кем-то. Клавдия глядела на него во все глаза. Она только теперь узнала старика. Это был председатель месткома «дедушка Потапов», как его называли на станции. Он вечно куда-то торопился, с кем-то спорил, кого-то уговаривал, всюду был нужен и всюду умудрялся поспевать во-время.
И Клавдия со стыдом подумала, что сегодня дедушка Потапов, вместо того, чтобы отдохнуть от своей трудной и хлопотливой работы, пожертвовал выходным днем и приехал в больницу за несколько десятков километров. А тот, не подозревая о ее мыслях, весело рассказывал всякие новости, развертывал свертки и пакеты.
– Это тебе от месткома. Масло, печенье, лимончик, варенье клюквенное… Кисленькое оно, приятное. А это, – он вытащил насквозь промокший кулек, – твои подружки с товарного двора, Ольга и Варвара, печеных яблочков прислали. Шлют привет и велят поскорее поправляться.
У Клавдии задрожали губы.
– Дедушка Потапов, как же они обо мне вспомнили? Ведь я их и не знаю почти.
Старик строго посмотрел на нее через очки и ничего не ответил.
Она виновато покраснела.
– Дедушка, – сказала она робко, перебирая свертки. – Напрасно вы беспокоились, тратились. Мне ничего не надо.. Вот только я хотела вас спросить: не узнаете ли вы, как там мои дочки. Я вам адрес сейчас напишу.
– Фу ты! – сердито сказал Потапов. – Прах ее бери, память какая стала. Ты, Клавдия, адрес мне не давай, я его и сам знаю. А дочки твои благополучны, устроены как нельзя лучше. Старшую мы отправили в детский санаторий на все лето, а меньшую – в круглосуточные ясли. И не сомневайся, живы, здоровы. Вот сама поправляйся скорее.
– А быстро как вы управились, – заметила Марья Тарасовна. – Мы ведь только вчера вечером телеграмму вам отбили.
– Какую телеграмму? – удивился Потапов. – Разве что случилось? Никакой телеграммы я не видел.
– Да как же, – настаивала Марья Тарасовна, – вашему партийному секретарю послали телеграмму насчет ее детей.
– Не видал такой телеграммы, – повторил Потапов. – Может, секретарь и получил. А зачем было посылать? Мы и без телеграммы соображаем. Детей это он устроил, а мне вот поручил поехать, навестить, спросить, не надо ли чего?
– Бросили все, – шепнула Клавдия. – Из-за меня без выходного остались.
– Эка! – сказал Потапов. – Не я – так другой поехал бы.
Он засмеялся, и по всему лицу его разбежались веселые, добрые лучики.
…Когда гости ушли, Клавдия встала, накинула халат и подошла к Марье Тарасовне.
– Тетя Маша, угощайтесь, пожалуйста, – сказала она, протягивая мокрый кулек. – Возьмите яблочко.
Марья Тарасовна молча посмотрела на нее поверх очков и взяла яблоко.
Клавдия обошла с кульком всех соседок, и никто не отказался. Выбросив пустой кулек, она облегченно вздохнула и улеглась в постель.
Густели за окном темноголубые сумерки, а свет зажигать не хотелось. Так и лежали в полутьме, перебирая в памяти впечатления прошедшего дня. Слабо пахли ландыши на тумбочке Анны Андреевны.
Марья Тарасовна смотрела в окно. Она видела, как одна за другой в небе загорались крупные, свежие звезды, видела верхушки деревьев, ставшие угольно-черными. Косынка ее сбилась набок, строгость с лица исчезла, и оно стало добрым, умиротворенным и даже как будто помолодело.
«Славный старичок, – думала она о дедушке Потапове. – Правильный. Не нужно было телеграмму посылать… Хотя нет, – мысленно поправилась она, – нужно было. Пусть знают, что и в больнице есть, кому позаботиться. Да и Клавдия успокоилась, а то плакала бы всю ночь». Она добродушно покосилась на соседнюю кровать. «Ишь, уснула, перестала рюмить».
А Клавдии в полусне мерещился дедушка Потапов. Сквозь дрему она слышала, как он журил ее за то, что она не написала заметку в стенную газету, а она, смеясь, уговаривала его не сердиться: «Напишу я, напишу». Потом пришли Ольга и Варвара обе плечистые, загорелые, веселые. Засмеялись и превратились в дочек – Валюшку и Наташу. Они гладили ей голову своими ручками. Ручки были маленькие и ловкие. Клавдии стало очень весело, очень хорошо и спокойно на душе, и, умиротворенная, она заснула крепким и глубоким сном.








