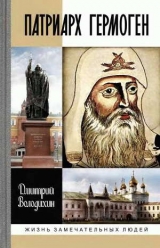
Текст книги "Патриарх Гермоген"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Как всё красиво выглядит: за веру собираются стоять! Царь «по челобитью» с престола сошел! Против воров вся масса людская согласилась «быть в соединенье»! Но имя и сан патриарха отсутствуют. Не признал Гермоген пользы и правды совершившегося. Не благословил, не одобрил. Не покрыл приветливым словом мерзость измены.
И хорошо.
Остался у народа столп истины.
Глава четвертая.
МОСКВА: МЕЖДУЦАРСТВИЕ
С августа 1610 года начинается самый тяжелый и одновременно самый значимый для русской истории период в жизни святителя Гермогена. События пойдут вскачь, одно тягостнее другого, вера и воля патриарха подвергнутся испытаниям, каких он не знал за всю свою долгую жизнь. Личность его окажется под ударом холодной хищной стихии – как утес, выдающийся далеко в море, оказывается под натиском неистовых волн в штормовую погоду. Тело седобородого старика изнеможет, но дух выдержит. И прежде чем разговор о Гермогене продолжится, следует всмотреться в судьбу его и характер, какими предстали они взорам современников.
Развернутое суждение о личности Гермогена содержится в так называемом Хронографе 1617 года – памятнике, где известия по русской истории соединены со сведениями по истории всемирной, а события Смуты представлены с исключительной подробностью. Хронограф получил широкую популярность, он известен во множестве копий. Вот место в нем, где говорится о нраве и поступках Гермогена: «В первый год царствования Василия царя возведен был на престол патриаршеский великой церкви Гермоген, бывший прежде казанским митрополитом. Был он образованным мужем и красноречивым, но не сладкогласным. В божественных словах постоянно упражнялся, и все книги Ветхого закона, и Новой благодати, и уставы церковные, и законоположения постиг в совершенстве. А характер имел тяжелый и не спешил прощать наказанных[45]45
В оригинале: «А нравом груб и к бывающим в запрещениях косен к разрешениям».
[Закрыть]. Дурных людей от хороших быстро не мог отличить, а к льстецам, а более того – к людям хитрым, прислушивался и доверял сплетням[46]46
В оригинале: «Слуховерствователен бысть».
[Закрыть]. Об этом некто сказал: “Из всех живущих на земле склонен к греху ум человеческий и от обычаев добрых к злым совращается”. Так вот и этот совращен был некими мужами, подобными змиям, которые шьют клевету, козни сплетают и любовь обращают в ненависть. Так и Василия царя зло оклеветали мятежники словами лживыми, а он поверил всему, сказанному ими. И поэтому с царем Василием всегда говорил грубо[47]47
В оригинале: «Строптивно».
[Закрыть], а не благожелательно, ибо в душе носил огонь ненависти, зажженный наветами, и о коварстве супостатов никогда с отеческой любовью[48]48
В оригинале: «Отчелюбно».
[Закрыть] не совещался с царем, как тому быть подобало. Мятежники же сначала в удобный час царский венец попрали, а потом и святительскую красоту, надругавшись жестоко, обесчестили… Когда же после царя Василия оказалась Москва во вражеских руках, тогда хотел он предстать непоколебимым заступником народа[49]49
В оригинале: «По народе пастыря непреоборима показати себе хотя».
[Закрыть], но уже минуло время и час прошел, словно приняли идущего за стоящего, и во время лютой зимы вздумал зацвести миндаль. Тогда хоть и ярился он на клятвопреступных мятежников и обличал их борьбу с христианами, но схвачен был немилосердными руками и, словно птицу в сетях, голодом его уморили, и так умер он»{191}.
Любопытно, что иная редакция Хронографа содержит опровержение худых словес о патриархе, притом не менее подробное, не менее основательное. Там столь критическая оценка Гермогена названа хулой и приписана перу мятежному. В ней, по словам отвечающего на «хулу», истины нет.
Обличитель по пунктам раскрывает суть лжи, преследовавшей патриарха.
Что касается обвинения о «несладкогласности» Гермогена, ответ таков: «Мудрость словесная и хитрое речеточество от Бога дается ко сказанию на пользу; и се есть сладость разума слышащим. А глас красный или светлоорганный шумящ – от Бога же и се дарование есть, и сим украшается Церковь Божиа в пениях и во чтениях. А Духа Божиа дар кождо действует дело во свое подобное время, а не всем дается от Бога и мудрость, и глас»{192}.
Замечание о «грубости нрава» отвергается безо всякой полемики: «писавый о нем сам глуп»{193}.
Далее следует ответ на укоризны в тяжелом нраве, нежелании проявить милосердие и неумении вести «благолепные» беседы с царем Василием Ивановичем. Обличитель напоминает: когда патриаршествовал Гермоген, стояло «время злое», и если бы Господь не дал Церкви такого светильника, как он, то многие бы «во тьме еретичества люторского и латынского заблудили». Россия погрузилась в пучину бед, умылась слезами. «И если все овцы стада Христова в расхищении были, то пастырю самому где мир, где любовь, где союз показати к кому? Всегда о всех плач, о всех рыдание! И какую бы любовь показывати к преступником заповедей Божиих, понеже на государя царя мнози тогда злая строяще и лестию от правды отводящее и к непреподобныя пути низводящее?! Он же не со царем враждовашеся, но с неподобными советники его, о них же зде мало явим». Далее перечисляются эпизоды, в которых царя увлекали к гибельным поступкам советы «прелестников», то есть вельмож, льстивших царю и обманывавших его. Не послушавшись пастыря, государь Василий Иванович горько жалел впоследствии, «возрыда и восплакася». А Гермоген «непрестанно утешаше его». Иными словами, раздоры между монархом и главой Церкви сильно преувеличены.
Да и тяжесть патриаршего характера, по словам обличителя, диктовалась не природной злобой, но лишь необходимостью наводить порядок в условиях смуты, всеобщего мятежа и хаоса. Особенно доставалось от него «крамольникам от священного чина с мирскими прельстившимися». Их Гермоген смирял, руководствуясь апостольскими правилами, «понеже тогда возбесишася многие церковники, не токмо мирстии людие, четцы и певцы, но и священники, и дияконы, и иноки многие крови христианския проливающее и чин священства с себе свергше, радовахуся всякому злодейству». Смотря по тяжести злодеяния, Гермоген наказывал одних епитимьями, требовавшими многих молений, других запретом в служении, а тех, кто проливал кровь и не желал в том покаяться, – проклинал. Но если кто-то приносил покаяние искренне и честно, то встречал от патриарха любезный прием и даже заступничество перед светскими властями. Еще надо удивляться, замечает автор обличения, сколько терпения и милости находил Гермоген, общаясь со злодеями! Как кроток и как неответен на чужую хулу! Да, патриарх был «прикрут в словах и в воззрениях, но в делах и в милостях ко всем единый нрав благосерд имея, питал всех на трапезе своей часто – и доброхотов, и злодеев своих, добре изобилуя пищею и питием и неоскудно. И подаваше многу милостыню и нищим, и ратным людем… И до толике творяше милостыню, яко и сам в последнюю нищету прииде»{194}.
Так два голоса современников противоречат один другому. В том, что Гермоген был «книжным человеком», обладавшим «словесной мудростью», сходятся оба. Неудивительно: список дел, совершенных святителем на ниве духовного просвещения, лучше любых похвал от современников свидетельствует в его пользу.. В остальном они решительно расходятся.
Определяя, кто ближе к истине, надо внимательно перебрать доводы обеих сторон один за другим. Автором первого, критического в отношении Гермогена текста называли разных лиц, в том числе протопопа Терентия, находившегося под запрещением, вероятно, от Гермогена, – за особое расположение к первому Самозванцу{195}. Но, во-первых, нет прочных оснований, чтобы остановиться на одной из кандидатур, в том числе и на Терентии, озлобленном против патриарха. Одни домыслы. Во-вторых, пусть даже автор и затаил гнев на Гермогена, обязательно ли дурное расположение духа делает человека лжецом? Иной раз он высказывает под действием ярости вещи, каковые постеснялся бы сообщить, если бы оставался спокоен, но в них-то и содержится правда.
Понять, кто из двоих прав, а кто нет, можно лишь сопоставляя два известия между собой и с другими источниками.
С.Ф. Платонов осторожно высказал доверие к первому тексту: «Трудно, разумеется, проверить эту характеристику. Высокий подвиг патриарха, запечатленный его мученичеством за народное дело, закрыл от глаз потомства всю предшествующую деятельность Гермогена и поставил его на высокий пьедестал, с которого стали незаметны действительные черты его личности. Но историк должен сознаться, что тонкая характеристика писателя-современника, звучащая сочувственным сожалением о судьбе Гермогена, не может быть опровергнута другими данными о патриархе»{196}.
Итак, «несладкогласие» Гермогена, очевидно, стоит принять на веру, поскольку и второй, добрый к нему рассказчик, нехотя признает его. Как видно, святитель являлся умным и опытным оратором, но меда и елея голос патриарха не содержал. О каком недостатке может идти речь? Слишком тонкий голосок? Слишком визгливый? Слишком хриплый? Заикание? Неудобная тихость? А бог весть.
П.Б. Васенко высказал гипотезу о необычном «произношении» Гермогена: «Патриарх был начетчиком в духовной литературе и обладал большим даром слова. Лишь внешние недостатки произношения мешали ему стать первоклассным оратором»{197}. Что ж, возможно говор провинциала звучал необычно и даже неприятно для московского духовенства, привычного к утонченному пению, речам «книжных мужей» и… родному «аканью».
Можно остановиться на двух версиях, наиболее правдоподобных с точки зрения здравого смысла.
Прежде всего, Гермоген, дожив до патриаршества, пребывал в возрасте дряхлости. А дряхлость способна добавить в голос дребезжание, шамканье, что угодно, только не благозвучие.
Кроме того, патриарх, казаковавший по молодости лет, мог посадить связки от сырости, мороза, сильного ветра и прочих «прелестей», сопровождающих военный быт казачества. Голос его мог стать хриплым и грубым. От этого, кстати, могло происходить впечатление о грубости его нрава.
На этой самой «грубости» следует остановиться подробнее.
К началу Смуты Русская церковь пережила почти 20 лет духовного правления Иова – человека весьма кроткого, к тому же дружественного Годуновым. Иов не пререкался с властью, предпочитая самые спокойные отношения. Было тут благо: симфония меж Церковью и государством процветала при нем. Но… у всякого земного блага есть оборотная сторона. Церковь слишком уж приучилась «нести шлейф» правителя. Она уже и не знала, как сказать ему слово поперек. Явился суровый Лжедмитрий, и мало кто из архиереев осмелился выступить против него.
Из русского языка ушло меткое слово «ласкательство», бывшее в ходу очень долго, не исключая и старомосковскую эпоху. По значению своему оно примерно равно современному, несравненно более грубому слову «подхалимаж». С тем лишь отличием, что подхалим ищет прямых выгод для себя, а ласкатель просто не умеет обходиться без угодничества, такова его манера, таков его обычай. Наша старина всегда придавала понятию «ласкательство» дурной оттенок: оно исключало прямоту и предполагало неполную честность в поведении того, кто принимал роль угодничающего. Так вот, кажется, ласкательство за два десятилетия слишком уж вошло в плоть и кровь нашей Церкви, поставив ее на грань бесхребетности.
Возможно, дело в том, что Иов, до того, как он сделался главой Церкви, прошел долгую школу, возглавляя столичные монастыри. Он очень долго жил рядом с царским двором при Иване Грозном. Видел казни духовных лиц, посеченных царем во множестве. Привык чуять грозу над собой. А возможно, мягкость и незлобивость его характера имели природный источник. Но приняв их как стиль, подражая Иову, духовенство московское не всегда принимало и внутреннюю чистоту Иова как духовный образец для себя. Сам-то Иов при Самозванце не солгал, не покорился неведомому злодею, остался чист; да кто держался крепко своего патриарха?
До Иова на Московской кафедре бывали несгибаемые «провинциалы», не боявшиеся обличить за тяжкий грех хоть самого царя. Святой Филипп, у которого за спиной стояла иная школа иночества – соловецкая, непостижимо тяжкая; «премудрый грамматик» Дионисий, проходивший древнюю хутынскую школу. Эти вели себя смело, прямо, а потом платили за свои слова дорого. Филипп – жизнью, Дионисий – саном и свободой.
Из Казани явился новый «провинциал». Он хоть с юных лет и не вбирал душою монашескую науку, зато при каких обстоятельствах служил! Бывший казак, белец на земле, сто раз умытой кровью, гневной к кресту Христову, неласковой к слугам его! Где ему навыкать обходительным манерам? В храме на торгу? В скитаниях казачьих? В бедных монастырьках на краю русской ойкумены? Он там учился решительности, твердости, умению смотреть гибели своей в самые очи, но дела не бросать. С тем и пришел на Патриарший двор. К тому времени поздновато ему было менять нрав – стоя одной ногой в гробу. Конечно, легко оказалось Гермогену прослыть среди московского духовенства сущим грубияном! Как же, говорит государю то, что думает и прямо теми самыми словами! Да еще этим своим казачьим голосом! Ну, невидаль… никакого ласкательства. Долго ли протянет на кафедре?
Шептали ему в уши дурное о государе Василии Ивановиче? Наверное. Впрочем, и без шептунов Гермоген знал о царе много скверного.
Стоит напомнить: тот был когда-то главной следственной комиссии по делу почившего в Бозе царевича Дмитрия. Именно он вынес тогда заключение о «несчастном случае». При Самозванце пытался было обличать – какой же тот Дмитрий Иванович, если окровавленное тело мальчика, ушедшего из жизни полтора десятилетия назад, давно легло в гроб! Василий Иванович много времени провел тогда в Угличе, видел труп царевича, знал правду. Лжедмитрий I за эту правду хотел казнить его, на плаху привел, но потом отпустил, заставив отречься от обличительных слов. Взойдя на престол, Василий Шуйский заговорил иначе – так, как говорят люди, не опасающиеся за свою жизнь и жизни родичей. Во всеуслышание прозвучала официальная версия: царевич пострадал от убийц, посланных Годуновыми.
Вот она и правда об углицком деле.
Эта правда легла в основу канонизации невинноубиенного царевича Димитрия Иоанновича.
Лжив царь Василий Шуйский? Да. Знал об этом патриарх Гермоген? Да. Об этом уже говорилось выше, остается лишь повторить сказанное.
Точно также, как знал святитель об испорченности человеческой натуры, искаженной, загрязненной в мире, где между праведностью и грехом всегда можно выбрать грех. Точно так же, как знал он и о том, что нет безгрешных людей власти… и о том, что каждая душа, пусть даже она страшно искалечена грехом, все-таки может быть спасена.
Царь Василий Иванович был для патриарха одной из овечек в «стадце словесном» – пастве. Пусть очень сильной, очень могущественной, но всё же овечкой. В делах государственных патриарх обязан был покоряться, но отнюдь не в нравственных. Как пастырь, Гермоген мог в этой овечке распрямлять искривленное, чистить запачканное, а также давать духовный совет в делах великой важности.
Он этим и занимался. Спорил с царем, когда считал, что тот совершает роковые ошибки, – как, например, в случае со Лжедмитрием II, коему поздновато начали всерьез давать отпор. Обличал желание государя поскорее возлечь на брачном ложе с юной красавицей, забыв о мятежах, сотрясающих державу, – как понимал череду обстоятельств сам Гермоген. Эти поступки святителя ясно отражены в других источниках.
По ним видно: у патриарха нашлись предлоги для острых разговоров с царем безо всяких «шептунов»! Активность патриарха вряд ли понравилась вельможам: они-то ведь успели привыкнуть к великой кротости Иова, а за нею – к чрезмерной уступчивости Игнатия. Суровость Гермогена оказалась для знати большой неожиданностью. Вот и ось конфликта между главой Церкви и «прелестниками» вокруг трона, о коих сообщает второй текст.
Автор пассажа в Хронографе, наполненного раздражением против Гермогена, намекает на вину святителя в падении Василия Ивановича. Не прямо объявляет о ней, а именно намекает, впрочем, довольно прозрачно: «С царем Василием [Гермоген] всегда говорил грубо, а не благожелательно, ибо в душе носил огонь ненависти, зажженный наветами, и о коварстве супостатов никогда с отеческой любовью не совещался с царем, как тому быть подобало. Мятежники же сначала в удобный час царский венец попрали, а потом и святительскую красоту, надругавшись жестоко, обесчестили…» В сущности, речь идет о том, что патриарх, ведя недружелюбные речи с царем, подрывал власть последнего; а был бы помягче, авось и «мятежникам» тяжелее пришлось бы, когда они явились свергать монарха.
Тут видно ложное толкование роли Гермогена в судьбе Василия Шуйского. Трудно сказать, явилось ли оно плодом осознанного старания или представляет собой плод слабой информированности. Но итог один: суть отношений между царем и первоиерархом передана искаженно.
Выше цитировались грамоты Гермогена с воззваниями в пользу царя и против его врагов. Когда народ принимался бунтовать в самой столице, патриарх – худо ли, хорошо ли он лично относился к государю – принародно всегда становился на его сторону. Так происходило до последней крайности, до того дня, когда Шуйский безнадежно пал и заговорщики попытались сделать его монахом. И тут ведь Гермоген вмешался, запретив считать царя иноком. Каждый шаг патриарха, многое множество раз поддерживавшего Василия Ивановича, прочитывается по летописям и документам того времени. Тут нет никаких сомнений.
Все годы царствования Василия Шуйского Гермоген являлся самой надежной его опорой.
Остается констатировать: в этом пункте хулитель Гермогена либо жестоко ошибается, либо возводит напраслину на святителя.
Следующий пункт – тяжелый характер Гермогена: немилосердие, нежелание прощать, неумение отличить дурных людей от хороших, склонность прислушиваться к сплетням, доверять лукавым советчикам…
Опустим вопрос о том, до какой степени подобная оценка субъективна. Забудем на минуту о том, что второй, сочувствующий святителю автор нарисовал принципиально другую картину, чуть ли не прямо противоположную.
Поищем независимых свидетельств, подтверждающих или же опровергающих это мнение.
К 22 декабря 1606 года относится грамота патриарха митрополиту Казанскому и Свияжскому Ефрему. Суть дела вкратце такова: царю Василию Ивановичу подали челобитную свияжские дворяне, стрельцы, купцы и «черные люди» – жаловались, что тех, кто прельстился посулами болотниковцев и целовал крест «царевичу Дмитрею Углецкому», Ефрем «велел их отцем духовным запрещати и приношения к церквам Божьим у них имати не велел». Иными словами, Ефрем проявил строгость к своей пастве, наставлял ее не изменять законному государю, вразумлял доступными средствами. Позднее свияжские жители повинились, царь и патриарх простили их. Об этом Гермоген говорит прямо, однозначно: «И великий государь… по своему царскому милосердому обычаю и по нашему прошению их пожаловал, вины их отдал; да и мы их також соборне простили и разрешили». Теперь же Гермоген говорит митрополиту Казанскому: «Тебя же, со всем освященным собором, яко доблественного пастыря… благословляем… и похваляем за усердие твое, то не попутаешь словесному стаду паствы твоея путем погибели идти…» То есть одобряет за твердость, проявленную в мерах вразумления. Но затем велит свияжан «простить и разрешить» и «приношения» принимать от них «по прежнему». Далее он пишет: «Да и в Казани бы еси оберегал от той Смуты накрепко, чтобы люди Божий не погибали душою и телом, да смотрил бы еси и над попы накрепко, чтоб в них воровства не было; а больше всех смотри над Софейским, да над Покровским, да над Ирининским; только оне не переменят своих обычаев, и им в попех не быти»{198}. Как видно, недавно оставив Казанскую кафедру, Гермоген все еще помнил, от кого из священников можно ожидать лиха, а кто смирен и к шатости не склонен.
Что видно из патриаршей грамоты? Безоглядную суровость? Несклонность прощать? Вовсе нет. Гермоген – сторонник справедливых решений. Не слишком жестких и не слишком мягких, а именно справедливых. Если человек коснеет в грехе, его следует наказать – простой ли он мирянин, священник ли, монах ли – всё равно. Но если он покаялся и «переменил свой обычай», то и наказание с него следует снять.
А вот и другой документ, свидетельствующий против чрезмерной суровости Гермогена. На закате царствования Василия Ивановича патриарх обратился с посланием ко всем тем, кто бунтовал против царя. Прежде всего, имелись в виду, конечно же, тушинцы. Против их бесчинств и своеволия направлено острие патриарших слов. Гермоген грозит мятежникам отлучением и адскими муками: «С вашия отпадшия стороны кто ни будет убьен или общею смертию умрет – тот во ад идет и во святых церквах приношения за таковых, по писанному, неприятна Богом и конечно отвержено и идут таковии без конца мучитися… И о сих нам, православным християном, рыдание и плач, понеже братия суть наша и от нас изыдоша, но не с нами быша и изволиша вместо радости без конца мучение»{199}.
Однако Гермоген прекрасно понимает: многие из тушинцев не столько сознательные изменники, злодеи, корыстолюбцы, сколько несчастные люди, которых гражданская война закрутила, как речное течение крутит щепку на водовороте; им боязно вызвать гнев вожаков, им страшно возвращаться на сторону законного государя; но они служат не за совесть, а за страх. Так почему бы не ободрить их, почему бы не показать им, что их вина может быть прощена? Во всяком случае, перед Богом у них нет того отягощения грехами, какое висит на душах прямых и явных бунтарей.
Поэтому он делает важную оговорку: «Сие… слово[50]50
Имеются в виду обличение и пророчество об адских муках.
[Закрыть] не ко всем пишем, но к тем, которые, забыв смертный час и страшный суд Христов и преступив крестное целование, отъехали, изменив царю государю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русии, и всей земле, и своим родителем, и женам своим, и детем, и всем своим ближним, паче же и Богу. А которые взяты в плен, как и Филарет митрополит, и прочие, не своею волею, но нужею, и на християнской закон не стоят, и крови православных братии своих не проливают… таковых мы не порицаем, но и молим о них Бога велика сила, чтоб Господь от них и от нас отвратил праведный свой гнев и в полезная б подал им и нам по велицей его милости… Аще же кто от таковых пленников в таковых нужах и бедах скончается, таковых должни есмы повсюду по вся дни поминать и о отпущении грехов их Бога молить, да и мы сами от таковых просим молитв их к Богу о нас, понеже, по Божественному писанию, то суть мученицы Господни и нынешняго ради времяннаго страдания небесному царствию сподобятся; праведнии бо аще и умрут – живи суть и мука их не коснется, понеже не отступиша от Бога и Божия милость неотступна от них зде[сь] и в будущем веце»{200}.
Стоит обратить внимание на одну деталь: Гермоген говорит милостивые слова в адрес не только абстрактных служильцев «Тушинского вора», приневоленных к трудам на него, но и в адрес хорошо известной всему царству персоны. Он и на Филарета, митрополита Ростовского, не пожелал излить чашу гнева, хотя основания к тому были. На месте Гермогена даже очень терпеливый, милосердный, незлобивый человек мог бы обрушиться на владыку Ростовского с проклятиями! Митрополит Филарет, если вспомнить первые месяцы правления Василия IV, являлся конкурентом Гермогена, когда решалась судьба патриаршей кафедры. Впоследствии он оказался в руках тушинцев, и те нарекли его своим патриархом. Так на Руси появилось два патриарха, притом часть городов и земель признавали духовную власть Филарета. Но нет, Гермоген не ставит ему этого в вину. «Не своею волею», – объявляет он. И когда Филарет вновь окажется в Москве, Гермоген не станет враждовать с ним, более того, одобрит его отправку с важной дипломатической миссией, рассказ о которой – впереди. Он верил в то, что действия Филарета лишены злонамеренности.
Следовательно, не столь уж «косен» был патриарх Московский и всея Руси «в разрешениях», умел не слушать клеветы и не поддаваться ненависти.
Выходит, и здесь автор «обвиняющего» текста неправ. Если во мнении его не содержалось осознанной злонамеренности, тогда объяснить столь темные краски в «портрете» Гермогена можно обстоятельствами самого времени. Глава Русской церкви столкнулся с «шатанием умов». Его же собственное «воинство», священники, то поддавались на соблазны горчайших бунтовщиков, то проявляли симпатии к «латынству». Смута плоха прежде всего тем, что «разрешает» людям без внутренних терзаний идти на отступничество, злодейство и нравственную грязь, покрывая душевную тьму именем свободы… Духовенство не стало исключением. Там приходилось наводить порядок железной рукой. Наказанные, должно быть, удивлялись: вокруг чуть ли не бесы пляшут, а патриарх карает за мелкий грешок! И у каждого, по всей вероятности, имелось свое мнение, какой грех следует по смутной поре считать ничего не значащей мелочью…
Гермоген, вступающий на путь страданий и мученичества, предстает перед потомками незаурядной личностью.
Это большой книжник, даровитый духовный писатель и хороший ритор, во всяком случае, смелый полемист. Старость и нелегкий жизненный путь лишили его доброго голоса, но ум и навыки красноречия остались при нем. Это пастырь суровый, овеянный рискованной борьбой за веру в неуютном Казанском краю, наделенный твердой волей, прямотой и стремлением отстаивать основы православия от любых посягательств. Это опытный политик консервативного склада, уверенно придерживавшийся взятого курса: поддерживать законного государя, обличать измену и бунт. Вместе с тем суровость Гермогена вовсе не лишала его ни гибкости, ни милосердия. Вера диктовала ему политические, культурные и кадровые предприятия. Как большой церковный администратор Гермоген был чрезвычайно опытен. Он знал цену людям. Но как добрый христианин он являл мягкость к тем, кто, поддавшись соблазну, нагрешив, совершив дурные поступки, затем все же исправлялся. Гермоген умел видеть в людях свет, он умел обратиться к этому свету, ведь как не быть свету в душах, если человек – Божье творение, созданное «по образу и подобию» Господню! Должен быть свет, должен откликаться свет…
Гермоген – это какой-то очень русский характер.
У нас в XVI–XVII веках книжник почти всегда был начетчиком. А как иначе? Приобрести знание можно было только большим трудом, а значительное знание – только в виде исключения. Книжное слово ценили выше золота, выше жизни. А приобретя, дарили как величайшую ценность и охраняли как невероятно хрупкую вещь. Книжного знания в стране отчаянно не хватало. Церковь – даже Церковь! – захлебывалась в невежестве. За всё столетие от Ивана Великого до ранних Романовых – ни единого вполне достоверного известия, что у нас была хотя бы одна школа! Книжником становился человек, получавший навык разбираться в премудрости словесного винограда не от школьного учителя, а от духовного наставника. Можно сказать, из рук в руки, из уст в уста. Всякий книжник у нас являлся «штучной работой», а не плодом образовательной системы. И расплескать ту малость, какую нацедили наставники, какую не убили пожары, то и дело уничтожавшие русские книгохранилища, какую принимали на Руси почтительно, считая ее не замутненной мудрованиями инославных и прямыми ересями, о, расплескать ее вроде бы могли очень легко и быстро. Но вот не расплескивалась!
Наш русский начетчик почти неизбежно принимал роль стража при истине. Или, иначе, воина при чаше.
Аввакум – пример неудавшегося стража, то есть стража, не вполне реализовавшегося в главной роли всей жизни, проигравшего, нравственно искалеченного срывом, впавшего в неистовство.
Гермоген – страж победивший. Он жизнь положил, но своего добился.
Оба – ипостаси одного характера. Их обоих называли «столпами», «адамантами», «утесами среди волн». Иначе говоря, чем-то невероятно прочным и неподвижным, словно камень. А они, скорее, имели характер, выкованный из закаленного металла. Такой характер на Руси то и дело вырастал из морозной нашей реальности, из скудости, из незащищенности границ, через которые то и дело могла с гиком и свистом перелететь свирепая степная конница. Живой металл, то и дело терзаемый попеременно нестерпимой стынью и беспощадным пламенем, уже ничего не боится, ни от чего не разрушается. Его обмануть и обойти трудно, ибо знание жизни входит в него со всеми огненно-студеными муками, а уж сломать – невыполнимая задача. Легче убить, нежели принудить к чему-либо против воли. Только вот носитель такого булата душевного и сам кого хочешь переиграет, обойдет, сломает, вгонит в гроб. В нем силы много.
Гермоген – булатный человек. Жизнь казака и попа в городе, вечно находящемся в полуосадном положении, закалила его. Монашество лишило страха перед кем угодно, кроме Господа Бога. Книжные знания дали понимание предмета, который стоит охранять. Природное стремление к правде, к справедливости – тоже очень русское, можно сказать, коренное – делало суровым к грешникам и ослушникам, но милостивым ко всем кающимся. Могучая витальная сила и огромный опыт пребывания у власти превратили его в политика, чрезвычайно опасного для любых врагов. А соприкосновение с чудом в тот самый летний день 1579-го, когда Ермолаю-Гермогену пришлось нести икону, явленную силами небесными, сделало его «стоятельным» в истине. Кто Бога видел, кто через Его чудеса получал ободрение, тот Его знает, и это знание сильнее веры…
Гермоген не был суров, он искал сохранения нормы. Знал, как должно быть то и это, быстро постигал суть искажения, если оно случалось, и любыми способами добивался выпрямления искривленного. Он принял на себя служение великого выпрямителя.
Русская сталь, выпрямляющая любую кривизну, – черная, незвонкая, на всякий удар откликается она глухим утробным рокотом, но нет на свете ничего прочнее этой стали. Город, страну, мир и даже веру подвесить можно на крюке, изготовленном из нее, и – не сломается. Всё выдержит.
Таков Гермоген.
После свержения Василия Шуйского Москва осталась «безгосударной». С запада к ней приближались полки гетмана Жолкевского, на юге бывшие тушинцы поставили под контроль множество городов и областей. Сама столица не обижена была воинской силой: множество бояр со свитами из боевых холопов, сотни дворян, ранее составлявших государев двор, тысячи отборных стрельцов, пушкарей и прочих служильцев. Бойцов хватало! Боевой дух упал. Москвичи пребывали в растерянности.
Повсюду, от мала до велика, от нищих посадских людей до высокородных аристократов, шли споры: как поступить? Россия привыкла жить, покоряясь воле законных православных монархов. Но кто теперь законный православный монарх?
Город бурлил, «партии» сталкивались между собой, а с юга и запада надвигался враг.
Временным правительственным центром стала так называемая «Семибоярщина» – аристократическое правительство, выросшее из Боярской думы царя Василия Ивановича. В нее вошли князья Ф.И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков-Оболенский, а также отпрыски старомосковских боярских родов И.Н. Романов и Ф.И. Шереметев[51]51
Существуют лишь косвенные данные о том, кто оказался в составе боярского правительства. Список, приведенный в тексте, показывает семь персон наиболее влиятельных политиков из его состава. Очевидно, правительственный круг был шире этого списка. В него явно входил также князь В.В. Голицын. Князь Ю.Н. Трубецкой, князь И.С. Куракин и М.Г. Салтыков оказались в полной зависимости от польского короля, стали его прямыми орудиями – куда им в правительство! Оно хотя бы проводило интересы русской знати и лучших русских дворянских верхов, в то время как эти трое стояли за один интерес – польский. Впрочем, историк В.Н. Татищев уверен, что князь Ю.Н. Трубецкой в боярское правительство все-таки входил, а князь А.В. Трубецкой – нет (Татищев В.Н. История Российская // Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5–6. Ч. 4. М., 1996. С. 339). Любопытно, что князь Д.Т. Трубецкой в ту пору возглавлял думу у Лжедмитрия II на Калуге, то есть другой правительственный центр (Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVIXVII вв. С. 295–296).
[Закрыть]. Однако владычество бояр вечно продолжаться не могло. Москва да и вся Россия ждали: кто окажется новым государем?








