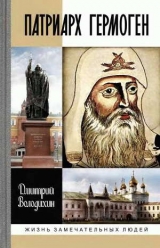
Текст книги "Патриарх Гермоген"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Вот эти проблемы: перекрещивание Владислава и отправка его с соответствующей свитой в Москву; снятие осады со Смоленска; возвращение порубежных земель и городов, занятых польско-литовскими войсками[59]59
Это далеко не весь перечень проблем, составлявших компетенцию посольства. Их намного больше: так, послы должны были, среди прочего, договориться о том, чтобы Владислав женился на православной девице, чтобы он не имел сношений с папой римским по делам веры и т. п. Здесь указаны лишь основные, наиболее острые.
[Закрыть]. Почти все прочие статьи августовского договора имели под собой согласие польского монарха, так или иначе высказанное заранее. Устройство польского костела в Москве – вопрос, не входивший в сферу компетенции посольства, поскольку его мог решить только Земский собор.
Послы отправились в путь 11 сентября 1610 года, а добрались до королевского лагеря под Смоленском в начале октября. Во главе весьма значительной группы дипломатических представителей Москвы (более 1200 человек!) стояли князь В.В. Голицын и Филарет, митрополит Ростовский. Вместе с ними ехали окольничий князь Д.И. Мезецкий, думный дворянин В.Б. Сукин, дворяне, дьяки, архимандрит московского Новоспасского монастыря Евфимий, келарь Троице-Сергиевой обители Авраамий Палицын, множество «выборных людей» от «разных чинов». Казалось бы, столь значительное посольство могло быть нацелено только на успех.
Однако в действительности его… запрограммировали на неудачу.
Во-первых, сами поляки – как Жолкевский, так и Сигизмунд – уже знали: августовские соглашения обречены на пересмотр. Король хотел заменить собою сына. Деблокада Смоленска в планы поляков явно не входила.
Во-вторых, сами русские, как ни парадоксально, отправлялись вовсе не за Владиславом.
Кто вошел в руководящую группу посольства? Князь Голицын, сам строивший планы на престол. Митрополит Филарет (Романов), имевший в сыновьях еще одного претендента. Настоятель Новоспасского монастыря, прочно связанного с родом Захарьиных-Юрьевых-Романовых (там располагалась их семейная усыпальница), то есть с тем же Филаретом. Келарь Авраамий, ненавидевший польско-литовских захватчиков после того, как они истерзали осадой Троице-Сергиеву обитель. Ни один из них не был заинтересован в удачном исходе общей миссии. Их больше устроил бы провал, поскольку тогда появлялась возможность продолжить собственные политические игры.
Князь Мезецкий и думный дворянин Сукин могли дать слабину, пойти на компромисс – так и произойдет впоследствии. Но они являлись второстепенными лицами посольства. Кроме того, Мезецкий и особенно худородный Сукин по своим местническим позициям намного уступали Голицыну, высшему аристократу. Его слово при любых обстоятельствах получало бы более вескости, нежели их претензия какого угодно рода.
У Сигизмунда III был один-единственный шанс поладить с таким необычным посольством: согласиться на все требования боярского правительства. Тогда у Голицына с Филаретом просто не осталось бы оснований для спора. Но король вовсе не желал подобного исхода.
Таким образом, дипломатическая миссия, отправленная под Смоленск, провалилась уже на выходе из Москвы.
Патриарх Гермоген самым очевидным образом способствовал этому провалу.
Во-первых, представители духовенства, отправленные к Сигизмунду, явно отбирались по его слову. Возможно, патриарх повлиял и на отбор прочих представителей Москвы – из дворян и дьяков. Летопись откровенно указывает на то, чем руководствовался Гермоген, оказывая подобное влияние: «Бояре же пришли к патриарху и начали говорить ему о том, чтобы выбрать послов из духовного чина и из бояр, а с ними, выбрав, послать ото всяких чинов людей добрых. Патриарх же их укреплял, чтобы выбрали из своего чина людей разумных и крепких, чтобы прямо стояли за православную христианскую веру непоколебимо: “А мы соборно выберем мужа крепкого, кому прямо стоять за православную христианскую веру…”»{230}. Яснее не скажешь.
Во-вторых, глава Русской церкви отправил с посольством такие сопроводительные грамоты, после которых всякий успех переговоров становился немыслимым.
Дело не в том, как составлены документы посольства, предписывающие его «начальным людям» определенный образ действий. Там ничего «крамольного» нет. Одно лишь простое отражение тех требований, которые уже были озвучены в бумагах, подписанных Жолкевским. Посольский наказ составлен от имени Гермогена, Освященного собора, знати, дворян, приказных, всяких служильцев и торговых людей Московского государства. Там содержатся слова, звучащие нейтрально, в почтительном тоне: «Королевичу… Владиславу Жигимонтовичу пожаловати креститися». Среди прочих бумаг обнаруживается текст речи, предназначенный для коллективного зачитывания главными людьми посольства в польском стане. Речь обращена к «Владиславу Сигизмундовичу». На князя В.В. Голицына возлагалась обязанность произнести первую ее часть, а продолжали чтение менее значительные участники посольства. Так вот, в наказе требование перейти в православие сформулировано спокойно и уважительно. Официальные посольские «статьи» звучат следующим образом: Владиславу – креститься, и чтоб он «будучи на Московском государстве, от папы Римского их закону о вере не просил и благословения не принимал, и с ним о том не ссылался». Тех, кто «отступит от греческой веры», Владислав, взойдя на русский трон, должен будет казнить смертью и конфисковывать имущество. Жестко – но опять в духе августовских соглашений. Вариант, что Владислав не перекрестится в православие или хотя бы не захочет этого сделать до прихода в Москву, посольскими инструкциями не предусмотрен. Послам велено говорить: «А иного нам приказу о том никоторого нет»{231}. Иными словами: Москва не готова открыть ворота перед Владиславом, если он пожелает въехать в город, оставаясь католиком.
Притом посольские люди очень скоро узнали: ворота-то уже открыты, и въехали в них самые настоящие, неподдельные католики в полном боевом вооружении, притом католики, не имеющие никакого отношения к королевскому сыну. Позиция Голицына и Филарета оказалась страшно ослабленной через десять дней после выезда из Москвы. Требовалось недюжинное мужество, а еще того более – твердость характера, чтобы отстаивать русское дело в условиях, когда Кремль занят поляками…
И вот такое посольство, имея за спиной капитулировавшую твердыню, передает королю Сигизмунду и королевичу Владиславу два письма Гермогена о вере. Оба они составлены как моление и «челобитье» от имени «всего освященного собора», «московских чинов», приказных, дворян, торговых людей и всяких служильцев, а не только патриарха. Однако всё это перечисление требовалось для одного: усилить позицию, обозначенную в грамотах Гермогеном. Его авторство не вызывает сомнений. И тон обоих документов разительно отличается от тона прочих посольских бумаг.
Как небо и земля…
В письме, адресованном Сигизмунду III, говорится: от великого князя Владимира на Руси всегда сияла, «яко солнце», православная вера. К польскому монарху возносится прошение: «Великий самодержавный королю, даруй нам сына своего, его же возлюби и избра Бог во цари, в нашу православную греческую веру». Далее идет пространная хвала православной вере, начинаемая словами: «Ея же пророцы прорекоша, ея же апостоли проповедаша, ея же святи отцы утвердиша, ея же вси православнии христиане неблазненно и крепко содержаша, и по все время красуетца и светлеет и сияет яко солнце. Сия вера красна добротою паче всего сыном человеческим, на нея же божественная благодать излиявшись, и яко сладкая цевница, движущи новую и благолепную песнь духовную, в концы земли вскоре слышиму сотвори. Сия вера точащее нелестное млеко сосца непорочныя невесты Христовы, яко же есть писано, духовными наказаниями воспитает и в мере возраста исполнения Христова сподобляет верных достигнута добре. Сия вера преблаженными и пребожественными дуновении Параклитовыми от всея земли отгна всякую бесовскую губительную прелесть… О великий державнейший королю, великий государь! Даруй нам государя заповеди Божия соблюдати и державу Русскую сохраняти, и нас во тихости и в кротости и в любви и в милости содержати. Даруй нам царя, им же бы вера христианская не разорилась. Аще царь верен будет Богу, и Бог для его и людем его согрешения отпустит; аще ли царь будет Богу неверен, то большое зло наводит Бог на землю ту, понеже той есть глава земле и пастырь всему Христову стаду словесных овец…»{232}
В финале процитированного пассажа содержится смысловой заряд, явно оскорбительный и для Сигизмунда, и для Владислава. Если «царь верен будет Богу… Бог… людем его согрешения отпустит; аще ли царь будет Богу неверен, то большое зло наводит Бог на землю ту, понеже той есть глава земле и пастырь всему Христову стаду словесных овец». Но в начале-то письма сказано: отдай сына в «нашу православную греческую веру». Следовательно, пока царь пребывает вне «православной греческой веры», он Богу неверен. Выходит, сам Сигизмунд, католик, неверен Богу! Да и сын его всего лишь получает шанс на исправление души, а пока – сквернавец.
Но это еще цветочки. Ягодки пойдут в послании, адресованном королевичу.
Владиславу передают «моление ко крещению». Оно во многом повторяет послание Сигизмунду. Но есть отличия. Владислава упрашивают не противиться «суду Божию и нашему и всего собора и царского синклита и всех православных крестьян молению». Говорят: прими «веру непорочную», «прими убо, государь, сия благовоние и наслаждайся сим благочестие». Смысл: а пока, Владислав Сигизмундович, вера твоя порочна и смердит…
Моление о принятии православной веры весьма длительно и эмоционально: «Смилуйся, государь, прими веру, ея же благоверный великий князь Владимир… возлюбил паче всех вер… Прими веру, ею же Богу сам верен будеши; прими, государь, крещение, им же внидеши в небесное царствие… твоим крещением и правою к Богу верою Московское великое государство от мятения перестанет и тишину примет; твоим крещением кровь крестьянская перестанет литась…»{233} И так далее до самого конца. Смысл всё тот же: а пока, Владислав Сигизмундович, вера твоя – Богу измена. Нельзя, оставаясь в ней, войти в царствие небесное, но только став православным человеком.
Оскорбления, прямо нанесенные Гермогеном в этих двух грамотах, не имеют никакого отношения к всплеску чувств – раздражению против поляков, католиков, против бояр, нагло им потакающих, нет. Они вставлены в патриаршие послания с четким политическим расчетом, обдуманно. Повышенный эмоциональный фон – работа искусного публициста.
Надо понимать: для Гермогена нет и не может быть уступок на вероисповедной почве. Сама их возможность в его уме не существует. Он страж веры, не знающий компромиссов. И он никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаст своих позиций. Нельзя быть немножко православным – так же, как женщина не может быть немножко беременной. Либо человек православен, либо нет. Царь живет у всех на виду. И русскому царю пристало быть безусловно православным, никакие «смягченные варианты» не проходят. Русский царь не может быть католиком, милостиво относящимся к православию. Он не может быть православным, покровительствующим распространению католичества на просторах своей державы. Никак. Никогда. Иначе – смерть ему, как Лжедмитрию! Во всяком случае, трон из-под него следует выбить, и чем скорее, тем лучше. А значит – новая смута, новая кровь, новое разорение.
Гермоген едва дал уговорить себя: пусть явится поляк и сядет на престол, издавна принадлежавший Рюриковичам; пусть он сейчас католик; нехорошо и подозрительно, однако Россия еще может соблюсти себя, если претендент поступит с нею честно. Только честность должна быть прямой, ясной, нелицемерной, никаких полутонов!
Вот какова причина появления оскорбительных реплик в патриарших письмах. Они показывали: есть барьер, через который перешагнуть невозможно. Русский народ и Русская церковь считают, что в католицизме истины нет, а в православии она есть; скрывать подобное отношение – невозможно; либо Владислав примет это и будет править нами, либо он встретит перед собой стену неприятия.
Вопрос о вере государя был поставлен с крайней жесткостью. Он звучал как предупреждение: рассчитывать на какие бы то ни было проявления «гибкости» не стоит. Не та тема!
Сигизмунд III, твердый католик, мог воспринять слова Гермогена только с гневом и несогласием. Допустим, давно известно, что католики не видят истины в православии, а православные в католицизме, для польского короля это не новость. Но он надеялся обойти вероисповедный момент. Он надеялся: русские подчинятся, уж как-нибудь сдадут они свою веру, другое-то сдавали, ничего… И – полный крах его ожиданий.
С послами прежде поговорил «о крещенье, про королевича, и о вере» великий канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Проще говоря, политик номер один всей литовской части Речи Посполитой. Ничего утешительного он не сказал. Митрополит Филарет сейчас же сообщил Гермогену о сих печальных обстоятельствах{234}. Слова Сапеги не поколебали стремление послов добиваться своего.
Они продолжали упорно отстаивать ту позицию, с какой приехали из Москвы.
Затем последовал официальный ответ самого короля Сигизмунда. Он не обещал перекрещивания сына, приняв «благородную» позу человека, совершенно не готового применять насилие в отношении веры «нижайшего из своих подданных», а тем более – королевича. Отпустить Владислава в Москву он также не обещал, отделавшись пустыми словами: королевич-де поедет «на совершенно успокоенное господарство… когда будет воля Божья…»{235}. Смоленск он продолжал держать в осаде, не допуская и мысли о ее снятии.
Звучали его ответы издевательски. Мол, ждите, господа московитские послы, авось когда-нибудь и явится ваш королевич; ждите, благородные господа, авось захочет королевич, да и крестится в вашу варварскую веру. А может, и не крестится. Вы ведь ему уже целовали крест? Целовали. Войска в свою столицу впустили? Впустили. А что договаривались принять сына моего на царство лишь после того, как станет он православным, так ведь это вы с Жолкевским переговоры вели. Ни я, ни сын мой ничего подобного не обещали. Верно, господа послы? Не так ли, друзья мои?
Участников посольства начали обрабатывать в том духе, чтобы они оставили свои требования, связанные с верой, да и о кандидатуре Владислава перестали говорить, ибо сам Сигизмунд желал для себя русского трона. Ему-де следует оказать такие же «почести», как сыну. Уже начали покрикивать на послов: что за договоренности с Жолкевским? «Нам до гетманской записи дела нет!» Представителей Москвы обижали «кормами», держали их в угнетающей скудости, порою прямо угрожали расправой.
Мало того, польский монарх еще и принялся отдавать распоряжения московскому правительству, как собственным подданным. Он жаловал земли и чины московские, не исключая высших – «думных». Он требовал, чтобы послы уговорили смолян открыть перед ним ворота, а потом дать присягу на имя Сигизмунда.
Посольство разделилось.
Филарет и князь Голицын, а также наиболее стойкие, наиболее отважные дипломатические представители Москвы сопротивлялись. Некоторые другие предпочли сдаться, признать Сигизмунда III своим господином. Получив от него знатные пожалования, одни разъехались по домам, другие вернулись в Москву, не довершив дела. Захарий Ляпунов, свергавший царя Василия Ивановича, вовсе перешел из русского стана в польский.
Король начал давить на посольство через Москву. Оттуда, от боярского правительства и пропольской администрации, летели инструкции: покориться! Филарет с Голицыным не покорялись.
Более того, они стали своего рода живым узлом большого военного заговора. Обличительные письма шли от них в города и земли России. Командир московского гарнизона поляков Александр Гонсевский впоследствии с яростью вспоминал о роли «великих послов» в организации сопротивления чужеземцам: «В тогдашных же часех (декабрь 1610-го – январь 1611 года. – Д. В.) иман на Москве в измене Федор Погожой, и тот в роспросе сказал и своею рукою весь злой завод и совет Филарета митрополита выписал: как он в слове с патриархом, едучи с Москвы, положил, штобы государю королевичу на Московском господарстве не быть, а патриярх ему имался всех людей к тому приводить, штобы сына его Михаила на царстве посадити; и как Филарет ис-под Смоленска смутные грамоты в Ярославль и в иные городы писал, будто (какое там «будто»! – Д. В.) король королевича на Московское господарство дати не хочет, и они ж бы от Москвы на время отложилися и стали заодно против нас, людей королевских»{236}.
Нет смысла в подробностях пересказывать здесь историю «великого посольства». Она изложена во множестве монографий, статей, популярных изданий. К тому же судьба Гермогена связана с ним не долее чем до декабря 1610 года; позднейшие злоключения послов уже никак не касаются трудов патриарха. Остается лишь сказать, что представителей Москвы долго терзали, понуждая к подчинению. Незадолго до конца года им привезли из Москвы грамоты, подписанные боярским правительством. Там говорилось: во всем сдайтесь на волю Сигизмунда. Но послы не признали официальную силу грамот: во-первых, отсутствовала подпись патриарха; во-вторых, подписи князей И.М. Воротынского и А.В. Голицына, как они знали, вытребованы были у обоих насильственно. Весной 1611 года поляки, не сломив русских послов, ограбили их до нитки и вывезли неволей из-под Смоленска. Фактически несколько лет их содержали под стражей, забыв думать о какой-то дипломатической неприкосновенности. Не все вернулись домой…
Главных людей посольства следует ныне поминать с почтением: их мужество достойно самой высокой оценки. Смоленск же был взят Сигизмундом III летом 1611-го, после жестокого сопротивления, стоившего королю тяжких потерь.
Гермоген знал о бедственном положении посольства. Более того, он получил из-под Смоленска корреспонденцию, извещавшую его и о политических амбициях Сигизмунда, и о том, что на участников посольства оказывается давление. На рубеже ноября-декабря 1610 года неприглядная картина смоленских переговоров стала известна патриарху во всей ее полноте.
Между тем накалялась обстановка и в самой Москве. Боярское правительство, чем дальше, тем больше превращалось в группу совершенно безвластных персон, исполняющих, как бы сказали сейчас, представительские функции. Действительную власть скоро прибрали к рукам Гонсевский со своим штабом, боярин Салтыков, казначей Федор Андронов, да еще десяток лиц, не имевших порой не только аристократического, но и дворянского достоинства. Они занимались делами, а «Семибоярщина» лишь тихо соглашалась с их решениями.
После отъезда гетмана Александр Гонсевский первое время поддерживал строгую дисциплину среди своих бойцов. Он стремился показать: поляки не настроены убивать, грабить, обижать москвичей; поляки честно исполняют союзнический долг. Его усилия заслуживают доброго слова. Этот человек как минимум старался держать в узде пришлое воинство.
Так, польский воин Тарновецкий, который ударил православного иерея до крови, получил от Гонсевского приговор: обезглавить! Ратник в ужасе бил челом патриарху и боярам, прося избавить его от смертной казни. Гермоген и боярское правительство сочли возможным заступиться за Тарновецкого: слишком уж тяжело наказание! Гонсевский, желая показать своим людям строгость, дабы им неповадно было совершать такие поступки и смуты бы не случилось, велел Тарновецкого не убивать, но отсечь ему руку. «Чому бояре и вси люди русские дивилися, – говорил впоследствии Гонсевский, – и мне то сам патриярх опосле вымовлял, што-де за такую малую вину, которая учинена попину, непригоже было жолнера так люто казнить, а полно было того, што у вязенью[60]60
Вязенье – заключение.
[Закрыть] его подержано. А после того гайдуки мои, вышед з Борисова Годунова подворья, где я стоял, сами промеж себе побранилися, крик и шум учинили; а патриярх в те поры в церкви был и о том учал кручинитися; и я, уведав о том, казал их изымати, и за то, что они такою промеж себе бранью не ушановали[61]61
Ушановать – оказать почтение.
[Закрыть] церкви Божой и святителя, осудил есьми чотырех на горло»{237}. Той же ночью два «пахолика» занялись воровством и грабежом. Гонсевский осудил их на смерть. Патриарх призвал его к себе и вымолил жизнь для осужденных. Вместо смертной казни их «московским образцом», «по торгу водячи нагих», секли кнутьем до крови. Поляк-арианин по пьяному делу выстрелил в икону Владимирской Богородицы у Никольских ворот; ему отсекли руки и ноги, а тело сожгли.
Однако время шло, Владислав не приезжал, поляки не отправлялись драться со Лжедмитрием II. Роты их требовали пищи и денег, а когда того или другого недоставало, принимались безобразничать. Русские приспешники Сигизмунда грызлись между собою, беспардонно хозяйничали, обогащались, пользуясь удобным моментом. Москва начала понемногу набухать раздражением против иноземцев, а более того – против их слуг.
Первое серьезное выступление против поляков случилось 1 октября, еще при Жолкевском. Гермоген принял в нем самое активное участие. Фактически он возглавил возмущение москвичей.
Сами поляки рассказывают о том опасном для их власти событии следующее: «Патриарх… не перестал после выдачи Шуйских делать замешательство. Так, 10 октября (1 октября по юлианскому календарю XVII века. – Д. В.) он собрал великое множество людей, не столько из простого народа, сколько из дворян и служивых людей, и они… обсуждали, как бы нарушить крестное целование. Патриарх два раза посылал за боярами… Бояре отговаривались тем, что они заняты государственным делом. Патриарх послал в третий раз с таким заявлением, что если они не хотят прийти к нему, то он придет к ним со всеми… Бояре предупредили его [и пришли]. Там князь Мстиславский и другие, бывшие с ним, искренне держась принесенной присяги, два часа всячески опровергали мятежнические их отзывы о гетмане и рыцарстве и давали суровые ответы на их речи»{238}.
Сами поляки видели главную причину «волнения русских» в том, что гетман долго не вел боевых операций против Лжедмитрия II, а самих русских поставил в неудобное положение: поляков ввели в город, где «под угрозой от них оказались дети и жены русских», в то время как мужей и отцов разослали по службам вне Москвы. Гонсевский отправил к Мстиславскому князя Василия Черкасского с известием: ему, Гонсевскому, поручено сообщить, кого из польских офицеров с отрядами на завтрашний день направляют против Самозванца, а также договориться о месте встречи польско-литовского и русского войск для совместного похода, если, конечно, русские готовы к нему.
После явления Черкасского глава боярского правительства, князь Мстиславский, сейчас же громко передал патриарху всё сообщенное ему поляками. Далее Федор Иванович стал говорить, что гетман поступает с ними искренно, а шумное поведение народа и стало причиною того, что до сих пор не выслано войско: при таких-де «мятежах» русские полки не могут собраться в поход против Вора. Как искренний и последовательный сторонник проекта с Владиславом, князь еще прилюдно заявил, что никогда «не нарушал присяги, не изменял… и теперь готов умереть за того, кому целовал крест». При этом, по словам поляков, патриарх и все другие замолкли. Дело закончилось тяжелым оскорблением Гермогена со стороны раздосадованных бояр. «Расходясь, сказали патриарху, чтобы смотрел за Церковью, а в мирские дела не вмешивался – никогда прежде не было того, чтобы попы управляли делами государственными! Затем бояре ушли в палаты… Они были очень довольны объяснением, которое сделано так кстати. Четырех мятежников они приказали посадить в тюрьму»{239}.
Но после отъезда гетмана в Москве не осталось столь же ловкого политика. Гонсевский сам по себе оказался, мягко говоря, простоват. Он не понимал, сколь мало сторонников у высшей аристократии, прилепившейся душой к полякам, и сколь мало шансов удержать русских в подчинении, если договоренности Жолкевского будут нарушены.
Глухое брожение постепенно отливалось в самую опасную форму, приобретая черты вооруженного заговора. По-видимому, род Голицыных оказался во главе тайной организации заговорщиков, копивших силы для удара по полякам. Для Гонсевского было истинным подарком одно безобидное на первый взгляд обстоятельство: князь В.В. Голицын, наиболее значительная персона в роду, уехал под Смоленск. Оттуда он мог лишь очень ограниченно влиять на происходящее в Москве. Тем не менее князь как минимум вел переписку с силами, от коих ждал поддержки. Среди прочего – с воеводами Лжедмитрия II.
Осенью 1610-го в Москве был пойман некий поп, «лазутчик», пришедший не в первый раз «с грамотами смутными от вора из Калуги». Его прилюдно пытали, а потом посадили на кол. На пытке поп сообщил следующее: «Князь Василей Голицын, идучи под Смоленск, з дороги к вору тайно в Калугу писал, и на Московском господарстве вора господарем видети хотел, а князь… Андрей Васильевич Голицын о том ведал же… Вот по ссылке с некоторыми со многими московскими людьми умыслил: пришод с войском ночью под Москву, войти в Кремль-город от реки Москвы Водяными вороты и тайниками… на… Александра Гонсевского… и на людей польских и литовских… а также на двор князя Федора Ивановича Мстиславского ударить… а потом в Китай-городе и в Белом городе обивши людей польских и литовских, также бояр всех и дворян больших родов и иных всяких людей московских, кои с ним в его воровском совете не были…»{240}
Позднее поляки захватили двух казаков-донцов из войска Лжедмитрия II. Один из них сознался добровольно и потом подтвердил на пытках, что некий священник по имени Илларион ехал через Серпухов из Москвы к Самозванцу с письмами почти ото всех сословий. По словам польских офицеров, допрашивавших пленников, письма содержали призыв, «чтобы самозванец как можно скорее приехал к столице изгоном… русские хотят целовать ему крест помимо королевича, а наших истребить хитростию»{241}. Москвичи составили с воеводой Ф.С. Плещеевым, который возглавлял гарнизон Лжедмитрия II в Серпухове, заговор: он должен был подойти с войском к Москве, тайно договорившись «с боярами» (вероятно, с теми, кто состоял в негласной оппозиции к Мстиславскому и Салтыкову), незаметно ворваться в город, ударить в колокол 19 октября, за три часа до рассвета, а потом напасть на Кремль. В задачи Плещеева входило: перебить поляков (кроме самых знатных, кого можно было обменять у Сигизмунда III на русских послов), всех сторонников королевича истребить, а Мстиславского ограбить и в одной рубашке привести к Лжедмитрию II.
Позднее поляки схватили то ли того самого священника Иллариона, выданного казаком-донцом, то ли иного попа-вестника, по имени Харитон. Его предали пытке. Несчастный иерей, истерзанный польскими палачами, «показал во всем согласно с донцом; прибавил только, что князь Василий Голицын, когда ехал к королю, писал с дороги к Вору, а князь Андрей Голицын в совете с Вором». Он же сообщил имя тайного гонца: некий Живорко носил в Калугу, столицу Лжедмитрия II, послания от князя Ивана Воротынского и от князя Александра Голицына. Потом священник сознался, что на князя Андрея Голицына наговорил со страху. От прочих показаний он не отказался{242}.
С теми, до кого Гонсевский мог дотянуться, спешно расправились. Князья Андрей Голицын и Иван Воротынский попали под арест. Штаб Гонсевского рассылал грамоты, где сообщалось: угроза устранена. Одна из них в середине ноября 1610 года добралась до станов Яна Петра Сапеги, литовского «полевого командира», «дрейфовавшего» между союзничеством со Лжедмитрием II и с королевской армией: «Пришли письма из Москвы от пана Гонсевского и прочих, в которых пишут, что находились в опасности до той поры, пока главарей не выявили, которые измену замышляли, а о чем узнав, тех покарали и измену отвели»{243}.
Однако всех ли схватили, до конца ли уничтожен заговор – вопрос, который будет мучить поляков еще несколько месяцев. Разрешится он лишь в марте 1611 года, когда Москву охватит мощное восстание. Во главе его окажутся те, кто проскользнул меж пальцами неприятельских дознавателей.
Особенную досаду причиняла Гонсевскому позиция Гермогена. Как уже говорилось выше, Жолкевский изо всех сил старался подружиться с патриархом, сгладить трения, уверить в добропорядочности своих намерений, но Гермоген оставался при своем мнении. Гонсевский сначала принял линию гетмана. Он попытался установить доверительные отношения с главой Русской церкви. Тот, по внешней видимости, принял игру, не показывал сурового нрава. Но – именно что принял игру, вовсе не имея искреннего доверия к военному вождю поляков.
Гонсевский негодовал на Гермогена. По его словам, патриарх внешне выказывал всяческое благорасположение, но в глубине души таил враждебные намерения. Гетманский наместник ярился: как же так? Гермоген, как уверял Гонсевский, позвав поляков «для обороны себе самого от воров, тотчас… смуту и кровь учал заводить… Чого доводим письмом руки священника вашого московского, который в те поры в Москве мене, Александра, остерегал»{244}.
Тонкий игрок, Жолкевский видел, разумеется, чего стоили его усилия. Он разглядел в Гермогене сильного, опасного для поляков политика. Простак Гонсевский думал по-военному незамысловато: не о судьбе царства идет речь и не о судьбе веры, а о том, чтобы польское командование и русские духовные власти бесхитростно друг другу улыбались. Он даже размышлять себе не позволял о том, какая трагедия разыгрывалась под Смоленском, какая боль ложилась на сердце старого патриарха, когда худшие его опасения стали явью.
Гонсевскому обидно: «И за такими злыми и нехрестиянскими заводы от патриярха и Филарета и за их научением, люди… московские злые што над нашими людьми чинили? Везде наших поляков и литву, заманя на посад, в Деревянной город и в иные тесные места, или позвав на честь, давили и побивали нехрестиянским обычаем, чево и неверным делать не годится; и пьяных извощики приманя на сани, будто до двора отвезти, давили и в воду сажали. А торговые люди, помните, што над нами делали? На торгу нам живности, рыбы и мяса, все продавали дорожей вдесятеро…»{245}
Ему не приходило в голову задуматься на тему, неприятную, вероятно, для шляхетского сознания: гетман и офицеры польской армии подписались под документом, представлявшим собой договор о призвании королевича Владислава на царство. Присутствие польских войск и самого Гонсевского в Москве имело лишь одну законную основу, а именно ожидание его приезда. Но Владислав не ехал! Месяц минул, другой, третий ополовинился, а о королевиче – ни слуху ни духу. Так зачем Москве поляки? Биться со Лжедмитрием? Они не выходили на бой и не воспринимали себя как наемное войско. Между тем право их на пребывание в столице России стремительно превращалось в фикцию.
Знал ли Гермоген о военном заговоре? Одобрял ли его?








