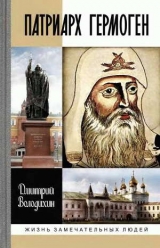
Текст книги "Патриарх Гермоген"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Несколько работ, где значение грамот святителя так же, как и у Костомарова, снижается, вышло в начале XX века.
Так, публицистическая книжка Е. Волковой снимает фокус внимания образованных читателей со значительных персон и переносит его на народную массу. Среди прочего Е. Волкова пишет: «Не патриарх Гермоген поднял русских людей против поляков… Это движение вызвали сами поляки, затронув интересы всех классов русского общества. Патриарх Гермоген только поддержал его силою своего слова, стойкостью своего поведения. И это движение, широкой волной разлившись по русской земле, захватило самого патриарха и приподняло его на недосягаемую высоту борца и мученика за народное дело»{335}. Е. Волкова толкует слова и призывы святители как исключительно религиозные, касающиеся существа веры, но не политики. Например, в тот день, когда Гермоген собрал москвичей в Успенском соборе и призвал не присягать Сигизмунду, он начал писать грамоты по городам с призывом стать за православную веру и не принимать иноверцев, но «как лицо духовное не мог открыто призывать к восстанию…» А потому говорил о «поругании христианской вере» и желании поляков «в латинство обратить православный народ». И только Прокофийй Ляпунов повернул слова Гермогена к делу вооруженного ополчения{336}. Но и он бы не смог этого сделать, если бы сам народ не устал от обмана и гнета со стороны иноземцев, не разгневался бы на них, не пришел в состояние готовности к борьбе.
Д. Успенский идет по этому пути гораздо дальше и пускается в полемику с противоположной ученой «партией». Своего рода «девизом» его книжки стали слова: «Не хитрым политиком, как думают некоторые, а просто искренним, правдивым человеком был Гермоген… Живой пример самоотверженной деятельности Гермогена воодушевил и увлек за собой русский народ»{337}.
По мнению Успенского, сами обстоятельства превратили патриарха в «народного вождя»: он сыграл важную роль в уже «начавшемся народном движении», которое явилось естественным протестом оскорбленного народа против произвола и гнета иноплеменников. Таким образом, не воля Гермогена двинула народ к определенной цели, но воля поднимающегося народа увлекла самого первоиерарха. Успенский целенаправленно подбирает аргументы на подрыв мнения, согласно которому «первое ополчение против поляков поднялось… благодаря тайной рассылке грамот Гермогеном».
Вот они: во-первых, «несогласными представляются возбудительные грамоты и с общим характером миросозерцания Гермогена: человек, признавший Божие руководство в избрании царей и строго относившийся к нарушению крестного целования, не способен на скорую перемену политических убеждений…». Как было показано выше, Гермоген крестного целования Владиславу не давал. И о каком «Божьем руководстве» может идти речь, если Владислав не венчался на царство по православному обряду, а стало быть, законным русским государем так и не стал?!
Во-вторых, Успенский критически оценивает содержание патриарших грамот, которые, по словам поляков попали к ним в руки. Имеются в виду грамоты от декабря 1610 года, а также от 8 и 9 января 1611 года. По его мнению, «знакомясь ближе с содержанием грамот, приписываемых Гермогену, нельзя признать их подлинными. Прежде всего совершенно невозможно примирить содержание этих грамот с ответом Гермогена на грамоту Сигизмунда от 23 декабря 1610 года. Благодаря за выраженную королем в грамоте готовность отпустить сына на московский престол, Гермоген в своем ответе, вместе с Освященным собором и боярской Думой, просил о скорейшем прибытии Владислава в Москву, так как, по его словам, русские люди “такова тяжка времени долго терпети не могут, яко овца без пастыря, или яко зверь велик главы не имеет”. Для чего было приглашать королевича, когда Патриарх желал вовсе устранить его от русского престола? Приглашение королевича и одновременно с этим вооружение против него русского народа могли вести лишь к усилению смуты, чего, конечно, не мог желать Гермоген…». Хотелось бы напомнить, что сама переписка между Гермогеном и Сигизмундом имела декларативный характер. Сигизмунд уже высказал намерение занять русский престол вместо сына, русские его сторонники уже пытались принудить Гермогена к полной покорности воле короля, патриарх уже отверг их притязания. И тут Сигизмунд дает твердое обещание сделать то, чего он, как твердо знает патриарх, уже не сделает. Что ж, каков привет, таков и ответ. Ничего нелогичного в поведении Гермогена не видно.
Наконец, в-третьих, «в приписываемых Гермогену грамотах обнаруживаются данные, которые прямо противоречат фактам, устанавливаемым другими современными известиями. Так, например, поляки заявляют о грамотах Гермогена в Нижний Новгород от 8 и 9 января; между тем, из переписки нижегородцев с Ляпуновым мы узнаем, что Патриарх тогда “приказывал” им “речью”, а письма от него не было, – “что де у него писати некому, дьяки и подьячие и всякие дворовые люди пойманы, а двор его весь разграблен”…» Однако грамота от 9 января адресовалась отнюдь не в Нижний Новгород, а казачьим атаманам Просовецкому и Черкашенину. Что же касается грамоты от 8 января, то, как уже говорилось, патриарх «приказывал» нижегородцам устно за несколько дней (возможно, за неделю) до 8 января, не имея возможности написать, а когда такая возможность у него появилась, отправил письмо вдогонку послам из Нижнего.
Успенский подводит итог: «Не колеблясь, можно сказать, что приписываемые Гермогену грамоты, относящиеся к декабрю 1610 г. и январю 1611 г., принадлежат подложным патриотическим грамотам, довольно распространенным в то время. Гермоген возбуждающих грамот против поляков не писал». Не колеблясь… Лучше в таких случаях испытывать колебания, нежели с уверенным видом сообщать оппонентам непродуманные доводы.
Между тем Успенский с какой-то странной торопливостью, не выбирая слов, то и дело высказывает совершенно необоснованные суждения. Вот, например: «Как ставленник нелюбимого народом царя и как его невольный защитник, патриарх, естественно, не мог приобрести себе расположение паствы. При этом у него не было выдающихся внешних качеств, которые могли бы доставить ему популярность…»{338}. Правда состоит в том, что историческая наука просто не располагает сведениями о внешности Гермогена. Имел он «выдающиеся внешние качества» или не имел, неизвестно.
Но у Волковой и Успенского, допустим, работы популярного жанра. Гораздо весомее прозвучало выступление серьезного специалиста – Л.М. Сухотина.
Он решительно отрицал побуждающую роль патриарха в восстании Ляпунова на Рязанщине, а также скором распространении земского дела на новые города и земли.
Сухотин привел солидный аргумент против этого. Он подметил: земское движение не имело внутри себя единства. В нем участвовало два принципиально разнородных элемента. Первый из них, ненадежный, наполненный бунташным духом, как раз и составляли ляпуновцы. В их воинство входили дворяне, казаки, «низы украинного общества» и всякий «сброд», – люди, давно зараженные мятежной стихией и действующие по прежнему образцу болотниковцев, тушинцев. И сам Ляпунов, главный вожак южнорусской части земцев, принадлежал к числу «прежних заводчиков». Второй элемент земского освободительного движения, более твердый и чистый, составили города Замосковья, вставшего на защиту «исконного порядка»{339}. И разве мог Гермоген, защитник старой России, твердая опора царя Василия IV, враг тушинцев, призывать к восстанию и поддерживать «смутьяна» Ляпунова? Собранная рязанским воеводой армия являлась, по мысли Сухотина, идейно чуждой патриарху{340}. Частично ученый был прав, когда указывал на слабость ляпуновской части земского движения, слишком уж привычной к неверности и бунтовскому неистовству. Тут не с чем спорить! И, разумеется, Гермоген не мог не видеть эту гнильцу, впоследствии разъевшую тело земского ополчения изнутри. Но в целом этот аргумент Сухотина подрывается двумя обстоятельствами. Во-первых, патриарх выступал в качестве врага тушинцев, когда рядом с ним стоял законный православный государь Василий Иванович, живая ось русского державного порядка; но со времен его падения минуло много месяцев, а новый государь не появился. Во-вторых, «тушинский лагерь» возглавлялся откровенным Самозванцем; ушел в могилу Самозванец, а вместе с ним ушла и самая серьезная причина вражды между патриархом и южнорусским воинством. Иными словами, идейное противоречие, каковое можно бы, теоретически, обнаружить меж Гермогеном и южной вольницей, к исходу 1610 года сильно смягчилось.
По мнению Сухотина, в лучшем случае нравственный пример Гермогена, его стойкость и его ободряющие речи возымели какое-то влияние, трудно поддающееся подсчету. Но никаких писем, призывающих к силовому сопротивлению, он не писал. Окончательная формулировка Сухотина звучит категорично: «Не отрицая сношений патриарха Гермогена с Нижним в январе 1611 года через нижегородских посланцев, бывавших в Москве у патриарха и беседовавших с ним, признавая, что в деле присоединения Нижнего, а за ним и других городов Замосковья к восстанию Ляпунова слухи о стойкости патриарха и его ободряющее слово (но не призывные грамоты, каковых не было вовсе) должны были сыграть известную роль, мы настаиваем на том, что… само восстание Ляпунова и присоединение к его восстанию городов Рязанских, Украинных и Заоцких произошло независимо от Гермогена»{341}. Работа Сухотина сохраняла актуальность, пока в научный оборот не было введено послание Гермогена из «Вельского летописца», где патриарх без обиняков призывает храбро стоять против поляков и литовцев. В.И. Корецкий, публикатор послания, буквально похоронил статью Сухотина, поскольку письмо, как он замечает, «…несомненно свидетельствуя о связях патриарха с ополченцами, серьезно подрывает мнение Л.М. Сухотина о непричастности Гермогена к делу первого ополчения»{342}. Тут и добавить нечего.
Советское время принесло с собой негласный запрет показывать выдающую роль каких-либо представителей духовенства на общественную жизнь. На них возложили клеймо «мракобесов», «хранителей вековечной отсталости», «прислужников царизма» и, конечно, людей социально не близких рабоче-крестьянскому социуму прогрессивной Страны советов.
Гермоген, еще недавно воспринимавшийся обществом как один из величайших героев и подвижников Смутного времени, на одном уровне с Мининым и Пожарским, просто исчез со страниц исторических монографий. А там, где патриарха нельзя было обойти, он либо оказывался жертвой марксистской идеологии, либо уходил в тень – труды его обставлялись сверхосторожными формулировками, внимания ему уделялось ничтожно мало.
В 1960–1970-х годах вышла колоссальным тиражом «Советская историческая энциклопедия». Микроскопический очерк о Гермогене туда попал – уже своего рода достижение, понятное ныне только для тех, кто помнит, с какой тяжестью двигались жернова советской энциклопедической печати. С.М. Каштанову, автору очерка, пришлось проявить своего рода дипломатичность, чтобы донести до читателя хоть какие-то позитивные сведения о патриархе. Вот соответствующий фрагмент очерка: «В кон. 1610 [Гермоген] выступил против предложения бояр о присяге польск. королю Сигизмунду III. Во время оккупации польск. феодалами Москвы Г. со 2-й пол. дек. 1610 стал рассылать грамоты по городам с призывом к всенар. восстанию против интервентов, рассчитывая на помощь отрядов П.П. Ляпунова»{343}. В таких обстоятельствах святитель никак не мог быть подан в качестве одного из основателей народного освободительного движения. Как говорится, «ну хоть так».
Совсем иначе повернул дело Р.Г. Скрынников – один из признанных авторитетов советской исторической науки, притом ученый, специализирующийся по периоду Московского царства. Руслан Григорьевич имел легкое перо, много издавался как автор научно-популярной литературы, взгляды его на какое-то время овладели громадной аудиторией. Миллионы советских граждан знали царствование Ивана Грозного и события Смутного времени «по Скрынникову», а не как-либо иначе. С Гермогеном историк обошелся весьма сурово.
Вся история патриарших грамот, рассылаемых по городам и областям, у Скрынникова предстает как часть процесса, инспирированного Гонсевским и Салтыковым. Оба мечтали «расправиться с патриотами». Поскольку среди тех, кто не одобрял власть поляков с их русскими клевретами, оказались князья Голицыны, Воротынские и сам патриарх, им, разумеется, предъявили обвинения. Однако, по мнению историка, «ни патриарх, ни Голицын с Воротынским не имели никакого отношения к назревавшему выступлению низов. Своих казаков[86]86
Казаками Скрынников назвал ратников Лжедмитрия II.
[Закрыть] эти люди боялись гораздо больше, чем иноземных солдат». Скрынников даже пишет о большом «недоверии» патриарха к земскому ополчению, когда оно начало складываться…{344} Когда поляки приписали Гермогену тайную переписку с «Вором», нелепость этого обвинения была очевидна для всех. Скрынников напоминает: «Московскому патриарху принадлежали обширные земельные владения. Владыку окружали вооруженные дети боярские и дворяне, получавшие поместья из его рук. У главы Церкви были свой дворецкий, казначей и другие проверенные и преданные чиновные люди. Боярский суд предъявил Гермогену обвинение в государственной измене, которое позволило применить к Церкви неслыханные со времен опричнины меры. Суд постановил распустить весь штат патриарших слуг – дьяков, подьячих и дворовых людей… Отныне главу Церкви окружали одни соглядатаи Гонсевского. Вмешательство в церковные дела, инспирированное иноземным командованием, вызвало возмущение в столице»{345}.
Скрынников приписывает польским офицерам изощренно-иезуитский образ действий. «Официальная версия, изложенная в королевской грамоте в апреле 1611 года, сводилась к следующему: “По ссылке и по умышлению Ермогена патриарха московского с Прокофьем Ляпуновым почала на Москве во всяких людех бытии великая смута”. Следуя польским отпискам из Москвы, Жолкевский сообщал, будто Гермоген признал свою вину». А это, как справедливо замечает Скрынников, сомнительно: Арсений Елассонский и «Новый летописец» говорят об обратном{346}. Что получается? Поляки оболгали Гермогена, приписав ему заговорщическую деятельность, подстрекательские грамоты и т. п., но сам он и вся Москвы должны были воспринимать подобные обвинения как наглую ложь, направленную к одной цели – разгрому Церкви, мешавшей диктату короля-католика Сигизмунда. Притом Гонсевский сообщил Жолкевскому, что добился у Гермогена признания в том, чего, по логике Скрынникова, при любых обстоятельствах совершаться не могло. О каких-либо пытках нигде речь не идет. Запугивание на патриарха не действовало. Как же тогда Гермоген мог признаться в том, чего не совершал?! Нонсенс. Выходит, поляки из московского гарнизона то ли надули собственное начальство, то ли… сами поверили в ими же созданный фантом.
Признавался ли в чем-то Гермоген, не признавался ли, но ему, получается, это признание приписали. А королю и его окружению всё равно: виновник найден, «убран с доски», официальная версия событий создана, чего ж еще? Не копаться же в делах второстепенных персон, вроде Гонсевского?
Всё это выглядит красиво, но… вместо ссылок на источники – сплошные логические спекуляции. Правдоподобнее выглядит хотя бы частичное признание Гермогена в связях с русской провинцией – после того, как поляки предъявили ему перехваченные грамоты.
Но, допустим, Скрынников прав, и патриарх никаких воззваний к народу не рассылал. Откуда в таком случае появились многочисленные упоминания патриарших грамот в источниках?
Скрынников уверен: никаких грамот, способствовавших подъему земского движения, не существовало. Более того, их в принципе существовать не могло! Да, Гермоген всеми силами противился новым уступкам в пользу короля и его московских агентов, но вовсе не собирался окончательно порывать с «Семибоярщиной». Патриарх нуждался в поддержке бояр, чтобы они защитили церковное землевладение от потенциальных посягательств Сигизмунда III. Кроме того, Гермоген и его окружение, как полагает Скрынников, «прекрасно понимали, что конфликт с Боярской думой чреват многими затруднениями… Царская власть считалась оплотом православной Церкви, и царь-католик никогда не мог занять московский трон. Король отказался крестить царя Владислава в православную веру, и лишь избрание нового государя могло положить конец смуте и анархии. Но в соответствии с вековой традицией избрать царя не мог никто, кроме Боярской думы. Именно по этой причине Гермоген упорно избегал разрыва с боярским правительством и думой»{347}. Наконец, Скрынников апеллирует к нравственному облику святителя. Как же так, картинно изумляется исследователь, ведь в ответ на послание польского короля от 23 декабря 1610 года Гермоген благодарил его за готовность отпустить сына на московское царство и просил, чтобы королевич поскорее прибыл в Россию; он же призывал присягать Владиславу; «если при этом Гермоген рассылал по городам тайные грамоты с призывом к восстанию против Владислава и бояр, тогда придется сделать вывод о том, что его действия являют собой образец чудовищного двуличия и лицемерия. Однако такой вывод вступает в противоречие со всем, что известно о Гермогене. Он всегда поступал с редкостной прямотой, нередко во вред себе»{348}.
Вот другие аргументы Скрынникова: в грамотах, датированных концом января 1611 года, Ляпунов сообщает всей России: «Я спешу к Москве по благословению Гермогена!» – но не говорит, что у него имеется патриаршее послание на сей счет. Вполне ли доверял патриарх мятежному, неистовому Ляпунову? И уж точно патриарх вряд ли доверял казакам, стекавшимся из южных городов к столице: «Гермоген сам происходил из донских казаков и нисколько не сомневался в том, что, очистив Москву, атаманы постараются посадить на трон “воренка”, который в глазах власть имущих был в тысячу раз хуже Владислава… Гермоген яростно противился вступлению иноземных войск в Москву. Инспирированный Гонсевским суд лишь укрепил его репутацию патриота и страдальца за родную землю. Последующие притеснения окружили его имя ореолом мученичества. При таких обстоятельствах патриарх, независимо от своей воли, стал знаменем земского освободительного движения»{349}. Но, как выходит из слов Скрынникова, это было неподвижное, бездеятельное знамя.
Слухи о «грамотах Гермогена», расходившиеся по всей России, выросли из недоразумения. Эти грамоты представляют собой фантом. Его отчасти создали своими неуклюжими усилиями поляки, отчасти же – само патриотическое движение.
Так, все бумаги, на которые ссылаются Гонсевский и прочие польские военачальники, – фальсификат. Во время переговоров 1615 года Гонсевский предъявил их русским дипломатам, но обмануть их было трудно, так как они являлись очевидцами и участниками московских событий. Они сейчас же объявили письмо от 8 января 1611 года, которое Гонсевский пытался выдать за патриаршее, подложным. Скрынников уверен в их правоте, так как, по его словам, 12 января 1611 года в Нижний из Москвы вернулись ездившие к Гермогену гонцы. Они передали устное послание, а писем не привезли. «Итак, у Гермогена не было нужды составлять 8 января 1611 года писаную грамоту, ибо он только что передал все необходимые устные распоряжения нижегородцам через верных людей»{350}.
Скрынников также пытается показать, откуда взялось «ложное» сведение о получении жителями Перми копии с особой патриаршей грамоты из Нижнего. В феврале 1611 года нижегородцы «в собственной грамоте так передали содержание полученного ими от патриарха наказа: “Приказывал нам святейший Ермоген патриарх, чтоб нам, собрався с окольными и поволскими городы, однолично идти на польских и литовских людей к Москве вскоре”. Гермоген отнюдь не призывал нижегородцев к тому, чтобы они соединились с мятежными казаками-тушинцами из Калужского лагеря, а также с мятежными рязанцами… в наказе не было ничего, что было бы направлено против Мстиславского или других вождей семибоярщины»{351}. Ведь, с точки зрения Скрынникова, Гермоген по одному своему социальному положению обязан был сохранять лояльность в отношении боярского правительства. Выходит так: ну не мог он плохо о «Семибоярщине» отозваться, не такой он человек! Не предал бы социально-близких феодалов, в коих так нуждался! Проглядывает во всем этом вульгарный социологизм. Скрынников как будто загоняет патриарха в каморку социального статуса, притом обрисованного с исключительной примитивностью, и не позволяет совершать никаких поступков, выходящих за пределы этой тесной «жилплощади».
По двум причинам столь много места уделено здесь мнению Р.Г. Скрынникова. Во-первых, оно высказано пространно и получило обширную аргументацию. Во-вторых, оно разошлось по всей России, чему способствовала широкая популярность книг Руслана Григорьевича.
Но если всмотреться в суть его аргументов, то придется многое в них поставить под вопрос.
По поводу «боязни» ввязываться в общее дело со Лжедмитрием и его «казаками»: выше уже говорилось, что под руководством Лжедмитрия находились не только они, но и значительные дворянские отряды. Кроме того, вопрос о страхе перед восшествием на престол «вора» или «воренка» снимается самыми простыми контраргументами. Лжедмитрий II в декабре 1610 года ушел из жизни, и его можно было не опасаться; а против «воренка» Гермоген ясно и прямо высказался в хорошо известном послании нижегородцам, одновременно благословляя земское дело. Значит, призыв к восстанию против поляков и полное отрицание кандидатуры «воренка» на престол вполне совмещались в уме патриарха.
Опасение Гермогена поссориться с Боярской думой выглядит надуманным. Во-первых, Боярская дума никогда на Руси царя не выбирала. И в 1613 году не она выберет Михаила Федоровича, а земский собор. Во-вторых, в подручниках у поляков оказалась не вся русская аристократия и даже не вся Боярская дума. Если на одной стороне выступили князь Мстиславский и боярин Салтыков, то на другой оказались Голицыны, Воротынские, Одоевские, деятельные патриоты. В-третьих, как Гермоген мог ждать от тех же Мстиславского и Салтыкова, что они станут защищать от Сигизмунда церковную недвижимость после их требования во всем покориться воле того же Сигизмунда? Почему, ради чего они стали бы защищать от своего государя земли Патриаршего дома? Никакой логики.
Соображение ученого, согласно которому Гермоген «всегда поступал с редкостной прямотой», даже во вред себе, а потому не стал бы лгать Сигизмунду, наивно. Откуда нам известно о «редкостной прямоте» патриарха? Из его открытых укоризн Шуйскому в ошибках и бездеятельности? Тут видна, скорее, твердость нрава: царь поступает неверно, надо повернуть его в правильную сторону, а если потребуется – нажать! Гермоген – чрезвычайно опытный политик, сторонник жестких мер (судя по его казанскому опыту «вразумления» новокрещенов). К нему пришли и сказали: поклонись Сигизмунду, он отказался; вскоре от Сигизмунда же пришло письмо: «Ждите Владислава!» – а он уже начал поднимать земское дело. Как было отвечать? «Извините, лимит ожидания исчерпан, я решил поднять против вас города, ваше величество?!» Так поступил бы не просто «прямой человек», а откровенный глупец. И странно видеть, как советский ученый пытается приписать церковному иерарху XVII века точь-в-точь такую степень безгрешности, какая обеспечит его гипотезам правдоподобие. Дореволюционный историк Кедров предложил близкие по смыслу контраргументы: первосвятитель старался избегнуть огласки своих действий и намерений; поэтому «нельзя серьезно ссылаться на грамоту Гермогена и русских людей Сигизмунду от последних чисел декабря 1610 года, где патриарх благодарит короля за обещание дать Владислава. Мы знаем, что Сигизмунду посылались грамоты с именем Гермогена в их начале, но без его подписи в конце. С другой стороны – самая эта грамота не что иное как деликатная отписка на деликатное сообщение Сигизмунда о том, что он дает сына Владислава на царство. Официально так оно и было; и после поляки говорили, что Сигизмунд никогда не отказывался от дачи королевича, но… за кулисами действовала совсем другая политика, с которой и приходилось бороться Гермогену». Ничего деликатного в обоих письмах нет. Кедров подобрал абсолютно неверный эпитет. Но в остальном он прав: огласка имела бы гибельные последствия{352}.
Ляпунов нигде не написал, что имеет патриаршую грамоту, а упоминал одно лишь благословение Гермогена? Но Ляпунов точно так же никогда не заявлял и того, что подобной грамоты у него нет.
Русские дипломаты признали в посланиях, представленных Гонсевским, фальсификат? Но во время переговоров 1615 года, хотелось бы напомнить, Гонсевский предъявил грамоту из Нижнего Новгорода, до которого поляки не добрались, а в ней призыв к восстанию выражен вполне ясно. Сфальсифицировать ее полякам было бы, мягко говоря, затруднительно. Скрынников о ней даже не упоминает.
Итак, платформа Р.Г. Скрынникова, взятая в целом, сколько-нибудь серьезной аргументации под собой не имеет.
Однако влияние на историческую литературу, которая возникла позднее, эта платформа оказала.
Так, например, те же аргументы повторил и А.П. Богданов в большом биографическом очерке, посвященном Гермогену. Целую главу отдал он «загадке патриарших грамот». Историк считает, что с момента отъезда Жолкевского «патриарх явно потерял способность влиять на политические решения». Однако во второй половине декабря 1610-го – начале 1611 года слово Гермогена обрело особое звучание, поскольку Россия осталась «безгосударна». Патриарх не прекращал проповеди даже «в полупустом соборе, утверждая все то же: если Владислав “не будет единогласен веры нашея – несть нам царь; но верен – да будет нам владыка и царь”»{353}. Но он не возбуждал народного движения грамотами; массовое народное движение само поднялось. Переписывая и пересылая друг другу грамоты, «участники патриотических ополчений первоначально лукавили, ссылаясь на волю патриарха». Из рассуждений А.П. Богданова следует: призывы Гермогена возникли из страстного желания первых, еще робеющих участников восстания опереться на авторитет главы Церкви. Лишь летом 1611 года патриарх, наконец, взял в руки перо: «Гермоген, не призывавший паству к борьбе… но лишь служивший примером стойкого непризнания поражения своей страны, выступил… с воззванием в Нижний, Казань, во все полки и города. Патриарх не нарушил своей линии и ни словом не упомянул ни интервентов, ни бояр-изменников, против которых народ поднялся не по его указанию, а сделав свои выводы из ситуации. Но он был весьма обеспокоен целостностью ополчения после смерти Ляпунова, в частности тем, что претендентом на престол мог стать сын Марины Мнишек… Этой грамотой… патриарх впервые и единственный раз официально признавал, что народ сделал правильный вывод из его рефреном звучавшей проповеди: коли крестится Владислав – будет нам царь, коли нет – не будет нам царем. Признал, что народное восстание было законным и справедливым»{354}.
Для Богданова важно в первую очередь свидетельство «Нового летописца», где патриарх, беседуя с Салтыковым, отрицает, что писал какие-либо грамоты Ляпунову и прочим земским воеводам.
Но что такое «Новый летописец»? Сочинение весьма позднее. В него, конечно, вошли материалы, современные Смуте, даже, быть может, сам Гермоген вел летописные заметки, позднее вошедшие в него. Но окончательная редакция памятника появилась около 1630 (!) года, она имела официальный характер и родилась в придворных кругах, скорее всего, среди приближенных патриарха Филарета{355}.[87]87
Тот же Я.Г. Солодкин уточняет: «Летописец, который велся Гермогеном или под его наблюдением, а после ареста и смерти этого “нового страстотерпца” мог быть продолжен неким лицом из патриаршего клира, допустимо отнести к повествовательным источникам обширной “книги о выслугах и изменах”, сложившейся в придворных кругах незадолго до кончины Филарета, в частности, глав, отражающих судьбу “апостолообразного” патриарха». – Солодкин Я.Г. Существовал ли летописец патриарха Гермогена? // Очерки феодальной России. Вып. 13. М.; СПб., 2009. С. 210.
[Закрыть] А в переговорах с Речью Посполитой московское правительство заявило крайне жесткую точку зрения: во всем виноваты сами поляки, безоглядно и бездумно производившие насилия в Москве, да еще напрасно предавшие Гермогена мучениям; изгнание их – закономерный итог бесчинств гарнизона, а также вероломного поведения Сигизмунда III{356}. Какой же может быть заговор? Какое восстание? И какой из патриарха подпольщик, если он – мученик? Соответственно, и формулировки бесед Гермогена с пособниками поляков были приведены к «правильному», то есть «официальному» виду. «Живые» сцены из «Нового летописца» – итог долгой, вдумчивой редактуры первоначального текста.
Гораздо осторожнее и основательнее в своих суждениях другой современный историк, В.Н. Козляков. Для него важно мнение дореволюционного специалиста Л.М. Сухотина, в сущности, отказавшего Гермогену в сколько-нибудь значимой роли при рождении земского движения. Однако сам Козляков придерживается более мягкой позиции. По его мнению, после проповеди патриарха, направленной против крестоцелования на имя польского короля, «…началась рассылка патриарших обращений по городам – с тем, чтобы там добивались твердого исполнения прежнего договора. Все это происходило “перед Николиным днем”, то есть ранее 6 декабря 1610 года…»{357}. В этом еще нельзя усмотреть прямого, явного воззвания собирать полки, идти к Москве, бить поляков и т. п. Гермоген повлиял на умы «словом правды среди моря лжи», дал духовную опору многим людям, в том числе и Ляпунову, – это не вызывает сомнений. Но Козляков почитает за благо воздержаться от окончательного заключения о каком-либо призыве патриарха к Ляпунову насчет организации земского ополчения уже в декабре 1610 года. «Было бы ошибочным приписывать главе Церкви какие-то конкретные шаги в этом направлении…» – пишет он{358}.
Однако существуют независимые друг от друга свидетельства поляков и нижегородцев о грамотах и устных распоряжениях Гермогена, призывающих собирать полки против иноземцев. Те и другие в одинаковых выражениях пересказывают слова патриарха. Можно, как Р.Г. Скрынников, объявить грамоты, предъявленные или пересказанные поляками, фальсификатом, можно даже нарисовать эпическую картину фальшивого заговора, якобы придуманного врагом ради разгрома Русской церкви. Но объяснить совпадение «показаний» польских офицеров и восставших нижегородцев в этом тонком вопросе как-нибудь иначе, помимо того, что и у тех, и у других имелись подлинные грамоты Гермогена, невозможно. Еще один независимый источник – сочинение Хворостинина – сообщает о некой грамоте, посланной в Рязань и сохранившейся у тамошнего владыки. Следовательно, и область, где воеводствовал Прокофий Ляпунов, главный вождя Первого земского ополчения, не осталась без патриаршего послания.
Поэтому, в конечном счете, надо признать: глава Церкви, храня тайну земского заговора от поляков и их пособников, призвал города и земли русской провинции «идти на польских и на литовских людей к Москве». Решительность действий Гермогена объясняется посягательством поляков на православие: они устроили костел в Кремле, они собирались посадить на русский трон короля-католика. Иначе говоря, мотив действий патриарха – чисто религиозный. Но способ исправления сложившейся ситуации – чисто политический. Видимо, Гермоген уверился в том, что поста и молений в данном случае окажется недостаточно.








