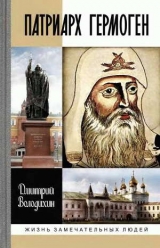
Текст книги "Патриарх Гермоген"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В распоряжении историка нет известий, позволяющих однозначно ответить на эти вопросы. Ясно одно: присутствие чужеземного гарнизона в Кремле, агрессивные действия поляков, недобрые вести от «великих послов» настраивали святителя против Гонсевского и его русских слуг самым худшим образом. Род Голицыных был ему близок. Патриарх допускал избрание князя В.В. Голицына на престол вместо Василия IV. Поэтому можно осторожно предположить: у Гермогена имелись сведения о заговоре. До какой степени он сам оказался вовлечен, сказать невозможно – пришлось бы пуститься в беспочвенные гадания. Во всяком случае, до зимы 1610/11 года патриарх не принимал на себя роль вождя заговорщиков – ни военного, ни даже духовного. Лишь позднее, видимо, ситуация изменилась.
Напряжение в московском обществе дошло до крайних величин под воздействием скверных новостей из-под Смоленска.
Большинство деятелей боярского правительства, а вместе с ними Салтыков и Андронов изготовились проявить покорность Сигизмунду. В Москве подготавливалась присяга на имя польского короля – помимо августовской, данной на имя королевича Владислава. Это означало: русская столица признает над собой власть монарха-католика, нимало не ожидая, что он переменит вероисповедание.
Патриарх переживал черные дни.
За несколько месяцев глава Русской церкви потерпел несколько политических поражений. Стоит напомнить их.
Гермоген четыре года поддерживал Василия IV как законного царя, но очередные бунтовщики все-таки свергли монарха.
Гермоген не сумел настоять на избрании нового царя из русских вельмож.
Гермоген согласился призвать на трон королевича Владислава – иноземца и католика.
Гермоген не смог воспрепятствовать занятию поляками московских твердынь.
Он отступал шаг за шагом, оставлял одну оборонительную позицию за другой. Он надеялся: на каком-то рубеже государственные мужи Российской державы опамятуют, устыдятся и поддержат его. Но те всякий раз требовали: «Уступим еще немного!»
И вот рушится последняя крепость, созданная его волей: «Семибоярщина» готова обойти «великих послов», отправленных – хотя бы формально! – в качестве «выборных людей» от «всей земли». Православию в России грозит невиданное унижение.
Отступать больше некуда. Страна подошла к тому, чего нельзя сдавать ни при каких условиях. Но правительство по-прежнему настроено уступать Сигизмунду ради каких-то высокоумных политических проектов. Неоткуда ждать патриарху помощи. Опереться он может лишь на самого себя и в себе одном отыскать твердость.
Ранее Гермоген вел негласную борьбу против поляков, известную лишь в правительственных кругах да среди офицеров Гонсевского. Отринув ее, святитель переходит к открытому сопротивлению. Глава Церкви наотрез отказывается подписать инструкции «великим послам», наполненные угодливым согласием с любой волей Сигизмунда. Ему угрожают физической расправой, но Гермоген остается непоколебим. Более того, он открыто выступает против крестоцелования польскому королю.
Весть об этом быстро расходится по всей России. Грамоты того времени запечатлели отвагу ветхого годами патриарха: «После Рожества Христова на пятой неделе в субботу писали с Москвы Федор… Андронов да Михайло Салтыков с товарыщи, что на Москве патриарх призывает к себе всяких людей явно и говорит о том: будет королевич не крестится в крестьянскую веру и не выйдут из Московский земли все литовские люди, и королевич де нам не государь; такие же де свои словеса патриарх и в грамотах своих от себя написал во многие городы»{246}. А вот известие более подробное: «Посылал патриарх по сотням к гостям[62]62
Гость – представитель высшей привилегированной корпорации купцов в Московском государстве. Помимо корпорации «гостей» существовали также привилегированные корпорации «Гостиной сотни» и «Суконной сотни».
[Закрыть] и к торговым людям, чтобы они были к нему в соборную церковь; и гости, и торговые и всякие люди, пришед в соборную церковь, отказали, что им королю креста не целовати. А литовские люди к соборной церкви в те поры приезжали… на конех и во всей зброе[63]63
Здесь: боевое снаряжение.
[Закрыть], и они литовским людям отказали ж, что им креста королю не целовати…»{247}
Проповедь Гермогена против целования креста Сигизмунду совершилась на Николин день зимний, 6 декабря.
Несколько дней спустя Москва узнает: убит Лжедмитрий II! Нет больше ложного «царика», страстно желавшего стать настоящим государем.
Наступает время, когда исчезает искусственное разделение русских на тех, кто оказался в стане Самозванца, и тех, кто им противостоит. Стало возможным политическое объединение нации. Глава Церкви получил возможность обратиться и к тем, и к другим с призывом стоять за веру, не поддаваться чужеземной власти, стремящейся пошатнуть православие.
И Гермоген говорит именно то, что должно прозвучать, то, чего требует вера, то, чего ждет от него народ. К проповедям патриарха прислушиваются со вниманием, какого не было доселе. Фигура его возносится в зенит общественной жизни.
Декабрь 1610 года – вот время поворота к открытому противостоянию и третий переломный месяц в судьбе святителя. В сентябре Гермоген то ли просчитал, то ли почувствовал, к каким бедствиям движется Москва. Теперь же он первым испытал на себе их тяжесть: встал во весь рост и возвысил голос против чужого лукавства.
Патриарх знал, что ему всеми силами будут затыкать рот, но, как видно, сильна в нем была иноческая наука. Дряхлый, больной человек, коротающий последние месяцы жизни, вдруг оказался сильнее бояр и воевод – молодых, энергичных мужчин, поддавшихся робости и корыстолюбию. Дух его воспарил над ничтожными страстями политических интриг. Слов его теперь жадно ждали по городам и землям всего Московского государства: пока патриарх стоит, наше дело еще не проиграно!
Гермогена попытались изолировать от народа. Однако в полной мере сделать этого не удалось.
Великий книжник того времени князь Хворостинин восхищенно наблюдал за отважными обличениями Гермогена, ничуть не ослабевшими даже в тот момент, когда поляки начали откровенно давить на патриарха, отгораживать его от паствы. «А он, наш пастырь, – писал Хворостинин, – хотя и отлучен был от приходящих к нему, хотя в страхе многие отказались подходить к его благословению, все же он не оставил обычных своих наставлений, но продолжал говорить, и поносить врагов, и еретическое безумие сокрушать, как мужественный воин Христа или как лев в чаще леса. Он обличал словами книг божественного писания их еретические замыслы против нашего благочестия, неотступно нападал и немилосердно сокрушал красноречием своих слов врагов божественных установлений. Ведь был он искушен в науках и в книжной мудрости, каноны и жития святых написал, отцом церкви был, славным кормчим, славно направляющим корабль Христа»{248}.
Другой книжник с таким же восторгом пишет о Гермогене: «Словно столп непоколебимо стоит он посреди нашей великой земли, посреди нашего великого государства, и православную веру защищает, а всех душепагубных наших волков и губителей увещевает. И стоит один против всех них, как муж-исполин, без оружия и без воинского ополчения, только учение, как палицу, держа в своей руке против великих агарянских полчищ и побеждая всех. Так и он, государь, вместо оружия только словом Божьим всем врагам нашим затворяет уста и, в лицо их посрамляя, ни с чем отсылает от себя. А нас всех укрепляет и поучает устрашения и угроз их не бояться и душами своими от Бога не отступаться, а стоять бы крепко и единодушно за дарованную нам Христом веру и за свои души, как и они, горожане, в том граде и как посланцы наши под тем же градом… Непоколебимый столп… мужественно и непреклонно духом своим стоит и не единые лишь стены великого нашего града держит, но и всех живущих за ними бодрит, и учит, и духовно им в погибельный ров впасть не велит. И более того, великое это безводное море словесами своими утишивает и укрощает. Сами все видите! Если бы не он, государь, все здесь держал, то кто бы другой такой же встал и нашим врагам и губителям мужественно противостоял?! Давно бы под страхом наказания от Бога отступились, душами своими пали и пропали»{249}.
Глава пятая.
ЗАТОЧЕНИЕ И СМЕРТЬ
Последний год в жизни святителя Гермогена представляет собой одно сплошное стояние за веру и постепенно нарастающие муки. Патриарх, как пастырь православного «стада словесного», оказался самым опасным врагом для польского командования в Москве и боярской группировки, готовой подчиниться воле Сигизмунда III по вопросу о вере.
Гермоген не уступал, поскольку правильно было – не уступать. Он стоял, как волнолом, не рассуждая, разобьет его очередной шторм в крошку или пощадит и нельзя ли выдернуть из дна морского гранитные корни да отползти на безопасный берег. Он просто поступал так, как повелевал ему долг, связанный с патриаршим саном.
В Смуту, что ни возьми, всё сдвинулось со своих мест. Воин не дрался, а бежал с поля боя. Воевода не служил царю, а переходил на сторону его врагов. Крестьянин бросал плуг и подавался в казаки. Царем оказывался безродный самозванец с «ветром перемен» в голове. Редкие люди оставались тем, к чему предназначил их Господь. Среди них возвышается фигура патриарха. Гермоген не отступил в главном. Он являлся патриархом, говорил как патриарх и совершал поступки как патриарх. Страх поплатиться за неотступное следование духовному долгу ему был неведом.
В условиях Смуты оставаться тем, кто ты есть, – великое испытание. И одновременно великая нравственная высота. Твердость и прямота в эпоху хаоса и кривизны могут стоить состояния, здоровья, жизни.
Всем этим и заплатил за свою несокрушимость глава Русской церкви.
Гермоген пережил три периода ограничения свободы, притом каждый новый ставил патриарха во всё более тяжелое положение.
Приблизительно в конце декабря 1610-го – первых числах января 1611 года Патриарший дом подвергся разгрому. Поляки с яростью смотрели на то, как глава Церкви противится возведению на русский престол царя-католика. Они также всерьез опасались взрывного действия, которое могли иметь грамоты Гермогена, рассылаемые за пределы Москвы[64]64
Об этих грамотах Гермогена подробно – в следующей главе.
[Закрыть]. В итоге их начальник Гонсевский принудил пропольскую администрацию с боярином Салтыковым во главе к решительным действиям. Те поставили стражу на Патриаршем дворе и с тех пор содержали первоиерарха в режиме домашнего ареста.
Такова первая стадия изоляции патриарха от внешнего мира.
На Патриаршем дворе Гермогену жилось по-разному. Сначала он оказался лишен слуг, бумаги и чернил, а также всего ценного имущества.
Однако у святителя нашелся сильный защитник. Прокофий Ляпунов, рязанский воевода и лидер поднимающегося земского движения, прислал в Москву требование облегчить участь первоиерарха. Положение Гермогена изменилось к лучшему не позднее 8 января 1611 года: он уже мог писать послания{250}.
По прошествии недолгого времени эти льготы исчезли.
В стране поднималось земское освободительное движение. Оно стало прямой вооруженной угрозой для польско-литовской власти в Москве. Патриарх, отказавшись уговаривать земцев о замирении с Гонсевским и Салтыковым, оказался жертвой мщения последнего: «Он [Салтыков] позорил и ругал его (Гермогена. – Д. В.), и приставил к нему приставов, и не велел никого к нему пускать»{251}.
Впрочем, в «Казанском сказании» – публицистическом памятнике, составленном вскоре после этих событий, инициатива «ужесточения режима» приписывается не Салтыкову, а самому Гонсевскому. Тот велел поставить стражу у ворот Патриаршего двора, «да никто же внидет»{252}.
Очевидно, охрана стерегла древнего старца без особой бдительности. Во всяком случае, он умел связаться с «внешним миром», когда требовалось. Так, до Гермогена добрались нижегородцы Пахомов и Мосеев, а от него по городам и отрядам собирающегося земского войска продолжали расходиться грамоты.
Еще один эпизод патриаршего вмешательства во «внешние» дела, кажется, произошел на Вербное воскресенье 1611 года.
Столица копила силы для большого вооруженного выступления, во главе которого встанут знатные дворяне и аристократы: И.М. Бутурлин, князь Д.М. Пожарский, И.А. Колтовский. Похоже, что заодно с ними действовал князь Андрей Васильевич Голицын, пусть и стесненный условиями домашнего ареста. По своему влиянию, родовитости, а также как брат В.В. Голицына он мог оказаться на самом верху иерархии повстанцев. Извне организаторы получали помощь от Ляпунова.
Им не удалось сохранить приготовления в тайне. Гонсевский знал о готовящемся восстании. Он предпочел нанести превентивный удар – устроить масштабную карательную акцию.
Эта акция подавления планировалась на Вербное воскресенье. В 1611 году оно пришлось на 17 марта.
До немецкого наемника Конрада Буссова, служившего тогда полякам, слухи о грядущем столкновении доходили в искаженном виде. Но кое-что он все-таки слышал. По его мнению, поляки сначала хотели запретить праздничное шествие на Вербное воскресенье из-за боязни беспорядков. Однако потом отказались от своего намерения. Они лишь выстроили войска в полном вооружении и готовности к бою. «Было достаточно ясно, – пишет он, – что в ближайшее время московиты учинят возмущение по той причине, что военачальник и полковники не хотели разрешить московитам празднование Вербного воскресенья (которое после Николина дня является у них самым большим праздником в году) во избежание мятежа и бунта… По их обычаю в этот день царь идет из Кремля пешком в церковь (которую они называют Иерусалимом), а патриарх едет, восседая на осле, и этого осла царь должен вести под уздцы… Для участия в этом празднестве стекаются бесчисленные тысячи людей. Все, что только может ходить, отправляется туда, и там происходит… скопление народа… Поскольку, однако, из-за запрещения этого праздника народ еще больше озлобился бы и получил повод говорить, что лучше умереть всем, чем отказаться от празднования этого дня, то им разрешили праздновать его, только вместо царя пришлось одному из знатных московитских вельмож, Андрею Гундорову[65]65
Князь Андрей Гундоров – маловлиятельный русский аристократ «третьего сорта», выглядевший крупной персоной лишь в глазах простого наемника.
[Закрыть], вести под уздцы осла… Но немецкий и иноземный полк и все поляки были в полном вооружении и начеку. Начальникам все же удалось разведать, что московиты задумали обман и что-то собираются затеять и что сам патриарх – зачинщик всего мятежа и подстрекает народ к тому, чтобы, раз в Вербное воскресенье мятеж не состоялся, поднять его на Страстной неделе»{253}.
Один из польских военачальников считал, что подготовка к восстанию велась с крещенских празднеств, чуть ли не с Рождества. Пользуясь скоплением народа, русские, по его словам, «замышляли измену». В ответ поляки «целым войском держали стражу» и с Рождества до Крещения «не расседлывали коней» ни днем ни ночью. Тогда русские, заметив постоянную готовность иноземцев к бою, «отложили свое намерение до удобнейшего времени», желая захватить неприятеля врасплох, без потери своих. Поляки не оставляли своей настороженности. «Все мы утомлялись частыми тревогами, которые бывали по 4 и по 5 раз в день, – признается он, – и непрестанною обязанностью стоять по очереди в зимнее время на страже: караулы надлежало увеличить, войско же было малочисленно. Впрочем, товарищество сносило труды безропотно: дело шло не о ремне, а о целой шкуре»{254}. Точно так же польско-литовская рать провела и Вербное воскресенье: в доспехах, ожидая нападения, не расседлывая коней. «Вербное воскресенье прошло тихо: в крестном ходу народу было множество; но потому ли, что видели нашу готовность, или поджидали войск, шедших на помощь, москвитяне нас не трогали. Хотели, как видно, ударить все разом». Однако ударили первыми все-таки не русские, а бойцы Гонсевского.
Поляк с неохотой проговаривается об этом: как только пришли известия о движении к Москве земцев, началась резня. «Во вторник поутру, когда некоторые из нас, – говорит он, – еще слушали обедню, в Китае-городе наши поссорились с русскими. По совести, не умею сказать, кто начал ссору: мы ли, они ли? Кажется, однако, наши подали первый повод к волнению, поспешая очистить[66]66
То есть ограбить
[Закрыть] московские домы… кто-нибудь был увлечен оскорблением, и пошла потеха»{255}.
Итак, русские всё замышляли, замышляли «измену», однако проворнее оказались поляки, первыми затеявшие драку.
Судя по русским источникам, поляки собирались устроить показательную акцию подавления. На сей счет наши летописцы выражают полную уверенность{256}.
И тут Гермоген, пусть и пребывавший под домашним арестом, сыграл, видимо, особую роль. Он сообщил москвичам о приготовлениях поляков. Как минимум о том, что русские приспешники чужеземцев советуют им устроить на Вербное воскресенье большое побоище.
Псковская летопись сообщает: когда русские начали собираться на праздничное шествие, чтобы «зрети святительское шествие на осляти, умыслиша… польские люди в той день посети всех во граде собравшегося народа; святейший же патриарх, слышав сия, не восхоте ити на осляти ко Иерусалиму, а народам и священником повеле в тайне поведати, да не входят люди во град, хотят бо погани посещи всех…»{257}. Значит, заключение Гермогена на Патриаршем дворе было не столь уж крепким и непроницаемым. Те, кто хотел до него добраться, добирались. Да и он сам мог передать весточку.
Правда, к этому известию надо отнестись с долей сомнения, ибо оно содержит неточности, рассеянные по всей летописной повести о событиях в Москве.
«Новый летописец» излагает события иначе: Михаил Салтыков с офицерами польско-литовского гарнизона «начал умышлять, как бы Московское государство разорить и православных христиан порубить, и удумал убить патриарха и христиан в Цветную неделю, как патриарх пойдет с вербою». Все роты вражеские, конные и пешие, встали по площадям наготове. «Патриарха же Гермогена взяли из-под приставов и повелели ему священнодействовать». Но москвичи, «видя такое умышление», не пошли «за вербою», поскольку «час еще тот не подошел, чтобы православным христианам всем пострадать за истинную веру Христову». Тогда иноземцы, «видя, что христиан за вербою нет, начали сечь»{258}. Гермоген ли сообщил москвичам о намерениях Салтыкова с присными, сами ли москвичи рассмотрели это намерение, непонятно. Возможно, и то и другое. Шествие, судя по другим источникам, все же состоялось, а патриарх принял в нем участие. Но, вероятно, народу собралось меньше, чем обычно: боялись резни. Что ж, резня отсрочилась на двое суток…
То, что произошло после Вербного воскресенья, можно назвать «столкновением на контркурсах». Поляки начали свою превентивную операцию, не понимая, какая сила уже накоплена для восстания в Москве. Руководство московских патриотов рассчитывало нанести удар позже, когда войска лидеров земского ополчения – Ляпунова и Просовецкого – подойдут к столице. Иными словами, обе стороны начинали бой в ситуации, которую они тактически просчитать не сумели.
Плохо подготовленные действия обеих сторон могут показаться хаосом стихийно вспыхнувшей бойни, «спонтанщиной», беспорядочно совершаемыми жестокостями. Но это совсем не так.
Повстанцы среагировали на контрмеры Гонсевского очень быстро. Как только группы иноземцев начали расходиться по московским улицам, а офицеры поляков принялись ставить пушки в ключевых местах, им было оказано сопротивление. Дело не в рыночных драках, воспринятых некоторыми современниками в качестве причины будущей резни, и не в резком нарастании всеобщего озлобления. Гонсевский сделал ход раньше, чем от него ожидали. Повстанческое руководство бросило против его бойцов небольшие группы ратников, которые удалось собрать быстро, без всеобщего сосредоточения. К ним моментально присоединился московский посад, уставший терпеть бесчинства поляков. Тогда гарнизон принялся убивать всех посадских, не разбирая, где виноватые, а где невиновные. Бойцы Гонсевского разбрелись по лавкам Китайгорода, принялись резать хозяев и грабить{259}.
Москве предстояло пережить страшные дни.
19 марта 1611 года грянул бой, разошедшийся по многим улицам от Китай-города и Кремля.
Сражение за Великий город отличалось необыкновенным ожесточением: поляки штурмовали русские баррикады, а их защитники расстреливали толпы захватчиков из ружей и пушек. Именно тогда среди вождей «Страстного восстания» высветилась фигура Дмитрия Михайловича Пожарского.
Польские отряды устроили дикую резню в Китай-городе, положив тысячи русских, большей частью мирных жителей. Затем они вышли из-за стен и попытались утихомирить море людское, двигаясь по крупнейшим улицам русской столицы. Отряд, наступавший по Тверской улице, наткнулся на сопротивление в стрелецких слободах и остановился. Движение по Сретенке также затормозилось, обнаружив мощный очаг сопротивления: «На Сретенской улице, соединившись с пушкарями, князь Дмитрий Михайлович Пожарский начал с ними биться, и их (поляков. – Д. В.) отбили, и в город втоптали, а сами поставили острог у [церкви] Введения Пречистой Богородицы»{260}. Дмитрий Михайлович применил наиболее эффективную тактику: использование баррикад, завалов, малых древо-земляных укреплений. Против них тяжеловооруженная польская конница оказалась бессильна. Ее напор, ее мощь, ее организованность пасовали в подобных условиях.
По названию церкви, близ которой Дмитрий Михайлович приказал соорудить острог, можно определить, где проходил оборонительный рубеж. Очевидно, летописец имеет в виду древний Введенский храм на Большой Лубянке. Выстроенный еще при Василии III, он дошел до советских времен. К сожалению, его снесли в 1924–1925 годах и пока не восстановили. Он стоял на углу Кузнецкого Моста и Большой Лубянки, а значит, совсем недалеко от Китайгородской стены. Надо полагать, столь близкое соседство острога с Китай-городом, твердо контролируемым поляками, заставляло Гонсевского нервничать и бросать на разгром Пожарского всё новые силы. Но 19-го Дмитрий Михайлович успешно выдержал натиск противника.
Здесь же неподалеку, на Сретенке, располагалась родовая усадьба Пожарских. «На так называемом “Сигизмундовом плане” Москвы, снятом польскими картографами в 1610 г., в начале Сретенки, справа (если стоять спиной к Китай-городу и Кремлю) виднеется довольно большое деревянное двухэтажное здание с башенкой посередине в окружении мелких построек-служб. На противоположной стороне улицы показаны Пушечный двор, прямо через дорогу – чей-то дворец с причудливыми бочкообразными крышами теремов и башен, а далее – приходская церковь Введения Богородицы. Можно предположить, что первый из описанных домов и есть усадьба Пожарского (сейчас примерно на этом месте находится каменное здание XVII–XIX вв., изначально принадлежавшее ему)»{261}. Очень удобно: прячась на задворках собственной усадьбы, договариваться с мастерами Пушечного двора, стоявшего неподалеку. В нужный час они выкатили новенькие орудия и по приказу Пожарского окатили вражеских копейщиков огнем.
В тот же день, 19-го, карательные отряды поляков удалось остановить на нескольких направлениях. Выйдя из Китайгородских ворот, они устремились к Яузе мимо Всехсвятской церкви на Кулишках. Не сразу, с трудом, но их атаки отбил Иван Матвеевич Бутурлин. Он занял крепкую позицию «в Яузских воротах»{262}.
Вражескую группу, устремившуюся в Замоскворечье по льду, встретил Иван Колтовский с сильным отрядом. Там карателям пришлось туго.
Позднее поляки в своих воспоминаниях признавали: как только они перешли на территорию Белого города, охватывавшего полукольцом Кремль и Китай-город, их дела пошли хуже некуда.
«Тут нам управиться было труднее, – говорит один из них, – здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды: они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нам из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, то есть всадники, не в силах ничего сделать, отступаем; они же нас преследуют и уже припирают к Кремлю… Тут мы послали к пану Гонсевскому за пехотою; он отрядил только 100 человек: помощь слабая, в сравнении с многолюдством неприятеля, но не бесполезная. Часть наших сошла с коней и, соединясь с пехотою, разбросала загороды; москвитяне ударились в бегство; только мы мало выиграли: враги снова возвратились к бою и жестоко поражали нас из пушек со всех сторон. По тесноте улиц, мы разделились на четыре или на шесть отрядов; каждому из нас было жарко»{263}.
Вскоре, однако, поляки нашли страшный, безжалостный способ совладать с восставшими. Они запалили город, и методично выжигали его, ведя наступление вслед за стеной огня. Повстанцы не могли одновременно усмирять огненное буйство и драться с врагом. Отчаянно сражаясь, они уступали улицу за улицей. 21 марта русское дело окончательно потерпело поражение в Москве. Столица, обугленная, занесенная пеплом, умылась кровью.
Земское ополчение опоздало всего на несколько дней…
Сразу после восстания, как пишет Авраамий Палицын, Гермогена «безчестно с престола изринули и в месте нужне[67]67
Нужное место – так в XVII веке называли место, где человек будет испытывать нужду, подвергнется утеснению.
[Закрыть] затворили»{264}. «Новый летописец» уточняет: «Гермогена с патриаршества свели в Чудов монастырь и приставили к нему крепких приставов, не повелели никого к нему пускать»{265}, а на патриаршество беззаконно возвели Игнатия, «фаворита» Лжедмитрия I. Игнатий еще в 1606 году лишился не только патриаршеского сана, но и просто архиерейского. Лжепатриарх хотя и совершил в день Пасхи (24 марта 1611 года) богослужение в Кремле, но верно понимал, как будут смотреть на него духовенство и все православные в России, а потому счел за лучшее бежать в Литву. Осенью его в Москве уже не было[68]68
Близ Смоленска Игнатий был схвачен поляками и представлен королю Сигизмунду III, который предложил ему на выбор – или возвратиться в Москву, или остаться в польских владениях. Игнатий избрал последнее и пожелал поселиться в виленском Троицком монастыре, находившемся тогда во власти униатов. Здесь Игнатий, сочувствовавший и прежде унии, открыто принял ее от архимандрита Велямина Рутского, вскоре сделавшегося униатским митрополитом. В январе 1615 года король Сигизмунд пожаловал Игнатию на содержание его фольварк с приселками, принадлежавший Витебской архиерейской кафедре. В конце 1616 года польский королевич Владислав, вступив в пределы России, чтобы отвоевать себе царский престол, некогда ему предложенный, писал русским в своей грамоте (от 25 декабря): «Мы нашим царским походом к Москве спешим и уже в дороге, а с нами будут патриарх Игнатий да архиепископ Смоленский Сергий (находившийся в плену со взятия Смоленска)», хота, как известно, королевич не достиг своей цели. В Вильне оказывали Игнатию его новые единоверцы, то есть униаты, надлежащее уважение и даже позволяли иногда служить в кафедральной церкви. Скончался Игнатий около 1640 года. См.: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 6. С. 104–105.
[Закрыть]. Гермогену же, истинному главе Русской церкви, позднее сделали еще большее «утеснение» за несговорчивость{266}.
В приведенном выше летописном тексте содержатся явные неточности: во-первых, Гермогена свели с Патриаршего двора на кремлевское подворье Кирилло-Белозерского монастыря (оно располагалось около Фроловских ворот, при древней Афанасьевской обители). Лишь потом он оказался в Чудове. Об этом ясно говорит создатель Пискаревского летописца: «Да немногое время спустя[69]69
После неудачи Страстного восстания.
[Закрыть] патриарха с патриаршества скинули, и сан с него сняли святительской, и велели ему быти на Кирилловском подворье и после в Чюдове монастыре»{267}. Столь же ясно свидетельствует и Конрад Буссов, очевидец тех событий: «Поляки… велели, чтобы 30 стрелков стерегли его в Кирилловском монастыре до прибытия господина Владислава, в ожидании возмездия, которое он заслужил подстреканием к такому бунту и мятежу, из-за которого плачевно погибло столько людей»{268}. То же сообщает и архиерей грек Арсений Елассонский, бывший тогда в Кремле: «Бояре московские изгнали и святейшего патриарха кир Гермогена из патриархии и заключили его в подворье святого Кирилла [Белозерского], снявши с него архиерейские одежды без архиерейского собора, одели его в монашеские одежды, так как имели на него большое подозрение и гнев, говоря, что при его содействии произошло народное восстание»{269}.
Во-вторых, собственно перевод на новое место уже после Кирилловского подворья и явился новым «утеснением».
Итак, второй стадией ограничения свободы Гермогена стало изгнание с Патриаршего двора и отправка на Кирилловское подворье в роли простого, безвластного инока.
Знаменитый русский публицист князь И.А. Хворостинин вообще был уверен, что еще до Страстного восстания (или, возможно, накануне) Гермоген оказался ввергнут в чудовское узилище: «Святейшего патриарха в монастыре святого архистратига Михаила в том же городе Москве заточили и мучили его скудостью пищи и питья. Потом они подожгли город и перебили людей: будто враги, были они заодно с иноплеменниками, и сжигая и убивая нас!»{270}
Откуда такое расхождение? И кто прав? Вглядевшись в судьбу Хворостинина и в творческую его манеру, впору усомниться в точности свидетельств князя.
Иван Андреевич на небосклоне эпохи играл роль яркой звезды: красавец, интеллектуал, родовитый аристократ, да еще и видный военачальник. Блистательный книжник, надменный в своей начитанности, князь в сочинениях своих не заботился о точности излагаемых фактов. Гораздо более увлекали его игра ума да сила художественных образов. Литературный дар, а вместе с тем и своего рода снобизм иной раз толкали Ивана Андреевича на путь упрощения событийного ряда ради придания историческим сюжетам оттенка высокой трагедии. Хворостинин знал Гермогена лично. После кончины патриарха князь посетил место его погребения в Чудовой обители. Духовная твердость патриарха, его небрежение телесными страданиями восхищали Ивана Андреевича, страдавшего от шатости ума. Но князь рисовал портрет святителя крупными мазками, не опускаясь до пошлых дат и бытовых деталей. Как опытный писатель, Хворостинин мог и опустить «мелочь», вроде предварительного заключения патриарха на Кирилловском подворье. По наитию. Ради цельности композиции. Даже если и твердо знал об этом обстоятельстве в судьбе Гермогена…
Но мог и не знать.
Хворостинин провел в Москве 1610–1611 годов совсем немного времени. Он вернулся ко двору из ссылки, а потом оставил столицу, чтобы присоединиться к земскому ополчению. Присутствовал ли он вообще при Страстном восстании? Или, может быть, покинул город задолго до него? В конце концов ратники Ляпунова обозначены в его сочинениях словом «мы»… Личные воспоминания князя о Гермогене, скорее всего, обрываются на событиях зимы 1610/11 года, на первом аресте патриарха и первой попытке отгородить его от людей.
Отсюда – хронологическая ошибка Хворостинина.
Когда же именно Гермоген оказался на Кирилловском подворье?
Литовский военачальник Ян Сапега, находившийся в Усвяте, 15 апреля получил из-под Смоленска письмо, где говорится о заключении патриарха «в тюрьму»{271}. От Смоленска до Усвята – два дня конного пути. От Москвы до Смоленска – дней десять. Еще один день – на само написание грамот из смоленского лагеря поляков Сапеге. Итого получается, что Гермоген не мог попасть в Кирилловскую темницу позже 2 апреля. Но, скорее, это произошло задолго до указанной даты.
Обращает на себя внимание неточное, но показательное свидетельство польского шляхтича Мартина Стадницкого, побывавшего в России смутных лет. По его словам, после разгрома Страстного восстания «поляки никого не щадили. Тогда погибло более 150 тысяч народу; погиб Голицын… погиб и сам патриарх, которого выволокли наружу и разрубили на части… После столь славной победы польскому войску досталась неоценимая добыча. Почти невероятные сокровища находились в царском дворце, в подворье убитого патриарха, в монастырях и церквах и притом в таком изобилии, что пехота, которой уже надоел и опротивел жемчуг, набивала самыми крупными жемчужинами мушкеты и стреляла ими в воздух. Алмазы, драгоценные камни, рога единорогов, украшенные алмазами и жемчугом, и иные драгоценности: золото, серебро – были распределены между вождями и воинами»{272}. Конечно, Гермоген тогда не погиб. Стадницкий ошибается. Святителю предстояло претерпеть заключение, продлившееся еще 11 месяцев. Но сами бесчинства иноземного гарнизона, ограбление Патриаршего двора и, возможно, жестокое избиение самого патриарха, получили у Стадницкого яркую иллюстрацию. Притом слова шляхтича заставляют предположить, что разгром палат первоиерарха случился уже при подавлении восстания, то есть 20–21 марта.








