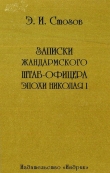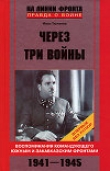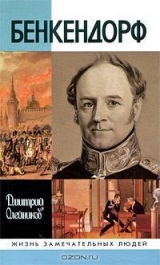
Текст книги "Бенкендорф"
Автор книги: Дмитрий Олейников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Командир эскадрона полковник И. И. Велио (позже в тот день раненный в локоть и лишившийся руки) вспоминал:
«Вскоре после того, как полк выстроился, мы увидали государя… Подъехав к нам, он поздоровался обычным: „Здорово, ребята!“ – на что весь полк грянул единодушно: „Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!“
Тогда государь подъехал к нам ближе, и именно к правому флангу, и спросил:
– Признаёте ли вы меня за вашего царя или нет?
Крики „ура“ были ответом государю, и крики эти вылетали не только из уст солдат, но и офицеров и доказали ему, что полк наш вполне надёжен»20.
Николай приказал Бенкендорфу выстроить конногвардейцев фронтом к мятежникам и спиной к Адмиралтейству.
Было около половины первого.
Примерно в это время сперва к адъютанту Бенкендорфа Голенищеву-Кутузову, а затем к императору подошёл драгунский офицер с перевязанной головой, Якубович, с наружностью «замечательно-отвратительной» по оценке одних и «превосходной» по словам других. Адъютант заметил, что он прячет в кармане пистолет, и сообщил об этом Бенкендорфу. В тот момент многие обратили внимание на то, насколько подозрительно выглядел этот «переговорщик», первоначально воспринятый царём как раскаявшийся парламентёр. («У меня рука чесалась разбить ему череп, так он мне казался опасен для нашего монарха», – напишет Велио.) Бенкендорф на всякий случай подъехал поближе к императору, но тот уже поговорил с Якубовичем и отправил его назад, к бунтовщикам, с предложением сдаться. Существует множество предположений насчёт странного поведения Якубовича в тот день (разведчик? трус? двурушник?). Бенкендорф же был абсолютно уверен, что Якубович намеревался воспользоваться моментом и убить Николая и только более чем насторожённое отношение со стороны императорского окружения помешало ему. (Это Каховский мог беспрепятственно выстрелить из толпы в спину Милорадовичу, а тут, лицом к лицу с Николаем, под взглядом десятков, если не сотен недоброжелательно настроенных вооружённых людей, ждущих покушения, нужно было изловчиться, чтобы засунуть руку в карман, нащупать рукоять пистолета, достать его, взвести курок и прицелиться…)
Вслед за конногвардейцами начали подтягиваться другие верные Николаю части. Бенкендорф, видимо, поспешил навстречу второму своему полку – Кавалергардскому, подошедшему со стороны Невского проспекта (Апраксин так торопился, что не велел солдатам надевать кирасы) и поставил его в резерв на Адмиралтейской площади.
Было около часу дня.
Николай почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выехать на Сенатскую площадь. Как он сам вспоминал: «Тогда отрядил я роту… Преображенского полка… чрез булевар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг Конной гвардии; сам же, с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом, выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами»21. Бенкендорф подтверждает: «Пули свистели со всех сторон вокруг императора, даже его лошадь испугалась. Он пристально посмотрел на меня, услышав, как я ругаю пригнувших голову солдат, и спросил, что это такое. На мой ответ: „Это пули, государь“ – он направил свою лошадь навстречу этим пулям».
Примерно этот момент восстания запёчатлён на знаменитой акварели К. И. Кольмана, обошедшей все учебники и иллюстрированные издания. Кажется, в них нигде не упоминалось, что акварель эта висела в кабинете Бенкендорфа над его письменным столом22 и что с большой степенью вероятности можно утверждать, что генерал на рыжей лошади, указывающий Николаю на мятежников, – это А. X. Бенкендорф.
Ситуация постепенно прояснялась. Николай понял, что может положиться на многих своих солдат и офицеров, и приказал начать окружение пока ещё одиноко стоявшего Московского полка. Бенкендорфу он велел взять два эскадрона конногвардейцев и направиться в объезд Исаакиевского собора, мимо Адмиралтейского канала к Синоду, почти вплотную приблизившись к каре московцев. Всем правительственным войскам был отдан приказ: не поддаваться на провокации. Капитан преображенцев Игнатьев, отправленный занять Исаакиевский мост, получил строгую инструкцию от царя: «Если будут по вас стрелять – не отвечай, пока я сам не прикажу. Ты головой мне отвечаешь»23. Стреляли – то холостыми, то боевыми – только* из каре восставших. По конногвардейцам, оказавшимся у Сената и подошедшим к Московскому полку слишком близко, сделали несколько залпов.
Поначалу их подпустили на 10–12 шагов, приняв за своих. Но на «пароль»: «Да здравствует Константин!» – конногвардейцы ответили неожиданным «отзывом»: «Да здравствует Николай!» – «и получили тотчас же в правый… фланг ружейный залп, вследствие которого некоторые нижние чины были ранены, а один солдат, простреленный в бок от неплотно пригнанных кирас, свалился с лошади»24.
Как вспоминал Бенкендорф, один эскадрон конногвардейцев, «поддавшись внезапному порыву, предпринял против моей воли атаку на лучшую в мире пехоту, готовую эту атаку отразить, и был остановлен градом пуль и штыками»; потом «этот эскадрон по команде „Назад, равняйся“, теряя людей и лошадей, выполнил всё как на учении, так что ни одна лошадь не повернула вспять, и остановился в 20 шагах от неприятельского каре»25. Заметим – не «бунтовщики», а «лучшая в мире пехота».
Эта фраза исполнена трагического видения события и вызывает в памяти эпизод, случившийся через столетие и описанный А. И. Деникиным в его «Очерках русской смуты»:
«Среди офицеров разговор:
– Ну и дерутся же сегодня большевики!
– Ничего удивительного – ведь русские…
Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны…»26
…Так же, как первая «непроизвольная атака», ни к чему не привели и последовавшие уже по команде «атакообразные демонстрации» Конной гвардии – по-другому их назвать трудно, ибо атаки кавалерии на каре пехоты, да ещё по страшной гололедице, на подковах без шипов, с ненаточенными («отпущенными») палашами, могли лишь напугать. Они и напугали – но не солдат, а толпы обывателей, которые бегом очистили площадь, как только в воздухе в буквальном смысле запахло порохом. Это позволило заметно уменьшить число жертв среди любопытного гражданского населения – ценой нескольких раненых. После первых потерь в рядах Конной гвардии казались нелепыми крики перебежавшего к мятежникам Одоевского: «Конногвардейцы, неужели вы хотите проливать русскую кровь?!» Ему отвечали – но всё ещё не выстрелами, а дружным «ура, Николай!» и «несколькими злобными словами».
Время шло к двум часам.
А в половине третьего мы снова видим Бенкендорфа рядом с Николаем I, возвращающимся на площадь из Зимнего дворца мимо адмиралтейской церкви. Император уже произнёс знаменитую фразу, обращённую к лейб-гренадерам, кричавшим «мы за Константина»: «Коли так, то вот вам дорога». Уже был смертельно ранен полковник лейб-гренадеров Стюрлер, сухой и педантичный швейцарец, до последнего следовавший за своими подчинёнными и на плохом русском уговаривавший их вернуться в казармы. Уже подошла артиллерия – но без боеприпасов, которые по обычаю хранились отдельно, на Охте; Бенкендорф пишет, что отправил туда сани, чтобы привезти картечи и ядер. (В официальной истории восстания за боеприпасами посылал генерал Сухозанет27.)
Николай снова попытался образумить бунтовщиков – на этот раз с помощью авторитета церкви. Он послал во дворец за митрополитом Новгородским Серафимом, тщетно ожидавшим царя к назначенному на два часа благодарственному молебну. Бенкендорф запомнил, как «митрополит в сопровождении всех своих священнослужителей пешком с крестом в руках пересёк Адмиралтейскую площадь и появился перед восставшими. Народ расступился, для того чтобы пропустить его, и посреди этого беспорядка воцарилось хмурое молчание. Восставшие солдаты обнажили головы, и митрополит начал говорить. Руководители заговорщиков испугались того действия, которое эти слова могли возыметь, и попросили митрополита немедленно удалиться, что он и принуждён был исполнить».
Солдаты обнажали головы, крестились, но были уверены в правоте своей и своих офицеров: они крестились и повторяли: «Ура, Константин».
Три часа. Конец короткого дня. Смеркается. До полной темноты остаётся не более получаса.
Всю критичность ситуации, понятную в тот момент многим – и на Сенатской, и вокруг неё, – почувствовал и передал в одном из писем В. А. Жуковский: «Что, если бы прошло ещё полчаса? Ночь бы наступила, и город остался бы жертвою 3000 вооружённых солдат, из которых половина была пьяные. – В эту минуту я с ужасом подумал, что судьба России на волоске, что её существование может через минуту зависеть от толпы бешеных солдат и черни, предводимых несколькими безумцами. Какое чувство и какое положение!»28
Действовать необходимо было немедленно. Но Николай очень не хотел начинать пребывание на троне с расстрела.
«Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» – вопрошает он требующего применить артиллерию Васильчикова. «Чтобы спасти вашу империю», – следует ответ.
Быть может, в этот момент Николай внутренне осознал важный принцип поведения верховной власти: чувства и эмоции частного человека, как бы гуманны они ни были, должны быть стянуты железной уздой государственной необходимости. Их место – в доверительных беседах с семьёй и немногими преданными друзьями вроде Бенкендорфа, а не на площадях перед тысячами подданных. Сам император потом вспоминал: «Эти слова меня снова привели в себя. Опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверное всё, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством».
Пушки вывозят перед преображенцами, разворачивают жерлами к мятежникам и демонстративно заряжают картечью. Диспозиция к наступлению разработана. Бенкендорф получает приказ: «Когда орудия начнут стрелять, направить конногвардейцев, батальон Финляндского полка с несколькими орудиями на Васильевский остров, с тем чтобы отрезать гренадер с этой стороны от их казарм».
И все-таки прежде к восставшим отправлен командующий гвардейской артиллерией генерал Сухозанет: «Ребята! Пушки перед вами; но государь милостив, не хочет знать имён ваших и надеется, что вы образумитесь, – он жалеет вас». В ответ кричат: «Подлец!», «Разве ты привёз конституцию?!» – а провожают и вовсе выстрелами, от которых на бульваре и за выставленной батареей падают новые раненые.
«Тогда император, желая взять на себя одного ответственность в этот великий и решительный момент, приказал первому орудию открыть огонь». Бенкендорф запомнил, что «первым ответом противника были крики „Ура!“ и ружейные залпы, но предатели были малодушны; эти бедные солдаты, поддавшиеся агитации заговорщиков, были ими покинуты в минуту опасности. Вскоре их ряды охватила паника, виновные во всём офицеры пытались скрыться от законного возмездия, они старались спрятаться в соседних домах или покинуть город. С этого момента, если их догоняли, то они неотвратимо становились жертвами гнева своих же товарищей. Несчастные солдаты бежали во все стороны, самая большая их часть бросилась в беспорядке на реку и по льду перешла на Васильевский остров». (Отметим это бенкендорфовское «несчастные солдаты», а не «бунтовщики».) Конная гвардия поскакала было вдогонку, но, как записал в дневнике участник преследования В. Р. Каульбарс, на мосту «в этот день было так скользко, что лошади, скользя на все четыре стороны, падали чуть ли не на каждом шагу. Многие слезали и пробовали вести коней в поводу, но безуспешно: увлекаемые лошадьми, они сами валились. При столь невыгодных для преследования условиях мы не успели ещё дойти до противоположного конца моста, как от заговорщиков на Неве и след простыл. Они тем временем разбежались и скрылись по разным линиям Васильевского острова. Видя безуспешность нашего движения, Орлов остановил полк»29.
«Всё было кончено, и оставалось только сбирать спрятанных и разбежавшихся». «Возложив это на генерал-адъютанта Бенкендорфа, государь с своею свитою поехал во дворец».
А Бенкендорфу ещё предстояла встреча с «нейтральными» солдатами Финляндского полка. Годом ранее этот полк, квартировавший на Васильевском острове, был подчинён ему на время ликвидации последствий наводнения. Авторитет Бенкендорфа был достаточно высок, и он смог добиться от солдат «роты, которая чувствовала себя более всех виноватой», конкретного выражения лояльности новому государю. Генерал-адъютант построил эту роту отдельно от других и объявил: «…Для того чтобы получить почётное право присягнуть на верность новому императору, от чего они отказались сегодняшним утром, его надо заслужить, найдя виновных и доставив их… безоружными. Рота, – уверяет Бенкендорф, – поспешила исполнить этот призыв и бросилась в погоню за беглецами».
Беглецы вызывали чувство сострадания. Двое попросили убежища в доме Ф. П. Толстого, знаменитого медальера, некогда запечатлевшего освобождение Голландии. «…Пришли в сени нашей кухни два унтер-офицера, один ещё молодой, приведший другого, уже в летах, с тремя нашивками на рукаве, раненного картечью в ляжку, облитого кровью; я велел отвести его в смежную с кухней комнату, где мы, положив на стулья доски с постланным на них тюфяком, положили раненого. <…> На предложение моё раненому и его товарищу – не хотят ли они закусить или выпить горячего чаю, они отказались. Весьма печальную картину представляли эти два существа – одно пожилое, с полупоседевшею головою на службе отечеству, страждущее от тяжёлой раны; другой – здоровый, сильный и в лучших годах, чтобы жить для пользы отечества. Он стоял неподвижно, как статуя, у изголовья больного товарища, облокотясь на своё ружьё, погружённый, углублённый в думу об ожидающей их горестной участи. Когда я сидел у больного, он со слезами на глазах сказал мне: „В 15 сражениях был я против неприятелей, в разных войнах, нигде не был ранен, а теперь, может, от картечи своих придётся умереть. Бог судья офицерам, которые нас до этого довели“»30.
Ещё одну сцену запомнил пенсионер Академии художеств Фёдор Солнцев: «Вечером, когда всё уже поутихло, я с одним товарищем пошёл к Кадетскому корпусу посмотреть, что делается на Исаакиевской площади. Лишь только мы перешли Румянцевскую площадь, как солдат закричал: „Назад!“ <…> Делать нечего; пришлось идти обратно в Академию. Когда мы подошли к ней со стороны 3-й линии, то увидели лежащего на панели раненого старого солдата Московского полка. В это время приехал Оленин с Бенкендорфом. Увидя солдата, Бенкендорф приказал часовому взять у раненого ружьё. Старый служака заплакал как ребёнок.
– Ты бунтовщик? – спросил его Бенкендорф.
– Нет, я – солдат, – отвечал старик, – нам что прикажут, то и делаем.
Солдата отправили в лазарет, а мы возвратились в Академию»31.
Было около пяти. Давно стемнело.
Бенкендорф снова, как и год назад, стал временным военным комендантом Васильевского острова. На этот раз под его командой находились батальон лейб-гвардии Финляндского полка при четырёх конных орудиях, два эскадрона конногвардейцев и Конно-пионерный эскадрон. Часть войск стала лагерем на площади перед Первым кадетским корпусом, у обелиска румянцевским победам. Остальные разошлись и разъехались «для забирания и обезоружения нижних чинов, рассеявшихся по улицам». Пойманные не оказывали сопротивления. Их помещали в манеже кадетского корпуса, к которому был приставлен караул. Один из членов Северного общества, поручик Розен, принял присягу вместе со своим взводом и получил приказ занять Андреевский рынок. После этого он послушно отправился караулить (от своих подельников?) «тамошний небольшой гостиный двор».
Мороз заметно усилился, и Бенкендорф приказать разжечь костры и принести людям еды. Сам он направился в квартиру начальника корпуса генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова, где нашёл радушный приём, обед и тепло. Первая большая передышка дала возможность порассуждать о произошедшем.
«Только теперь, – вспоминал Бенкендорф, – я почувствовал всю сложность и опасность нашего положения. Гвардия только что победила гвардию, единственная опора империи – император – шесть часов подряд рисковал своей жизнью, в народе было неспокойно, и ещё нельзя было распознать его истинных намерений. Был раскрыт заговор, но пока не были известны ни его руководители, ни его обширность, всё было как в тумане, и всё могло начаться снова. Эти размышления не могли успокоить».
С другой стороны, на глазах Бенкендорфа Николай Павлович, его друг, в один день стал императором в полном смысле слова: «Он был великолепен; ни на мгновение не поддался малодушию, не произнёс ни одного ласкового слова, чтобы польстить или задобрить: это был император и полководец». Все «видели нашего молодого императора отважным, твёрдым и спокойным в минуту смертельной опасности. Офицеры были этим удивлены, а солдаты были в восторге. Победа была на стороне престола и преданности, что же ещё было нужно для того, чтобы войска восхитились и приняли сторону своего нового государя, чтобы они забыли все претензии, которые ещё накануне высказывались в адрес этого человека, лишь недавно бывшего командиром гвардейской дивизии и теперь принявшего скипетр Петра I, Екатерины и Александра? Во всяком случае, мы знали, что если завтра повторятся вчерашние опасности, то наш руководитель, наш владыка достоин и способен направлять наши усилия».
Другими словами, но те же чувства тревоги и надежды, сменяющие друг друга вечером 14-го и утром 15 декабря 1825 года, передавал В. А. Жуковский в письме А. Тургеневу: «Ввечеру… когда уже миновался этот ужас, я думал, как бедственно окровавлен этот торжественный день, какое будущее представляется для России, какая первая минута для нового императора, какое воспоминание для него на целую жизнь, под каким мрачным покровом для него Россия, какая недоверчивость должна вселиться в его сердце! Всё было кончено, но утешение не входило в душу. Но на другой день совсем иная мысль. Зачинщики мятежа взяты. День был кровавый, но то, что произвело его, не принадлежит новому царствованию, а должно быть отнесено к старому. Государь отстоял свой трон; в минуту решительную увидели, что он имеет и ум, и твёрдость, и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него родилась посреди опасности, устранённой ейго духом. Такое начало обещает много. Теперь он может утвердиться в любви народной. На него полагаются, его уважают. Он может твёрдою рукою схватиться за то сокровище, которое Промысл открыл ему в минуту роковую; он может им завладеть на всю жизнь, на утверждение трона, для блага России. Будем надеяться лучшего»32.
Всю ночь войска провели под ружьём, «чтобы лишить злонамеренных возможности возобновить свои покушения в ночное время»33. «До рассвета, – вспоминает Бенкендорф, – ко мне привели свыше шестисот пленных, в основном солдат лейб-гвардии Гренадерского полка, и нескольких офицеров, среди которых был князь Оболенский, нанёсший удар штыком бедному Милорадовичу». В прихожую штабквартиры Бенкендорфа было принесено взятое у мятежников знамя лейб-гвардии Московского полка, с которым Щепин-Ростовский выводил солдат на площадь34. Это было то знамя, вокруг которого утром пролилась первая, а вечером последняя кровь 14 декабря …
Петербург полностью переменился: пешие и конные патрули на пустынных улицах, пушки на мостах, костры и биваки на площадях…
Наступивший день 15 декабря оказался не менее решающим для судьбы царствования, чем предыдущий. Бенкендорф уже утром заметил явно недоброжелательное отношение к себе и своим подчинённым со стороны населения – того самого, которое он спасал от наводнения и его последствий и от которого вправе был ждать уважения. «С первым мерцанием дня, – пишет Александр Христофорович в мемуарах, – народ начал сходиться в толпы и казался взволнованным при виде биваков и заряженных пушек. Наблюдательное положение и невежливость этих сборищ поразили меня; я подошёл к одной толпе и, увидев стоявшего в ней купца, которого знал как человека скромного и тихого, спросил его, по какому поводу этот народ, всегда кланявшийся мне дружески со времени наводнения 1824 года… теперь не хочет меня знать и даже как бы кичится передо мною. Купец отвечал с некоторым смущением, что он первый не знает сам, как ему смотреть на меня. „Вчера, – продолжал он, – вы дрались и сегодня, кажется, снова хотите начать бой; вы присягнули Николаю Павловичу и преследовали солдат, оставшихся верными нашему государю; что ж нам обо всём этом думать и что с нами будет?“»35. Все симпатии толпы к восставшим стали понятны – причиной тому было отсутствие достоверной информации о происходившей смене верховной власти.
Действительно, информационная борьба к 14 декабря была выиграна противниками Николая. Их идеи были просты и понятны: законный царь – Константин, ему все присягали. Кто будет так неожиданно требовать престола при живом царе? Самозванец. Почему? Потому что прежний обещал волю народу и послабления солдатам. Если бы Константин сам отдал корону, он бы приехал в Петербург. Если его здесь нет – значит, он схвачен и спрятан от народа в тюрьму.
Достоверной информации не было, а городские слухи, усиленно распространявшиеся заговорщиками, материализовались в бунтующих солдат и летящие из толпы камни и поленья.
Напротив, городские власти допустили немало «погрешностей и оплошностей», которые только способствовали распространению выгодных заговорщикам слухов. «Так, например, духовное начальство распорядилось, чтобы во всех церквах на ектеньях за обеднею 14 декабря возглашено было уже имя государя императора Николая Павловича; но самый манифест с приложениями велено прочесть только после обедни, перед молебном. С другой стороны, упущено было заблаговременно выпустить и рассыпать в народе достаточное число печатных экземпляров манифеста, которым объяснялось всё дело, а на улицах частные разносчики везде продавали экземпляры новой присяги без манифеста, то есть без ключа к ней. Манифест нигде почти и достать нельзя было, особенно с тех пор, как мятежники загородили здание Сената, в котором помещалась и типография его с книжною лавкою»36.
Таким образом, для населения Васильевского острова события 14 декабря представлялись в зеркальном отражении действительно произошедшему: самозванец Николай поднял бунт, опираясь на гвардию, и подавил сопротивление немногих «верных истинному государю». Так в столице уже бывало, и не раз. Ещё оставались живые свидетели «революции 1762 года».
К счастью, в те времена люди искренне верили печатному слову. Когда Бенкендорф понял, что манифест, «ключ к присяге», неведом петербургским обывателям, он тут же написал Николаю I «обо всём виденном и слышанном», умоляя срочно разослать по всему городу, в том числе прислать на Васильевский достаточное число экземпляров этого крайне важного документа. Вскоре «ходатайство было исполнено», и Бенкендорф с присланными ему официальными бумагами в руках (завещание императора Александра, отречение великого князя Константина и манифест нового государя) «смело вошёл в толпу, всё более возраставшую», и повёл всех в ближайшую церковь, где велел священнику читать народу акты «сколь можно громче и внятнее, с повторением тех мест, которые кто-нибудь не поймёт». Выйдя из церкви, Бенкендорф раздавал оставшиеся экземпляры тем, кто не попал внутрь. «Едва манифест с приложением был зачитан, как на всех лицах засияла радость и в народные массы возвратилось совершенное спокойствие»37. Для Бенкендорфа это был важный опыт: он осознал, насколько важно общественное мнение и как сильно оно зависит от предоставляемой информации.
Утром 15 декабря порядок в городе был восстановлен. Николай отправился объезжать войска, расквартированные на улицах и площадях, и благодарил всех за усердие, верность и отличную дисциплину. «Никогда я не видел, – писал Бенкендорф Воронцову, – чтобы кого-нибудь встречали так, как 15-го утром приняли императора войска, которые провели ночь на биваке на ужасающем холоде и ветру». На его появление реагировали «восторженными криками веселья и восхищения». Убедившись в преданности войск и тишине в городе, Николай приказал вернуть части в казармы, в тепло. «С этого дня, – вспоминает Бенкендорф, – в городе восстановилось спокойствие и обычное течение жизни, как если бы оно ничем и не было нарушено».
Внешне так и было.
В письме же Бенкендорфа Воронцову вслед за описанием событий 14 декабря звучит печальное признание человека, слишком много пережившего и перестрадавшего в эти бурные дни: «Сердце мое устало, и силы мои истощились…»