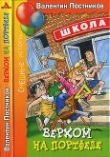Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Новиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
КУЙПОГА
Моя философия в том, что нет никакой философии. Любомудрие умерло за отсутствием необходимости, – он дернул ручку коробки передач, и машина нервно, рывком увеличила скорость, – то есть любовь к мудрости была всегда, а саму мудрость так и не нашли, выплеснули в процессе изысканий. Ты посмотри сама, что делается. Напророчили царство хама, вот оно и пришло. Даже не хама, а жлоба. Жлоб – это ведь такой более искусный, утонченный хам». В ночной тишине, по дороге, ведущей за город, на север, они ехали молча. За окном мелькали старые, с облезшей краской дома, сам асфальт был весь в выбоинах и ямах, как брошенное, никому не нужное поле. Внезапно показался огромного размера ярко освещенный предвыборный щит с сияющей мертвенно–синей надписью «Поверь в добро». «Вот–вот, смотри, славный пример, досточтимый. Ничего не нужно делать. Просто в нужный момент подмалевать красками поярче, лампочек разноцветных повесить. Годами друг друга душили, душу ножками топотали, а тут одни с пустыми глазами мозгом поработали, у других, таких же лупатых, релюшка внутри сработала – и все мы опять верим в добро, тьфу!» Он выплюнул в окно окурок вместе со слюной и выругался.
Она сидела рядом, нахохлившаяся и печальная. Ей было грустно – он опять говорил не о том. И стоило ли объяснять давным–давно говоренное, обыденное, как овсяная каша. Стоило ли в сотый раз пытаться найти первопричину, когда все просто – такая здесь жизнь. Ей хотелось радоваться, что наконец свершилось, после долгих сборов, сведений в кучу всех обстоятельств, всех вязких стечений они все–таки вырвались и едут теперь к морю. Большую воду она видела только однажды, в детстве, когда отец взял ее на юг, и с тех пор в памяти остался свежий, щекочущий горло и грудь запах, слепящая глаза пляска солнечных бликов и едкий, как уксус, вкус кумыса.
А он продолжал нудить свое: «Видела, плакат на площади повесили. «Фиерическое шоу». Ублюдки. Писать разучились, а туда же, феерии устраивать. Даже любимое и родное теперь слово «fuck» умудряются в подъездах с двумя ошибками писать. Вообще, утонула речь, язык утонул. Как будто во рту у всех болотная жижа. Да и в головах тоже. Мозги квадратными стали. Вместо мыслей заученные схемы. Мыслевыкидыши. И утопленница–речь». Он был неприятен самому себе со всеми этими неуклюжими рассуждениями, но никак не давали успокоиться, вновь почувствовать ровное течение жизни три пронзительных в своей немудрености вопроса: «Куда едем? Зачем едем? Ищем чего?» И, глупый, все спрашивал и спрашивал себя…
«Хватит, – вдруг попросила она. – Надоело уже. Давай про что–нибудь другое. Посмеши меня как–нибудь. Ты же умеешь меня смешить!»
У них была странная любовь. Она начиналась как чистой воды страсть. Когда он увидел ее впервые, то поразился стремительности, какой–то воздушности всех ее движений. Окружающие ее люди, события, все вокруг казалось застывшим, словно погруженным в желейную дремоту. Ему сразу представилось тонкое деревце под напором ветра, как оно гнется к земле почти на изломе, но вдруг выпрямляется при малейшем ослаблении, рассекает сабельным ударом тугую тягомотину, чтобы потом снова клониться, сгибаться из стороны в сторону, отчаянно трепеща листвой, и вновь упрямо и чувственно бросаться навстречу жестокому потоку. «И создал Бог женщину», – подумалось, когда он наблюдал со стороны за силой и изяществом ее походки, красотой тонких, округлых рук и неземным почти, стройным совершенством бедер. Потом, много позже, он понял, что только живая, полная ласковой внимательности ко всему вокруг душа способна так умастить, драгоценным миром покрыть совершенное тело. Потому что полно вокруг было красивых манекенов, пляшущих свои бессмысленные, нелепые танцы и постоянно жующих лоснящимися ртами пирожные по многочисленным кофейням. Но потом страсть стала потихоньку стихать, откатываться, как морская вода при отливе, и наступило время прикидок и размышлений о чужих мнениях, полезности и монументальной правильности, и никак не могло родиться долгожданное, дерзкое и бесшабашное доверие.
«Не буду я тебя смешить», – упрямо пробормотал он и снова погрузился в унылые размышления о продажности всего и вся. Благо опыт продаж у него был изрядный. Тяжелым, скользкой тиной покрытым камнем лежала на душе торговля алкоголем, когда цены предварительно повышались на пятнадцать процентов, а потом резко и публично снижались на десять; бодяжный портвейн с хлопьями осадка, распиханный в коробки с сертифицированным пойлом; расселение бичей со всем их вонючим, жалким скарбом по различным, на них же похожим халупам; переклей этикеток с новыми сроками годности на лежалую, прогорклым жиром пахнущую рыбу; склизкая дружба с «нужными» людьми, когда над всем разнообразием отношений плавает маслянистый взгляд хитро прищуренных глазок; странные, нереальные сочетания вожделеющих чиновничьих рук и их же властных ртов, вещающих о совести и доброте. А рядом с ними были молодые девчонки, отдающиеся за коробку баббл гама или за ужин в ресторане, что стоило примерно одинаково; рекламные компании в газетах, где такие же молодые и бездумные могли за деньги сочинять сказки о чудесных похуданиях и излечениях; яркие, талантливыми красками расцвеченные плакаты о том, что «только у нас, опять в последний раз, одобрено всеми министрами и специалистами, продается столь необходимое вам, жизненно показанное дерьмо в красивой упаковке, с прилагаемым бонусом в виде еще одного, но уже небольшого дерьма». Удивительно, но сначала все это казалось ему свободой, захватывающей игрой раскрепощенной воли и могучего интеллекта, изящным противовесом системе фронтального распределения. И только много позже, когда все многочисленные, не лишенные изящества и стройности схемы стали складываться в такую же систему захлебывающегося счастья безграничного потребления, дешевой радости каждодневного закупа, он почуял неладное. Блистательным венцом его торговой карьеры стали тогда головы лосося. Многоходовая, до мельчайших деталей продуманная афера, где очень многое зависело от дара убеждения себя и других в том, что продать можно абсолютно все, натолкнулась на какую–то преграду. И вроде бы все вокруг были согласны, что дешевые рыбные отходы могут послужить весомым социальным фактором в накормлении сирых и убогих, вроде бы сами голодные, судя по многочисленным маркетинговым исследованиям, были безумно рады поиметь практически даровую похлебку из голов благородных рыб, вроде бы все соответствующие строго бдящие инстанции выдали одобрения и разрешения, но предел есть даже у свободы предпринимательства. У него вдруг истощились душевные силы, и тогда сразу пропала воля, хитрый ум отказался измышлять новые кротовьи ходы. Он перестал бороться с отступающей, мусор несущей водой и поплыл в ней, словно бездумное бревно, отстранясь и впервые за многие годы сумев увидеть со стороны себя, свои придонные мотивы, чужое суетливое величие, громогласие пустоты и комичность каждодневного подвига во славу вороватости. И когда наступил день лактации пушных зверьков, которые присоединились к слоям населения, отказавшимся потреблять неискренний корм, он взял в руки пустоглазую голову лосося, все еще красивую своими стремительными, рубящими воду очертаниями, и со словами «Бедный Йорик» выкинул ее через левое плечо.
«Все на свете продается, кроме любви и голов лосося», – сказал он ей внезапно повеселевшим голосом, и она засмеялась в ответ.
Когда через несколько часов они подъехали к старинной деревне у самого Белого моря, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Время белых ночей. Ночи белых ножей. Есть в северном лете какая–то жестокая сила. Она чем–то похожа на щедро украшенное рыбьей кровью резвое лезвие, которое без устали пластует тела, отбрасывает прочь всю нутряную смердь и одного добивается холодной своей силой – чистоты. Ни на минуту не дает солнце закрыть глаза, отдохнуть, накопить новые оправдания. Светло и тихо кругом, лишь изредка вскрикнет в лесу испуганная неприкрытой истиной птица, и ты чувствуешь сначала полную измотанность от своих же вопросов, ты наедине с огромным правдивым зеркалом белесого неба, ты словно стоишь перед могилой убитого бога и, когда наступает уже предел человеческих сил, вдруг ощущаешь, как с тела, с души словно отваливается пластами чешуя накопившейся за долгие годы грязи, и слезы наворачиваются на глаза от ощущения пусть временной, пусть предсказуемой, но чистоты и ясности. Ты становишься сильным, тебе незачем изворачиваться и лгать, ты пьешь много водки и не хмелеешь, потому что тебя заразил, захватил уже, проник во все поры, в волосы, под ногти бесконечно добрый наркотик – дух Внутреннего моря. И с перехваченным дыханием, как пойманная в сети рыба, ты поешь во славу его свои спиричуэлсы.
Они остановились у первого попавшегося дома и, постучавшись, вошли внутрь. По высоким ступеням, словно по трапу корабля, забрались в сени, потом, наклонившись перед низкой притолокой, ступили в комнату. У небольшого окна на стуле сидела крепкая старуха с живым внимательным взглядом. Лоб и щеки ее были темными, обветренными, а шея и узкая полоска вокруг лица – белые, незагорелые. «Славный черномордик», – шепнул он, но осекся.
– Здравствуйте.
Старуха кивнула в ответ и быстро оглядела их с ног до головы.
– Мы из города, не пустите ли пожить на несколько дней?
– Ну, не знаю, – хозяйка смотрела с легкой усмешкой, – а кто такие будете, туристы?
– Нет, мы так, посмотреть. – Он чувствовал себя неловко и поспешил добавить: – Мы заплатим.
– Ну, не знаю. – Старуха опять усмехнулась и замолчала.
– Мне очень хотелось на море. Я никогда не была, только один раз, в детстве, на юге. А тут ведь совсем рядом от нас, и никогда. Вот мы собрались просто и поехали. А остановиться не у кого, не знаем тут никого.
– Ладно, живите, чего уж там, Ниной Егоровной меня зовут. – Старуха уже многое о них поняла.
– А сколько стоить будет? – Он попытался свернуть на знакомую стезю.
– Нисколько не будет. Так живите.
К морю, к морю. Она торопливо собиралась, выкладывала из сумки вещи, которые могли пригодиться. Куртка, резиновые сапоги, теплые носки, комариная мазь. И постоянно неосознанно принюхивалась – не донесет ли ветер тот давно забытый, детскими воспоминаниями раскрашенный запах. За окном начинал погромыхивать гром, в доме пахло сушеной рыбой, деревом, какой–то едой. Но того высокого, заставляющего слезы наворачиваться на глаза запаха не было. Она помнила, что на юге он был сильный, пряный, тяжелым потоком несущийся от воды, от галькой покрытого брега, от куч выброшенных на пляж гниющих водорослей. А здесь если и было что–то похожее, то совсем слабое, еле уловимое, призрачное и обманчивое. Какая–то граница, грань между жизнью и смертью, добром и злом, та, которую постоянно ищешь, иногда натыкаешься, но никогда не можешь устоять, удержаться на ней. Он с кислым лицом следил за ее сборами. На улице начал накрапывать дождь, небо затянуло тучами. «Смешно было бы думать, что можешь запрограммировать себе чувства. Да и пошло это как–то – раз к морю, значит, нужно ахать и восторгаться, производить готовый набор телодвижений. Трезвее нужно быть, циничнее. А то чуть–чуть разомлеешь, расслабишься, поверишь, как тебя тут же мордой в цветущую клумбу: хотел – на, жри свои вонючие растения». Он был давно наученным и умным зверьком.
– Собрались? – Нина Егоровна откровенно смеялась над их яркой городской одеждой. – Сядьте, чаю попейте, затем можете на убег сходить за рыбой.
– Что за убег? – недовольно спросил он.
– Ловушка такая. Пойдете направо от деревни, сначала по берегу, потом по кечкоре, там увидите. Километров пять до него.
– Кечкора какая–то. А это что за зверь?
– Дно морское. Пока куйпога стоит, нужно идти. Потом вода пойдет – не пройдете.
«Издевается, – решил он про себя, – неужели внятно нельзя объяснить. По–русски. Вроде все здесь русские, не карелы и не чукчи».
Старуха словно угадала его мысли:
– Куйпога – это когда вода уходит и стоит далеко. Отлив по–городскому. Уйдет так, что не видно ее. Все, что в море мертвого было, оставляет. Водоросли, рыбу, может тюленя выбросить. Иногда аж страшно делается – вдруг не вернется. Но возвращается всегда, всегда… – Она улыбнулась каким–то своим мыслям.
Сели за стол. Нина Егоровна взглянула в окно, затем резво вскочила и накинула крючок на входную дверь:
– Андель, телебейник идет, на хуй его.
Он фыркнул, она в веселом недоумении широко раскрыла глаза. Старуха же охотно пояснила:
– Коробейники были, знаете? По дворам ходили, торговали, а глядишь – и украдут чего. Этот же все агитирует, раньше – за одно, теперь – за другое. Вроде слова умные говорит, а смысла за ними никакого. И болтает, болтает: «Теле–теле–теле».
Вместе посмеялись, успокоились.
– А вы как, отсюда родом? – спросила она старуху, с удовольствием вслушиваясь в ее вкусную речь.
– Отсюда, милая, отсюда. Восемьдесят три года, и все отсюда.
– И как жили? – Они явно нравились друг другу.
– А как жили. Тяжело жили. Я с семи лет уже нянькой по чужим людям. А потом в море зуйком ходила, здесь в Белом, и на Баренцево ходила. На елах мы тогда рыбачили, с парусами еще.
– А где тяжелее было? – заинтересовался он, вспомнив внезапно свою службу на севере и зимние шторма, когда слоновьими тушами валялись по берегу разбитые бурей бетонные причалы.
– Везде тяжело, – усмехнулась старуха. – Первый раз как вышли в Баренцево в волну, так мне ушанку на лицо привязали, чтоб туда блевала. Зато сразу привыкла, со второго раза уже за полного человека брали. Замуж в двадцать лет вышла. Вы–то муж с женой будете?
Они замялись:
– Да нет, мы так, думаем…
Старуха проницательно взглянула на нее, внезапно покрасневшую, затем на него:
– Был тут у нас в войну один такой. Глупый. Не как все. Ходил все, думал. Как увидит красивую, вроде тебя, так потом на станцию тридцать верст пешком уйдет. Все на поезда смотрел, на женщин проезжающих, искал чего–то. – Она посмотрела на часы. – Ладно, идите уже. А то не успеете.
Они вышли из деревни, пересекли заброшенное поле, поросшее высокой жесткой травой, из которой поднимались оголтелые тучи комаров, и ступили на кечкору. Она простиралась почти до самого горизонта, лишь в еле видимом глазу далеке сверкала кажущаяся узкой полоска воды, за которой угадывались туманные очертания островов. Дно морское оправдывало свое корявое, бородавчатое название – посреди вязкой, чавкающей глины тут и там возвышались скользкие валуны, покрытые зеленой слизистой тиной, лужи мутной стоячей воды составляли аляповатый, тоскливый узор, повсюду валялись обломки раковин, мешали ступать грязнобородые кочки фукуса. На небе царил такой же раздрай. Верхний слой тяжелых, мертвенно–серых облаков не оставлял ни единого просвета. Ниже беспорядочными клочьями неслись белесые обрывки тумана. С двух сторон приближались темно–синие, безнадежные, как арестантские думы, грозовые тучи. Из них с невнятной угрозой погромыхивал гром. «Полная куйпога», – мрачно сказал он, жалея уже, что дал себя втянуть в эту беспросветную авантюру. Она же молчала, только широко раздувала ноздри, все пытаясь поймать тот свободный, вольный запах, о котором мечтала всю дорогу.
Вдалеке показался убег. Они быстрым шагом дошли до него, достали из ловушки пару десятков мелкой трепещущей камбалешки. «Пойдем назад. – Он замерз уже под моросящим дождем и с опаской смотрел на приближающиеся отвесные столбы полноценного ливня. – Пойдем».
«Нет, я хочу купаться», – решительно, со слезой в голосе сказала она. «Да где здесь купаться, в лужах, что ли. – Он говорил раздражительно и зло. – Тебе же сказали – куйпога. Да и холод собачий, замерзнешь».
Но она не слушала. Решительно сняла с себя сапоги, одежду повесила на вбитый в глину кол и, оставшись совсем голой, повернулась к нему с внезапной улыбкой: «Ты увидишь, все будет хорошо».
«Что хорошо, что здесь может быть хорошего?» – не понял он и вдруг заметил какую–то перемену. Дувший с берега ветер вдруг стих. Сначала еле–еле, словно младенческое дыхание, а потом все сильнее задул ветер с моря. Он был ровный и ласковый, как утреннее объятие, и нес в себе простые, изначальные вещи. Соль и йод были в нем, и любовь глубоководных рыб, и когда–то давно прозвучавший крик малолетнего рыбака. «Кончилась куйпога, кончилась!» – кричала она, убегая, а навстречу ей сначала мелкими ручьями, а потом все сильнее, веселыми потоками пошла вода. «Не может быть», – прошептал он, упорствуя в неверии своем, и тогда сошлись две грозовые тучи, одна похожая на лысый профиль хитрого дедушки, другая – с нависшим над усами крючковатым носом любимого вождя, стукнулись лбами, и грянул гром, разметавший их на мелкие обломки. «Вера!» – позвал он, и последний раскат унес с собой рокочущее «Р», оставив «Е», и «В», и «А». «Не может быть». – Он пытался охладить поднимающуюся внутри горячую волну чем–нибудь проверенным и разумным, и тогда в разрыве туч вдруг блеснуло яростное солнце. «Не может быть», – упрямился он, смахивая набежавшие слезы, и тогда сверху обидно, прямо в лоб стукнула его задорная сливовая косточка.
А потом вернулась она, вся покрытая сверкающими каплями воды и кристаллами соли. Длинные, прохладные и тугие листья ламинарии спускались у нее с плеча, лаская теплую, вольную кожу, и глаза ее невинные, губы ее винные что–то говорили ласково.
– …щается всегда, – за ветром угадал он окончание.
НА СУМЕ – РЕКЕ
Проехали, протряслись по пыльной, удушливой грунтовке последние семьдесят километров, а потом прошуршали шинами по мягкой, лежалой, хвоей покрытой лесной дороге, остановились у разрушенного деревянного моста и разом, вместе глубоко вдохнули воздух и сказали: «Ах». Было красиво. Широко, неистово, с какой–то страшной страстью катила свои темные воды Сума–река. Трухлявым гнилозубьем торчали из нее старые бревна опор, и вода раскачивала их постоянно, хотела вырвать из грозной расщелины рта былые, ненужные теперь обломки. Светлой пеной злилась она в узких промоинах, в неудобных искусственных лазах и, вырвавшись на свободу, широко разливалась среди лесных берегов. Дальше, куда хватало взгляда, река уже не злилась, была спокойной и сильной, лишь недовольно пофыркивала на частых порогах, вновь смиряя свой изменчивый женский норов на широких плесах.
Сразу, чуть только затих последний слабеющий рык усталого перегретого мотора, Федор схватил из багажника удочку и побежал к реке, на ходу разматывая сникшую от долгого безделья леску.
– Куда, а костер развести, – крикнула она вслед, но он только мотнул головой.
Оскользнувшись, спустился по крутому травянистому склону и встал на берегу, у самого края, у границы между живой говорливой водой и спокойной сосредоточенностью земли. Затем, уже не торопясь, пронизанный величавыми звуками ровно шумящего леса, насадил на крючок сильного багрового червя, плюнул на него по неизвестно кем заведенной традиции и закинул наживку далеко в реку. «Сума, дай рыбы», – сказал и усмехнулся своей прямолинейности.
Поплавок закачался в центре секундной, недолговечной мишени и поплыл спокойно по течению. Федор приготовился ждать, гася внутри неосторожный огонь азарта, но винная пробка с обгорелой спичкой посередине вдруг резко и косо ушла под воду. Сердце глухо гукнуло, руки, забыв о разумной, отточенной последовательности действий, суматошно дернули удилище. Леса натянулась. Время замерло. Обострившимся вдруг зрением он увидел, как в темной глубине мелькнула серебряная вспышка, как метнулись в стороны темные черточки поверхностных мальков, как вязкая вода словно вскипала под резким напором напряженной, до предела натянутой жилки и расступалась перед ней, как перед носом отчаянного лилипутского скутера. «Тонковата леска, тонковата леска, тонковата…» – закружилась, зациклилась испуганная рыбьей страстью мысль, а ладони ощущали, как мелкой дрожью трясется удилище, как микрон за микроном рвутся волокна нити, соединяющие его, жаждущего, и ее, вырывающуюся. Вдруг случилось – воды расступились и отдали ее. Отвергли бесстрастно, хотя только что держали сильно. От неожиданного отторжения этого Федор не удержался на ногах и шлепнулся задом в мокрую траву, удилище высоко держа и сжимая изо всех пальцы белящих сил. Так и сидел ошарашенно, а она плясала над ним высоко в воздухе, живая и блестящая. Наконец очнулся он и стал суматошными руками хватать воздух, а рыбка все ускользала, все билась, пока не прижал ее к животу, к самому чреву, сильно и нежно, и не скользнул пальцами по серебряной чешуе, не вынул осторожно из губ ее пронзительный крючок и не опустил в баклажку с водой у ног своих.
Это была большая плотва. В других обстоятельствах могла она быть рыбой сорной, но не теперь, когда главным было не наличие в ней многих костей, не вкус ее плоти, а стремительная обтекаемость тела и неистовая живость движений. Она стояла в прозрачной, слегка красноватой воде и тихо, недоуменно шевелила плавниками, словно пытаясь осознать невероятную происшедшую с ней перемену. Рот ее, раненый, открывался и закрывался – казалось, что шептала она беззвучно: отпусти меня, отпусти меня, отпусти… Федор так же тихо стоял над ней и глубоко дышал. От ладоней, на которые нежданным даром налипло мелкое серебро, доносился тонкий запах чужой жизни, полной стремительных перемещений в сильных, но добрых течениях, беззаботных игр под зыбкой луной на водной глади и той, внимательной, небесной, и дикого страха, когда черной тенью проносилась где–то рядом острозубая, жестокая опасность. Он хорошо, до боли, помнил, как год назад впервые увидел ту, что сейчас ждала его у костра. Как впервые захлестнула ее улыбка, незаслуженная им, бесплатная, осветившая веселым фонариком его мрачную, пьяную отупелость. Как сразу понятны стали ему восторг и обожание, с которыми смотрели на нее дети, учившиеся искусству танца, да и не только танца, а вообще тому радостному, доверчивому отношению к жизни, что казалось давно уже невозможным в этой стране. И когда однажды он, быстро постучавшись и не дождавшись ответа, дернул дверь в раздевалку и увидел ее, смутившуюся, но все равно улыбнувшуюся в ответ на его быстрый взгляд, увидел снежно–белый треугольник ее трусов над гладкой стройностью ног, то понял, что пропал, что сдался без боя, что сработали все те триггеры, над которыми смеялся всегда, полагая их выдумкой таких же хитрых, как он, для простаков, постоянно ищущих новых учителей и новой веры. И дрожала потом многие месяцы в руках тонкая, напрягшаяся леска, натянутая до предела своего, когда чужими стихами, своими словами, зримым отчаянием от невозможности, невероятности происходящего он поймал ту, которая сейчас ждала его у костра, держал ее крепко и жестко, выводя на слепящую глаза поверхность из темного омута обычных, привычных, семейных отношений. А потом, когда случилось, когда на смену ее спокойствию пришло пронзительное ощущение свободного полета в пропасть, то не было дня, чтобы не пыталась она вырваться, оборвать неправильный ход вещей и чувств, и не замирала потом, усталая, одно лишь шепча в страшном и сладком изнеможении: «Отпусти меня!»
Солнце высоко взобралось по красным стремянкам высоких сосен и положило ему на голову горячие ладони. Федор наконец решился. Он прощально посмотрел на тяжело дышащую рыбу и осторожно погрузил баклагу с теплой уже водой в свободную прохладу реки. Затем повернул ее набок. Рыба недоверчиво постояла на месте, потом устало и благодарно шевельнула плавниками и хвостом, но тут же перевернулась кверху брюхом и всплыла на поверхность. Равнодушная вода сразу понесла вдаль от берега, к середине реки, а там ее с восторженным криком схватил внимательный грязно–белый баклан и суетливо замахал крыльями, унося добычу. Федор дернулся было кинуть в него камнем, схватил наугад горсть с земли, но в кулаке оказался лишь пересушенный серый песок, который безвольно ссыпался меж пальцев. А от костра донеслось призывное посудное позвякивание…
Костер был по–женски небольшим. Возле него аккуратно легла на чистую хвою невесть откуда взявшаяся белая скатерка, под которой на случай сырости лежала клетчатая клеенка. Сверху в уютном походном беспорядке стояли плошки, тарелки, пластмассовые коробочки и стеклянные банки с разнообразной, любовно приготовленной снедью. В центре возвышалась горка аккуратно порезанного, изящного в своей непритязательности черного хлеба. Салат овощной, из испанского цвета помидоров и ярко–зеленых огурцов, салат мясной, где колбаса и лук находчиво заменяли рябчиков с ананасами, копченое сало со смуглой кожицей и невинно–розовыми прожилками мяса было обсыпано короткими трубочкам зеленого же лука. Рядом лежала горка крупных, молочной прозрачности долек чеснока. Над костром на тонкой жердине покачивался в потоках раскаленного воздуха круглый важный казан, где тесно, по–братски, поддерживали друг друга перед лицом неминуемого уничтожения разваливающиеся кругляши картошки и крупные в своей бордовой волокнистости куски тушеной говядины. Рядом, опасно балансируя на неровной, дикой поверхности случайного камня, парил, готовясь к своему выступлению, приземистый, закопченный во многих битвах чайник с помятым боком. В нем замер, предвкушая веселый раскардаш кипения, густой, пронзительно коричневого отлива настой ссохшейся Индии и северных, местных трав: лаковые листья брусники вольно, словно в родном лесу, переплетались в нем с рыхлыми ветками черники, а поверх них вольным стилем заплывали толокнянка и несколько случайных сосновых хвоинок. Неподалеку, куда Федор первым делом бросил взгляд, на самом солнцепеке лежала и накапливала резкую, холодную ярость завернутая в мокрую белую тряпицу бутылка водки. Чуть поодаль, в тени густой елки, степенно и ласково белела трехлитровая банка домашнего деревенского молока.
– Садись, рыболов, будем обедать, – сказала она, и он послушно сел на свернутый спальник. – Ешь, – поставила перед ним миску с дымящимся варевом, положила ложку.
Федор быстро свинтил голову холодной бутылке, изрядно налил себе, плеснул на донышко ей.
– За что пьем?
– За тебя, конечно.
Он торопливо, чтобы не успела возразить, сделал несколько хороших глотков и взрослым умением напряг верхнюю часть глотки, когда взбесившаяся жидкость рванулась обратно. На глазах выступили слезы. Он стер их ладонью, которая все еще пахла неистовым танцем рыбы, и потянулся к еде. Правой рукой держа ложку, он в левую умудрился взять, зажав между пальцами, хлеб, сало и светлую хрупкость молодого чеснока. Вера с удовольствием смотрела, как он ест. Ей нравилась эта жадность к жизни, ко всем ее проявлениям, словно он точно знал, сколько ему отмеряно, и спешил впитать в себя как можно больше солнца, дождя, воздуха, травы, слов и звуков, красок и прикосновений. Она сама была такой же, лишь с легкой поправкой на женскую осторожность и внимательность. Ему же целый мир был мал, мил, недостаточен. Он выпивал еще, ел, шутил, что–то рассказывал, а она просто сидела и любовалась его трехдневной щетиной, плечами, донельзя натянувшими старый дырявый тельник, светлыми выгоревшими бровями, которые иногда исчезали совсем, когда он во время душевной дрожи выщипывал их напрочь, с кровью, чтоб только унять злую силу безумных рук. Больше всего ей нравилась та ямка под кадыком, куда так удобно помещался ее нос, когда они спали вместе. И пахло там по–особому, щемяще и ласково. Поэтому опять не сказала ему ничего. Август был совсем близко.
Федор быстро стал клевать носом. Глаза его то и дело застилала сладкая пленка сна. Усталость от долгой езды в правильных пропорциях смешалась в нем с лесным воздухом, который душисто расправил его скукоженные городские легкие, и с радостью бесконтрольной выпивки. Они быстро разбили палатку прямо на зыбком, словно женское непостоянство, черничнике. Внутри ее воздух сразу нагрелся, стал таким горячим, что даже самые ловкие из комаров, протолкнувшиеся внутрь, сидели теперь в затененных углах и тяжело дышали. Вера расстелила простыню, и он ухнул в сон, голой спиной ощутив всю подспудную ласковую неровность лесной подстилки. Несколько раз до него доносились легкие мыльные звоны железных мисок и кружек. А потом он почувствовал ее нос, прилаживающийся у него между ключицами, да благодарную, нежную колкость на своем бедре.
Когда проснулся, еще несколько минут полежал в томительном блаженстве. Жара спала. Был тот редкий и кратковременный момент, когда север дает почувствовать человеку простую, незамысловатую благодать, когда не нужно надрывать силы, чтобы согреться, насытиться, выжить. Когда природа учит новым, непривычным на вкус и чуждым ей словам, таким, как «нега» или «комфорт». Солнце походя, ленивыми скользящими прикосновениями ласкало туго натянутый тент, длинные сосновые тени были рассеянно нежны, слух благодарно впитывал добродушное мурчание реки. Даже гнус куда–то исчез ненадолго, а на палаточном брезенте медленно колыхались тени травы, и было видно, как на одном из стеблей осторожно ощупывает усиками путь неторопливый муравей. Потом от костра донесся запах свежего кофе, и Федор вылез на воздух, еще млея всем отдохнувшим телом. Вера улыбнулась ему навстречу, а он вдруг почувствовал, как в ступню вонзилась затаившаяся в сапоге сосновая игла, резко и неожиданно, словно ждущая в засаде обреченная оса.
– Я не хотела говорить, не могла. Знаешь, страшно это все. Мне хорошо с тобой, очень хорошо. Ты даже не можешь представить, как. Мы уезжаем куда–нибудь, и я забываю обо всем. Чувствую, что ты мой. Забываю обо всем. Я люблю тебя, очень люблю. Но ты ведь знаешь, что мы не одни, что нельзя так. Не принято, не положено.
– Кем не принято и куда не положено? – Он пытался ерничать, но видел, что бесполезно все. Я люблю твою жену и детишек твоих люблю. И не могу разрушать, понимаешь, не могу! Я сама была такой же, когда ждешь, а человек не приходит. Или приходит с безумными глазами, и ты знаешь, что они видят не тебя. Ты говоришь с ним, а он сквозь тебя смотрит и улыбается. Поэтому ты не должен сердиться. И разубеждать меня не нужно. Я все решила. Мне нужна семья, только моя, ни с кем не деленная. Чтобы кормить своего человека, чтобы стирать ему. Чтобы ужинать вместе и просыпаться вместе. И сыну моему нужен мужчина. На рыбалку чтоб его брал, какие–то штуки чтоб мастерили. Я не знаю, как это у вас получается, но одного присутствия мужского порой достаточно там, где мы вывернуться готовы, и не получается ничего. Вот и все. Только не сердись и не обижайся. Пойми меня. Ты знаешь, я ведь не представляю, как это все будет. Я не знаю, как без тебя. И во всем моя вина. Если хочешь, я буду спать с тобой, когда только скажешь. Я смогу, выдержу. Но ты не мой…