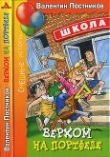Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Новиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Ну и кто же сей счастливец? – Осиный яд из пятки добрался до сердца, но показывать этого было нельзя.
– Георгий, ты его видел. Он хороший. Он меня любит, давно уже. Я уже согласилась.
– Он–то любит, а ты? – Федор знал, как сделать больно.
– А я люблю тебя… – Стерла испачканной в саже рукой каплю с ресниц, и под глазами легли черные боевые полоски.
– Когда все состоится?
– Он приезжает в августе, в самом начале.
– Через два дня, – уточнил и налил себе полный, хороший, успокоительный стакан.
И в ту недолгую секунду, пока не успел еще обезболить мысли хмель, вдруг сам понял: «Ты все говоришь правильно. Так и должно быть, я предчувствовал. Но только нет ли чувства, что мы будем делать разумные, положенные, принятые вещи и тем самым шаг за шагом будем приближаться к трагедии? Нет, скажу как есть – к пиздецу. Полному и для всех. Нет такого чувства?»
Она молча, бестрепетно мыла посуду, а он опять спустился к реке. Сел на бревно на берегу и стал смотреть на воду. Ничего не изменилось. Все так же извивалась Сума своим черным телом, так же балансировала на грани изменчивости и постоянства, лишь в шуме ее он стал различать какой–то металлический, скрежущий отзвук. Гнусило комарье, облеплявшее, словно мокрая, надоедливая пыль, его голову и шею, а он не отмахивался суматошно, лишь иногда проводил ладонью по лицу, размазывая кровь и мелкий прах. Кругом стояло светлое вечернее марево. Было тихо. Лишь иногда доносился откуда–то издалека то ли взлай, то ли вой. Он вспомнил, как недавно видел передачу о странных животных – австралийских сумчатых дьяволах. Ничего в них не было страшного – короткое толстое тело, неуклюжие лапы, мелкая зазубренность рта. Питались они в основном падалью, изредка прихватывали какое–нибудь вкусное животное, но и самих их часто убивали такие же голодные сородичи. Поразило его тогда одно – их любовь. Самец за шкирку волочил самку в нору, она верещала и сопротивлялась, кусала его за все места, и тогда выли они оба от боли и страсти, рвали душу и тело в нелепых объятиях, словно сами чувствовали, как близко, рядом стоят их смерть и любовь. Словно мучила их нераздельность, слитность счастья и беды, и совсем нет зазора, нет места для отступления или раздумий, все серьезно и разяще. Потом они расходились, окровавленные и измотанные. Иногда же он убивал ее. Бывало, что и наоборот.
А неподалеку бродил, прислушиваясь к их воплям, старый мудрый кускус. Он был не настолько глуп, чтобы подать себя на ужин. Но и не настолько боязлив, чтобы прятаться в голодном лесу. Он знал, что бывает иногда удача, и не прочь был поживиться свежим мясом чужих страстей. Длинное рыльце в редком пуху осмотрительно ловило ветер, и не было мыслей о любви или смерти, а лишь о спокойной поживе. Кускус не любил рисковать и платить по счетам.
Федор встал и пошел к разрушенному мосту. Между опорами еще кое–где лежали бревна перекрытий, и он захотел вдруг перейти на тот берег. Вода под ним шумела сильно и зловеще, и он старался не смотреть вниз. Перескакивая с бревна на бревно, каждое из которых было опасно подточено временем, изъедено в коричневую влажную труху, он старался балансировать, хотя знал, что не успеет понять, дерево под ногой или форму его хранящая пыль. И все равно неведомая жажда узнать высший жребий толкала его вперед. Так добрался до середины и тут оскользнулся, руки хватанули пустой воздух, по спине многоножкой пробежал страх. Лишь изогнувшись до поясничной боли, сумел устоять на месте и в сгустившемся времени увидел, как медленно и величаво поднимаются из глубины воронки водоворотов. Он сел на бревно верхом, все еще со сведенным дыханием и колотящимся сердцем, и тут же вспомнил, увидел опять, почувствовал тот узкий крутой трап из корабельного кубрика наверх, на палубу, на воздух.
Он соскользнул тогда обратно, коленями пересчитав все ступени. Но анестезия физической болью была краткой. Вокруг, в тусклом свете тесного кубрика, все расположились по интересам. Справа, в узком пространстве между двумя рядами железных шконяр, устроена была «битва гигантов». Двое самых щуплых из молодых бойцов лупцевали друг друга по лицу, подбадриваемые пинками веселящейся публики. Слева, в глухом углу, «отбивали клинья». Крупные, дебелые «караси» послушно принимали позу бегущего египтянина и получали по женственно круглым задам по десять ударов деревянными, выкрашенными «шаровой» краской в мертвенно–серый цвет обрубками. Предназначены они были для «борьбы за живучесть» в случае пробоин, но применялись для решения более насущных проблем. Азартные игроки состязались в искусстве точного и сильного удара, после которого испытуемый падал на колени. В центре, на самом свету, происходило наказание особо провинившихся. «Залупу достань, сказал, будешь теперь робишку лучше стирать, сосатель мамин», – и чайной ложкой по достоинству раз, еще раз, до голубиной синевы. Внизу, под ногами, ползало по палубе полудобровольное «чмо», с ветошью и обрезом 1, замывая следы крови. Оно уже получило свое и было никому не интересно.
Весь этот жадный, чужой муравейник казался какой–то нереальной, но хорошо отрепетированной пьесой. Все персонажи хорошо знали свои роли, и не было мысли ни в ком, что, может быть, надо как–то иначе, не так. «Нас гнобили, теперь мы хоть оторвемся», – и так по кругу, по цепи, по гладкому железному кольцу. Так принято, заведено, освящено традицией, и зачем рассуждать. Легче бежать со всеми в одной упряжке.
«Что, удрать хотел, отец? – подступил тогда к Федору молдаванин Ваня. Был он мелкий, кривоногий, носатый и могучий в знании того, что ему положено. – Не выйдет бежать. Вместе со всеми, родной. Сымай штаны и на клинья». «Не буду». Федор очень боялся, его трясло, бегающий взгляд метался по повернувшимся к нему лицам, лишь упрямый голос говорил свое. «Не будешь, – радостно удивился Ваня, – тогда твоим всем еще по пять клиньев». – «Пускай. Когда блудит логика, остаются чувства. – Они сами согласились. Они участвуют. Я – нет». И резкая пощечина сразу. И горячая горечь стыда на щеке. И вольная радость бездумного кулака. И нет жалости к покатившемуся тщедушному тельцу. И прочь, прочь, из духоты на воздух. И в спину вой: «Вешайся теперь, падла, вешайся!»
Вентиляшка была маленькая и в чем–то уютная. Тесно навешанные на переборки приборы под корпусами своими таили какое–то внутреннее, умное и спокойное знание. Тихо, кап–кап–каплями падала вода из надтреснутого кожуха громоздкого насоса. «Что за странные зверьки, – спокойно уже и отстраненно думал Федор, – что за странные понятия. Жрать то, что найдут, делать то, что положено, вести себя в соответствии. А если почувствуют вдруг чутким своим носом, что где–то поживиться можно безнаказанно, то живятся запредельно. Потому что и так тоже положено. Есть ли у них имя, безнадежных?» Глаза давно уже нашли печальный, одинокий крюк на высоте человеческого роста. Рука сама, сначала нерешительно, а затем уже уверенно потянулась к заготовленному загодя мотку надежного, верного шкерта. Но натолкнулась на что–то странное в глухой щели между прибором и переборкой. Там лежала книга. Дешевая бумажная обложка и незнакомая фамилия на ней. И сразу, с готовностью, словно отдаваясь, открылась она на бестелесной, слабой странице, где, кем–то подчеркнутые, ждали его слова: «Любопытство, приязнь к человеку есть не свойство отдельного характера, а какой–то изначальный, главный закон, без которого не работают все остальные, самые благовидные, устремления».
Он долго сидел над водой. Не слышал больше бурления, не видел торопливости струй. Пальцы сами находили, один за другим, волоски на бровях и выдирали их с влажным хрустом. Там, в глубине кожи, прятались сочные луковицы. Они были прозрачные и прохладно–нежные, с темными кровяными точками на концах. Он прикасался ими к губам, и это было словно крошечные, родные и стыдные поцелуи. А потом выпускал волоски из пальцев, бросал вниз и долго видел, как они летели, бездумные, во тьму.
«Не зарекайся от Сумы, – и больше не было бровей. – Не зарекайся от
Сумы, – лишь кожа голая остра. – Не зарекайся».
А после пришел железный лязг и прогнал лесные тихие шумы. На дороге показался огромный и неуклюжий, словно на сушу вылезший корабль, задерганный бульдозер. Остановился у моста, из него вылез человек. Долго смотрел на Федора, потом крикнул: «Слышь, ты. Где здесь гуцулы лес валят?» – «Не знаю. Езжай себе, слышь. Не знаю куда».
Когда вернулся, увидел, что ждала его. Залез в палатку и на спину лег. Она в углу сидела настороженно, с каким–то испугом из сумрака глядя. Боялась не его, но больней – себя. Тогда сказал он: отпускаю, сказал: тебя, сказал: совсем. Ты так хотела, на, бери теперь. Теперь бери себя. Не сомневайся больше. Есть закон. Здесь есть
закон – всем, каждому по дратве, и по штыку, и по стыду еще. А после – по любви, по самой, по больной, с размаху, чтоб размозжить, чтоб кончен бал. Чтоб жить потом как все, быть одиноким и боязливым, словно пестрый пес, который тянется к руке, ее желая, готовый ласку на спину принять, но вдруг отпрыгивает в сторону, не веря и не решаясь обмануться вновь. Бери любовь как кость, как данность, тащи ее в уютный уголок и там грызи, в кровь раздирая десны об острые дробленые края. Не верь и не жалей, не бойся, не зови, не плачь.
Она целовала его мелко–мелко и часто, словно крестила – лоб, плечи, шею, грудь. А он бездумно лежал под мелким градом ее губ, где каждое прикосновение было как укол, легкий, болезненный, острый. А после, когда она ободранно казнилась и даже пальцы ног его своим орудием сделала предсмертным и, криком разрывая ночь на клочья, зверей лесных под землю загоняла, он лишь лежал. Потом услышал, как вдалеке раздался вой такой же, заблудший, одинокий, никакой.
Утром машина никак не хотела заводиться. А когда завелась, то за шумом мотора он услышал давешний вой. Он оказался визгом далеких бензиновых пил.
Приехали в город засветло. «Прощай–прощай» – и вся недолга. И начал жить без нее. Он постригся и побрился, стали отрастать брови. Он прожил так день и другой. И однажды увидел их с кускусом. Тот был в праве своем и держал ее за руку. А у Веры по лицу пробегали облака. Хорошо, что она его не заметила.
Многие сейчас говорят, что не знают ревности, мол, проще без нее и лучше, все свободны, как птичьи перья на ветру. Глупцы, у них просто слабое воображение. Или плохая отметка по геометрии в аттестате зрелости.
Вечером того же дня он напился водки. «Я за пивом, догнаться», – это жене, чтоб не знала ничего, не тревожилась. А у самого душа на разрыв, грудь нараспашку, чистый весь, аккуратный. И пошел, аист, пошел, как со штыком – на танки, как наугад – на паперть, как на царя – с горохом. И одно только слово твердил: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Говорил себе, уже зная – не зарекайся от Сумы. И тут же – не навреди, не сломай, не участвуй. Но крови хотелось красной, и мозгу в башке было тесно. А
кускус – тоже, в общем–то, несчастное животное. Не виноватое. Сумчатое. Другое. И сам себе – не сломай. А руки чесались сильно. И кулаки гудели глухо. Но не участвовать, нельзя подписаться на злое, нельзя, не сейчас, никогда. Но в голове – не сумливайтесь, вашбродие, стреляйте. Но в голове заклятие – бир сум, бир сом, бир манат 1. Но неистовая нежность к безумной стране. И повстречал на улице темной ватагу молодых бойцов, удальцов, и гикнул радостно, и побежал навстречу. Но руки при себе держал, словами хлестался, кичился, крошился. Тогда кастетом по башке по глупой, рады услужить тебе, самодуров, сумароков ненаглядный. И разбежались молодцы, потому что страшно упал, головой в асфальт нырнул, как в перину. Но хоть бы что – поднялся, пол–лица снесено, кровь хлещет, улыбается. Пошла, родимая, пошла реченькой, своя пошла, не чужая. Спасибо Господи, легче стало, ушла дурь немножко. Но не вся ушла. Чуть осталося. Чуть осталося, затаилося. А потом опять стала множиться – копировальной техникой называется. И добрел до дома ее, светла терема. И позвал кускуса на побоище, выяснение отношениев, на простую битву словесную, без оружия применения.
– Ты пьян, – сказал Георгий. – Уходи.
– Ты не понимаешь, – сказал Федор, – ты брат мой. И я с ней поговорить хочу.
– Я тебя не пущу. Уходи. Сейчас милицию вызову. Я права знаю.
– А я много плавал. Я видел небо. В сторону отойди… – И видел, как она в окно смотрит только на него, на лицо его, с сомнением смотрит, с надеждой, с болью.
– Все, пошел прочь, – ощерился кускус в норе.
– Сам пошел прочь, брат… – И опять – прямым курсом, к подъезду ее, к окну.
Сзади заверещали, завизжали, на спину прыгнули. А он руки свои внимательно держал, не дай бог, а ногами шел, переступал шаг за шагом. А сзади царапался, кусался, мелким бесом вился Гоша, Георгий, дружище. Тут соседи набежали, сначала толкаться стали, отпихивать, потом рубаху порвали, тельник до пупа полоснули. А он шел, уже в подъезде был, кровь текла старая, новая ли – не важно, не замечал. Тут мигалками замигали, дубинками застучали – приехали порядки наводить. А он шел, лишь руками за перильца хватался, помогал себе. Тяжело шагал, свинцово, одна ступенька,
другая – медленно. Один раз свалили его, замелькали кулаки, рук и ног сплетение. Запыхались немного все, но держат. А он трезвым голосом: «Мужики, что за групповуху тут устроили?» – и лишь хмыкнули чуть–чуть – поймал момент, вырвался, и вперед и вверх, через три ступени, через четыре. Следом бросились, ведь азарт уже, уже слюна капает. А он впереди своры, голова битая, руки чистые, в мелком серебре, уж догнали было, тут она дверь распахнула, светлая: «Пустите его. Он мой. Мой – слышите».
ПЕРЕУСТРОЙСТВО МИРА
– Вот эту бери, мягкая. – Клоп протягивает мне пластмассовую бутылку с какой–то бытовой химией, содержание, впрочем, не важно.
– Подожди, я еще не все попробовал. – Мне не хочется торопиться, не каждый день выпадает счастье самому выбрать себе брызгалку.
Длинные ряды разных бутылок стоят на стеллажах, мы ходим вдоль них и по очереди с задумчивыми лицами трогаем каждую, сжимаем пальцами, примеряем в ладони. Потом, позже, когда Клопу отрежет руку поездом, а я почти выжгу себе глаз охотничьим порохом, украденным у деревенского дядьки, нам долго не понадобятся брызгалки. А пока мы полностью поглощены непростым процессом выбора.
– Может, эту?
Бутыль настолько большая, что Клоп держит ее обеими руками. Настрой у него воинственный. Вчера мы с ним и еще с несколькими парнями с нашего двора вскрыли рабочую бытовку на ближайшей стройке. Проникнув в затхлое, спецодеждой пахнущее помещение, нашли там Алладиновы богатства. Ящик с вентилями был там, и каждый взял себе по несколько штук. Вентиля нужны, чтобы открывать воду из трубы, которая выходит прямо на улицу в каждой пятиэтажке. Если у тебя есть свой
вентиль – ты практически непобедим в битве на брызгалках. Ведь противник будет каждый раз бегать домой за новой порцией, и его, усталого, уже будешь поджидать и окатывать с ног до головы сиятельный ты. Еще там были цветные провода – это чтоб плести различные штуки, даже и кольца, которые потом можно дарить всем, начиная родителями и заканчивая смышлеными одноклассницами. Потом, кабель в свинцовой обмотке был там. Это вообще сокровище. Свинец бывает двух видов – твердый, из аккумуляторов, и мягкий – из такого вот кабеля. Твердый нужно плавить на костре в пустой консервной банке, затем выливать в какую–нибудь заранее подготовленную форму, лучше всего подходят столовые ложки, стащенные (м. б., тайком унесенные?) из дома. Мягкий же свинец можно просто согнуть несколько раз, спрессовать молотком, придать нужную форму. Битка из мягкого свинца получается гораздо удобнее, она не отскакивает от асфальта, и пивнушки переворачиваются лучше. Пивнушки – это пивные крышки с заплющенными внутрь краями. Самая ценная – из–под болгарского сока с изображением печальной красной тетки, остальные – просто желтые, «золотухи», гладкие и увесистые. Если заплющить края вместе с внутренней пробкой, то пивнушка получается толстая, приятная на ощупь, но зато неустойчивая. Пивнушку без пробки труднее проиграть, но не так приятно иметь – извечный парадокс. Пивнушку от импортного пива я видел один раз в жизни. Стоила она пятьдесят обычных. Это – мечта.
Но пока мы выбираем брызгалку. Наконец находим ту, которая подходит по всем параметрам – среднего размера, в меру мягкая, с удобной пробкой и широким горлышком. Дома я вставлю в пробку половину от шариковой ручки, чтобы струя была сильной, острой, длинной, закреплю как следует, и оружие готово.
Вообще все битвы строго сезонные. На брызгалках – жарким летом, ближе к осени – трубки болиголова и рябина, осенью ранней – индейские лесные походы в полном облачении, с оружием, изготовленным по древним технологиям – с каменными наконечниками, прикрученными сыромятными ремнями и закрепленными расплавленным битумом. Осенью поздней – опять лес и костры, где взрывалось все, что должно взрываться, а также то, что взрываться никак не должно, например, старый утюг, найденный на помойке и плотно набитый ампулами с каким–то лекарством того же происхождения. Переходим к зиме – великие ледовые побоища, деревянные мечи, длинные копья из брусков, фанерные щиты высотой в человечий рост. Весной ранней можно колбаситься за буксующими машинами, можно развлекаться на недалекой железной дороге, где на рельсы подкладываются гвозди (отличные кинжалы из них потом получались), мелкие деньги, а также в стыки забивались костыли, и ни один поезд из–за этого с рельсов не сошел, хотя странно. Весной
попозже – деревянные ружья, стреляющие пульками. Я помню производство таких ружей во всем его развитии. Сначала они были короткими и довольно узкими.
В качестве пороха использовалась «венгера», круглая резинка довольно тонкого диаметра. Где ее брали – для меня до сих пор загадка. Убойная сила таких ружей была ничтожной, способной лишь легким чпоком об одежду зафиксировать попадание в убегающего противника. Дальше производство совершенствовалось. Ружья стали делать из толстых досок и длиной чуть не в полтора метра. Посередине рабочей поверхности ружья проделывалась борозда, по которой пулька летела от курка до конца ствола. Венгеру заменила «бинтовуха», плоская широкая резина, которую нужно было разрезать вдоль на несколько полос. Была она двух видов – серая и желтая. Серая продавалась в аптеках, не отличалась особой прочностью и часто рвалась в самом пылу битвы. Поэтому очень ценилась «бинтовуха» желтая. Где ее брали, я тоже не знаю. Однажды прошел слух, что на ближайшем аэродроме все колеса у небольших самолетов – «кукурузников» и вертолетов состоят из отличной, замечательной, самой лучшей в мире «бинтовухи». После этого всерьез собиралась экспедиция, чтобы ехать на аэродром и откручивать у самолетов колеса. Почему она не состоялась, не помню, возможно, из–за необходимости пробираться через чужие, враждебные нашему районы. Совершенства же ружья достигли, когда кто–то, затерянный в истории, придумал использовать ниппельную резину. Продавалась она в любом магазине автозапчастей и стоила копейки. На конце ружья стали укреплять маленькую проволочную рогатку, которая была отличным направляющим и прицельным устройством. Снизу под стволом приделывалась стоймя полиэтиленовая крышка для банок – она предохраняла руки при случайной отдаче или зацепе пульки за резину. Под курком прибивали наждачную бумагу – она исключала случайный, незапланированный выстрел. Убойная сила ружья стала такой, что рвала демисезонные куртки и сквозь поддетые под них плотные свитера и рубашки оставляла на теле огромные синяки. Также можно было сбивать большие сосульки с крыш пятиэтажек, разбивать стекла и насквозь дырявить тонкую фанеру. Пульки были тоже двух видов – обычные и «бараны», из провода в белой оплетке. Прямой выстрел «бараном» в противника выводил того из боя не только морально, но и физически, и никто уже не спорил – попал или не попал.
Во всех играх Клоп был если не зачинщиком, то одним из главных придумщиков. Кто, если не он, придумал, как делать парики для индейских войн из резиновых бассейновых шапочек, чтобы удобнее было снимать скальпы. А когда стали обидно ломаться старательно выбитые из кремня наконечники стрел, Клоп придумал использовать иглы от швейных машин. Теперь стрелы втыкались в цель с любого расстояния, словно в кино, только договориться пришлось друг в друга не стрелять.
Еще история с карбидом, который взрывали в бутылках с водой. Было трудно достать удобные емкости с завинчивающейся пробкой, а через обычные затычки газ просачивался, и долго не нагревалось содержимое до нужной температуры. Тогда Клоп утащил из дома старый большой ватник и грел бутылку с карбидом под мышкой. Когда та достаточно, по его мнению, нагревалась, он быстро ставил ее возле себя и с головой накрывался ватником, плотная ткань которого была скоро иссечена осколками.
Мы старались не отставать от Клопа. Когда я придумал, как из спичечных коробков и пороха делать взлетающие вверх и взрывающиеся там шутихи, то первым поплатился сам и долго, к зависти друзей, ходил с повязкой на правом глазу, словно известный пират. Зато совместно разработанный способ взрывания дюбелей в асфальте сразу показал эффективность свою и безопасность. Обычно делалось так: дюбелем пробивалось в асфальте глубокое отверстие, в которое затем насыпалась сера от спичек нескольких коробков. После этого дюбель осторожно вставлялся обратно. Проблема была в том, как безопасно ударить по нему сверху, благо взрывом выворачивало куски асфальта величиной с толстые книги, и взлетали они на пару метров вверх. Решение оказалось простым и почти гениальным – самый отчаянный разгонялся на велосипеде с кирпичом в руке и, проносясь на большой скорости мимо дюбеля, со всей силы бросал на него кирпич. Через мгновение за спиной раздавался взрыв, радостные крики друзей, а в душе поднималась гордость за удачно исполненное дело.
Когда Клоп сорвался с поезда и лишился правой кисти, всем нам надолго запретили даже приближаться к железной дороге. Он же появился во дворе через неделю, с рукою в гипсе и на перевязи, словно раненый комиссар. Довольно быстро освоился со своим, казалось бы, недостатком и скоро уже наравне участвовал в потасовках, превратив гипс в грозное оружие. А когда из культи ему сделали что–то наподобие клешни, то все как бы стало на свои места, даже кличка у Клопа осталась прежняя, не сменившаяся на какое–нибудь ракообразное.
Отсутствие, лишенность свою железной дороги мы быстро восполнили новым изобретением Клопа. Называлось оно «тачка на подшипниках». Грубо сколоченная из тяжелых, неструганых досок небольшая платформа ставилась на четыре шарикоподшипника. Передняя ось была подвижной и позволяла рулить ногами. Также был предусмотрен тормоз в виде косо прибитой небольшой доски, одним концом упирающейся при необходимости в асфальт. Скорость была не главным достоинством тачки, хотя и ее хватало. Грохот, производимый ею и напоминающий лязг с рельс сошедшего локомотива, заставлял испуганно оборачиваться прохожих. А когда по крутой асфальтовой горке неслось двадцать таких колесниц, в ближайших домах дрожали не только стекла, но и стены.
Удивительно, но я совсем не помню девчонок в тогдашней нашей жизни. Их как будто вообще не было, и мир был прост, яростен, прекрасен. А еще нам казалось, что мы можем легко этот мир изменить, сделать еще лучше. Мы умели делать много новых, веселых и нужных вещей, изобретать их заново или открывать в прошлом и заставлять жить заново. Мы никого не боялись и творили порой чудеса вопреки боязливой осторожности взрослых. Мы бегали так, что в ушах свистел ветер посреди полного безветрия, кричали так, что звенели стекла и мысли, дрались так, что врагам нашим лучше было умереть, чем сдаться, мирились так, что не могли друг без друга потом ни одного дня, и кровь из порезанных рук смешивалась, крепя эту дружбу, восторг и беду. Мы жили, и даже время было не властно над нами, оно лишь меняло сезоны, и в каждом мы находили повод для игр и боев. Нас любили окрестные леса, и одежда наша намертво пропахла дымом веселых костров. Нас обожали дворовые собаки и верной гурьбой носились за нами всегда. Страшным боем мы лупили ублюдков, которые вешали щенков и живьем сжигали котят. Нас ненавидели сторожа и домохозяйки – мы воровали, ломали, взрывали и в треске, грохоте, стыде рождали новый мир. Мы мир делали под себя, и он становился лучше, потому что мы были хороши.
Автором последнего изобретения был кто–то другой, оно пришло извне. Сами до такого мы додуматься не могли. Потому что для него нужны были презервативы.
В аптеке они назывались «изделием номер три» и стоили соответственно три копейки за штуку. Резина у них была плотная и тягучая. Попутно, из какого–то нехорошего любопытства мы купили все остальные приспособления и средства, которые лежали на этом прилавке. Назначения большинства из них мы так и не поняли, пооткрывали все, понюхали, потрогали на ощупь да и выкинули в ближайшую помойку. Но с «третьими изделиями» знали, что делать. Брался круглый патрон от электрической лампы, отверстиями зияющий с обеих сторон. На него натягивался кондом.
В свободный конец опускался метательный снаряд – камень ли, ягода ли рябины – не важно. При хорошем натяжении он летел метров на тридцать, обеспечивая отличную точность. Куда там рогаткам предыдущих поколений – мы оказались изощреннее. Правда, названия этому оружию тогда как–то не придумалось, и даже сейчас, вспоминая и делая попытку дать имя новой вещи, испытываешь трудности – настолько странна, необычна, гибридна она. Кондострел, презераст, гандлангер – ничто не подходит, не звучит, не отражает единороговой сути его. Пускай приспособа эта называется «тлымбря», хотя и это слово не орошает. Да простит меня кстати вспомнившаяся гостья из союзной республики, красивая и гордая девочка–подросток, появившаяся во дворе незадолго до аптечных изысканий. Презрительно смотрела Маша Саблер на наши подвиги, кидала исподлобья острые неодобрительные взгляды, за что и назвалась звучно и намертво – Машка Копьеблер. Позже выяснились, что многие уже тогда испытывали неясное томление и желание дружить, тем громче кричали они ей вслед обидную кличку
И вдруг оказалось, что гораздо большее удовольствие, чем придумывать вещи, это давать им новые имена и искать слов новые связи. Тогда поехало, понеслось, и то, чего глупые добиваются с помощью наркотиков, стало происходить повседневно, в пылких беседах, в фантазийных разгулах. Вдруг мир действительно стал меняться, и Буратино оказался Карлсоном, потому что сын Карло; и цыган без лошади, что без крыльев птица, соответственно новозеландского происхождения; и раз карелы и финны суть арийцы, то пусть едут к себе в Индию; и славлю революцию кудлатую, и мы восстанем из ухаба туда же; и Rabbit in the Night как гимн демократической молодежи; и Daily Raper как ее же печатный орган; и коммунистическая монархия как данность, и nicking unbelievable как склонность. Мир стал меняться и засверкал, заискрился новыми бесстрашными красками. И жить стало лучше и веселее, и чушь прекрасную нести смешно и безотказно. И сами себе мы вдруг показались могучими титанами, безнадзорными героями, хотя шипели вслед учителя. Мы просто меняли мир, страну, себя.
Когда через десять лет мы хоронили Клопа, то было нас уже чуть больше половины, да и у тех лица частично алкоголические. Кто–то не вернулся из армии, кто–то отравился суррогатами, кто–то встал по разные стороны баррикад и пал в битвах за деньги. Клоп же утонул на рыбалке, и это была не самая плохая смерть. Пьяный, упал с лодки, клешней своей запутался в сетях, и раки приняли его за своего. Плакали немногочисленные женщины, немногих успелось полюбить. А мы постояли молча над могилой, посидели сумрачно на поминках, а потом принялись вспоминать про брызгалки и ружья, пивнушки и самострелы, про случаи и клички – про то, как мы меняли мир.