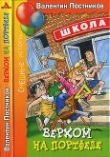Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Новиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Трудно поймать семгу. Она рвет сети и избегает ловушек. Потому строили раньше сложные лабиринты, чтобы запутать ее, чтоб не выпустить. Но и тогда бежала их большая часть.
Лишь во время любви, во время пути на нерест, можно легко поймать ее. Как и человек, теряет она тогда голову и бросается на любую наживку. Как и человек, хочет защитить свое потомство и в благородстве своем становится легкой добычей. Нет вкуснее рыбы семги.
Я долго, оскальзываясь на прибрежных камнях, бродил вдоль реки. Возбуждение, азарт, гоняющие вверх и вниз по течению, утихли, и пришла усталость. Я в разных направлениях хлестал воду спиннингом, и каждый раз блесна приходила пустой. Иногда ее сильно дергало, и сердце тогда замирало в радостном предчувствии, но это были всего лишь речные водоросли, которые податливым пуком приплывали потом вслед за снастью. Счастья не было. Не было и удачи. Снасти мои, привезенные из далекой от моря местности, были скорее щучьими, нежели семужьими, и я начал ярко осознавать еле видимую раньше разницу. Я был глуп, неумел, неудачлив и беспомощен. Рыба не шла ко мне. Так же точно любая женщина чувствует недостаток твоей энергии, если ты устал и слаб, и любые говорения, шутки, изысканное кружение будут бессмысленны. Слабый остается голодным.
Я думал так и медленно отчаивался. Неспешно текла жирная река Варзуга, гораздо быстрее ее бежало время лицензии, уходила, ускользала от меня моя рыба. Где–то в глубине воды, за камнями, в медленных водоворотах обратного тока, что бывает возле глубоких ям, стояла она, отдыхала после борьбы с рекой и смеялась надо мной. Вернее – подсмеивалась, настоящие женщины никогда не смеются открыто, с окончательной бесповоротностью. Они всегда дают шанс.
В тщетных этих надеждах прошли последние полчаса. Подушечки пальцев уже сильно болели, натертые грубой лесой. Та, в свою очередь, начала путаться и виться в кружева, устав от бесконечных забросов. Многочисленные смененные блесны отдыхали в беспорядке в пластмассовом ящике. Последней я нацепил «тобик», подаренный нарядным москвичом. Нацепил, не веря уже ни во что, слишком уж аляповато раскрашен неестественными, кислотными красками был он. Но так же думаешь порой о людских игрищах – кому нужны их дешевые, злые кривляния. А потом глядишь – и сам уже пляшешь под общую прелестную дуду. Всех нас легко обмануть.
Она взяла быстро и яростно. Несколько раз успела всплыть, блеснуть ярким серебряным брюхом, отчаянно рвануться вглубь, извернуться, выстрелить против течения, притвориться усталой и вновь рвануться с предсмертной искренней силой. Я сам не успел испугаться и поэтому был неумолим. Тупо, пыром, пер ее на берег. Не было ни времени, ни пространства – лишь мы с ней. Мы были единым существом, связанным, как пуповиной, толстой плетеной лесой, которую невозможно разорвать. Я не помнил себя, не было рук, ног, ушей – ничего. Лишь в глазах бился серебряный огонь. Очнулся я, когда она уже лежала на берегу, не сумев разорвать нить, но сломав напоследок, в последнем излете, крючок обманной яркой снасти, уйдя от него, но уже на берегу, уже опоздав. Она освободилась в смерти, и это был единственный способ, единственный метод свободы. Для нее. Возможно, для меня. Вероятно – для всех.
Я сидел на берегу жирной реки. Тихо плескала о камни проходившая мимо вечная вода. Лежала рядом мертвая царевна – красавица–серебрянка. Солнце медленно выплывало из–за сопки. Начинался новый день. Последний. Здесь.
Я шел к навесу, бережно неся ее на руках. Прекрасное прохладное тело ласкало мои ладони своей ласковой тяжестью, своей неземной гладкостью. Оно было и в смерти стремительно. Я был очень рад ему. Я был счастлив ей.
Под навесом за деревянным столом сидел нахохлившийся, лохматый со сна Конев и пил свой утренний чай. Сладкий и горячий, он был здесь его единственной едой, кроме спирта.
– Конев, я поймал ее! Я поймал свою рыбу! – я был переполнен счастьем, громок.
– То–то я гляжу – идешь надувшись. Смотри, под навес не влезешь, – завистлив и точен был мой друг. Он умеет так, по–разному и одновременно.
Неслышно подошел Македоныч.
– Словил? – он вскользь посмотрел на мою рыбу, потрогал ее корявым пальцем. – В каком месте?
– За мысом, у камня, где водоворот, – ликовал я.
– На больничке взял, – констатировал Македоныч.
– …??? – кончились мои слова.
– Там яма у берега. Там ослабелая отдыхает. Другая же по середине прет.
«Ну ладно», – опять подумал я.
Мы печально собирались уезжать. Почему–то так здесь – тяжело, неприкаянно, никаких тебе бытовых условий, а душа накрепко прикипает к северным местам. Так, что, покидая их, отдираешь ее с болью, и долгое время потом сочится еще она сукровицей. Читал я про Бориса Шергина, великого поморского писателя, что когда жил он уже, старенький и слепой, с несостоявшейся судьбой и разрушенным здоровьем, приживалом на даче знакомых в Подмосковье, то уехал племянник хозяев на Север в путешествие. Вернувшись же оттуда, впал в длительный, слезливый, нескончаемый запой. Все ругали племянника, совестили, кляли на чем свет стоит. И только мудрый Шергин увещевал всех ласково:
– Не ругайте, не ругайте его. Вы не знаете, что такое Север!!!
Уложили вещи, разобрали собранную было Коневым байдарку. Он под конец похода решил, что совсем уже окреп, и даже сумел сделать лодку. Весь Дикий лагерь с интересом ждал нашего отплытия: байдарка – редкое судно в кругах матерых рыболовов. Но поднялся сильный полуношник, вспенил воду и погнал баранов по широкой реке. В такую волну соваться на воду не хотелось, и под усмешки лагерных жителей мы сложили лодку обратно в мешки. Все это усилило и без того тяжелую грусть. Уезжать в цивилизацию не хотелось так, что усталые руки сами опускались вниз и роняли на землю различные грузы. Нам опять помогал Македоныч. Палатка, спиннинги, мешки с байдаркой были снесены в лодку. Канистру с остатками спирта мы подарили благодарным мужикам. Самое ценное – пластмассовое ведро с засоленной семгой – я любовно носил везде с собой. Конев крепился – у него не было такого ведра. Заварили прощальный чай. Сели кругом с новыми друзьями, бесы уехали на день раньше. Во главу стола посадили Македоныча.
– Как жить, старик? – все не унимался с расспросами я. – Как разобраться в этой стране, где люди злы и добры одновременно, где ничто не движется вперед, а все только по кругу, где подвиги похожи на преступления, и обратно все тоже похоже? Где на словах вместе, а на деле все люди – враги?
– Почему семга мелкая идет? – интересовало практичных мужиков.
Моим глупостям старик улыбался устало, рыбакам же ответил коротко:
– Залома не стало давно.
– Что есть «залом»? – надменно спросил новичок, по виду – типичный питерский.
– Залом – самая крупная семга была, в бочку не влезала, вот ей спину ломали, чтобы поместилась. За десять килограмм вся, а то и в тридцать попадала. Она поздно шла из реки в море, последняя, перед самым льдом. А у нас был рыбнадзор, – Македоныч вдруг разговорился.
– Фамилия как?
– Не наша фамилия, Прищепа то ли Прилюба какой, не помню уже сейчас. Но такой идейный – все знал, как правильно, ни в чем не сомневался никогда. Тюрьма так тюрьма рыбаку, раньше строго было. А потом власть да научники решили реку перегородить. Сами все вычислили, ни стариков, ни прочего народа не спросили. То ли с вредителем семужьим боролись, то ли еще с чем глобальным. Сеть поставили в октябре.
– Дальше чего? – даже бывалые заинтересовались.
– А ничего. Прилюба этот несколько месяцев пришибленный ходил. Так–то раньше хорохорился да сеть ставить помогал. А через месяцев несколько проговорился: «Не будет больше залома, мужики, – говорит. – Ходил я по реке в конце той осени. Все берега колобахами такими мертвыми усеяны были. Разом все стадо вывели. С ним и вредитель пропал. Некому вредить стало».
– И где он теперь, идейный этот?
– Не знаю, пропал потом. Уехал куда, наверно. Теперь в другом месте служит.
Мы допили чай, поручкались с мужиками и сели в лодку. Македоныч дал течению отнести ее от берега и завел мотор. Тот затарахтел тихо, не нарушая лежащего вокруг покоя. Его ничто не могло нарушить. Ни наши новые друзья, отчего–то решившие проводить нас до ближайшего мыска, медленно бегущие по берегу с явной похмельной одышкой. Ни плеск семги, которую тащил то на одном, то на другом берегу удачливый рыболов, сразу сгущающий вокруг себя пространство хорошей, азартной зависти. Ни даже взлетающий с завидной периодичностью вертолет, возящий совсем богатых в верховье реки, где они тешили самолюбие на нерестовых ямах. Все это знала и видела не один раз жирная река Варзуга. Всю людскую доблесть, боль, гнев и отчаяние впитала она в себя и теперь текла мудро и неторопливо. Все было и все будет. Только бы не совсем в бесовское бесчинство впадали насельники земли, и тогда будет идти в глубине воды большое стадо рыбы, движимое любовью.
Так же неторопливо, как река, правил лодкой старик Македоныч. Есть вещи, о которых не принято говорить, вот он и молчал. Есть вещи, о которых говорить бессмысленно, и он не говорил. Но меня опять черт за язык тянул:
– Македоныч, а вот у отца Митрофана мы были. Вроде ничего мужик, церковь восстанавливает, книги пишет. Вы как к нему в деревне относитесь?
– А плохо относимся, – без заминки, как о давно решенном, отозвался старик.
– Почему? – я сильно удивился.
– Да понаставил всюду крестов своих, новых, не наших.
И таким холодом древнего раскола дохнуло вдруг, что жутью пробежал по коже дальний ветерок. Ведь прошли века, почти забылись войны, и лишь непримиримая память честной веры не простила дочери своей принятия искуса. Так и вкусившие однажды не простят обмана революции. Будут молчать и помнить.
– Ну что, до дома напрямки? – Македоныч, казалось, не заметил нашего волнения. – Давайте, приезжайте еще. Осенью приезжайте, тут совсем красиво будет. И листопадка пойдет, самая крупная после залома. Приезжайте, остановиться у меня можно будет, изба есть свободная.
– Я очень хочу, я обязательно приеду, – сказал я, а Конев промолчал. Его уже изо всех сил тянуло в цивилизацию.
– Ладно, до встречи тогда. Бог вам в помощь. И мне тоже – гавры еще проверить нужно до полной воды, – старик легко оттолкнулся от берега. Лодка как по маслу пошла по успокоившейся к вечеру воде.
Мы быстро уложили вещи в машину. Хотелось ехать – не тянуть саднящей горечи прощания с любимыми местами. Благо к нам они были спокойны, не назойливы – дали рыбы, ветром приласкали да водой окропили – на том спасибо. Сантименты для тонких душою. Мы же за несколько дней здесь покрылись грубою коркой грязи, копоти, запахов, радости. Мы вновь были сильны для мира. Черт нам был не брат.
А когда выехали из деревни и дорога вновь прошла у моря, не смогли не остановиться на прощание. Был уже поздний вечер. Ветхая серая дымка раненого северного лета висела над водой. Само же море было темно–синее, спокойное и неприветливое, как усталая от жизни старуха. Тихо и замкнуто лежало оно перед нами. Где–то невдалеке покрикивала стайка птиц, сидевшая на воде. Негромко постукивала уключинами рыбацкая лодка, угадываемая в темном силуэте. Размыто чернели всплывающие в отливе камни. Дальше было совсем сине, мрачно, беспросветно.
И вдруг что–то случилось! Что–то чудесное грянуло, произошло! Невероятный, безумный, отчаянно–веселый солнечный луч вырвался из узкой щели между низкими тучами и горизонтом. Он вырвался – и ворвался, и вдруг окрасил все золотом, неприкрытым, непредумышленным золотом счастья. И на темно–синем фоне засверкали, больно глазам и душе, – камни, птицы, поплавки сетей. И возле них, в золотой ладье, медленно перебирал, тянул золотые сети сверкающий человек. В сетях этих светлым золотом билась сиятельная рыба.
Через месяц я позвонил Коневу. Соскучился по нему, да и как–то замолчал он после поездки.
– Не ругай, не ругай меня! Ты же знаешь, что такое Север, – сказала трубка хриплым коневским голосом.
ЖЕЛЕЗНОЕ СЧАСТЬЕ ДОРОГ
Мне свойственны и сдержанность, и скепсис. И я не изменю им здесь. Но это будет трудно. Потому что мне очень сильно повезло. Так редко, но бывало в детстве: идешь из школы, вернее, слоняешься по улицам в приблизительном направлении дома, никого не трогаешь, ничего хорошего от жизни не ждешь – как вдруг сквозь щель дощатого настила за каким–нибудь ларьком «Союзпечати» замечаешь серебряный блеск двадцатикопеечной монеты. Это большая сумма – ты только что пообедал на пятнадцать (взял в столовке суп с рыбьим жиром за десять и картофельное пюре за пять, набрался смелости и попросил повариху – та полила его сверху бесплатною подливкой от гуляша), у тебя пять копеек на автобус, и тут – негаданное счастье. Двадцать копеек – это мороженое. Или, если в автобусе брякнуть пятаком по кассе, но не опустить его, а билетик открутить – тогда за двадцать пять можно купить в хозяйственном магазине какого–нибудь фарфорового бегемота небольшого размера, с широко раскрытой розовой пастью. Ими почему–то были переполнены хозяйственные магазины. В любом случае, двадцать копеек были большой мальчишеской удачей. Кому–нибудь все это покажется слишком приземленным. Я же просто помню вкус того мороженого.
Так и здесь – когда я с восторгом начинал говорить, что через две недели поеду поездом на восток страны, некоторые морщили лоб, другие – нос. «Вот если бы куда–нибудь в тропики… – вяло говорили они. – А так – Сибирь, бездорожье, грязь, разруха, китайцы…» Отдельные знакомые литераторы даже надменно кивали головами: «Да, звали. Нет, я отказался. Не вижу никакого смысла».
Мне не хотелось разбираться в их причинах. Я‑то знал, что меня снова посетила удача. Объять взглядом, измерить колесами всю огромную страну – что может быть прекрасней! Я мечтал об этом в отрочестве – не получилось. Я пытался в молодости – и долетел до середины – до Красноярска. Тщетно старался сделать это несколько лет назад. И вот – приглашают, зовут, в прекрасной и непростой компании, где каждый – зол, писуч и языкаст. В путь, наполненный физическими трудностями и моральными удовлетворениями. Сомнений не было. Было предчувствие вкуса.
Физические трудности
Расстояние – это трудно. Поездом из Петрозаводска в Москву, там – самолетом до Красноярска. Потом – сквозь Иркутск, Улан – Удэ в Читу. Все это за неделю. Долго считал, сколько получилось в тысячах километров. Сразу вспомнилось, как в Южной Корее рассказывал, где живу.
– Далеко до Москвы от вас? – спрашивали.
– Нет, недалеко. Тысяча километров.
– А до Мурманска?
– Тоже рядом. Тоже тысяча.
Смеялись.
А теперь почувствовал масштаб вживую – больше по усталости тела. Душа же ликовала – кругом простиралась Родина. Ушибленности ширью не было. Была восторженность размахом. Каждого из жителей страны нужно в юности провозить до самых до окраин. Чтобы напрочь исчезали мысли о самоуничижении и унижении других. Чтобы учиться дышать свободно и глубоко.
Моральные удовлетворения
Я ехал на восток в опасениях. По телевизору в различных рейтинговых передачах то и дело говорили: там взорвалось, тут протекло, здесь убили, и везде занесло снегом. Это ведь у нас, на русском севере, все более или менее спокойно, живут люди, решают проблемы, делают дела. А на востоке – на востоке другое дело. Меня не так давно попросили из одного глянцевого журнала, мол, напишите нам чего–нибудь чудесно–шокирующее про свой город. Чего–нибудь такое ужасное, чтоб стыла кровь и подрагивали конечности. Ну или в крайнем случае что–нибудь неприятно–смешное, выверт какой–нибудь циничный.
Я долго думал, но так и не смог ничего им написать за пятьдесят долларов. Да и за тысячу не смог бы, наверное. Ну шторм на озере был и набережную разрушил. Ну бичи подрались вусмерть, так это ж везде. Не трогает меня это почему–то. Не будит чувств. А вот девочка новорожденная умирала, в коме уже лежала несколько дней, на искусственной вентиляции – и покрестили ее. И не верили ни врачи, ни родители. А она на поправку пошла. И выздоровела. Друг доктор рассказал недавно, детским реаниматологом он работает. Мне вот это нравится. Глянцу – нет, не знаю почему. В этом Дима Быков лучше разбирается.
Так и здесь – еду и жду. Жду разрушенных городов, засилья китайцев, нищеты и безобразий всяких. Готовлюсь. «Но и такой, моя Россия…»
А приезжаем – и Красноярск с лимонно–желтыми сопками, с голубым Енисеем, с ухоженными улицами и красивыми людьми! Я был тут двадцать лет назад и хорошо помню – было хуже. Сопки желтели, Енисей голубел. Но главная улица отвратительно неухоженной была, и народ смурной ходил, серо–черный.
В Иркутске раньше не был, но очаровался сразу. Улицы с домами старой архитектуры, парки, красавица Ангара. Чисто опять же. Ухоженно. Разрухи не видно. Занимаются люди. Решают проблемы.
В Улан – Удэ я вообще влюбился. Такие люди красивые! Город размером с мой Петрозаводск – и потому милый. Даже голова Ленина на главной площади чудесная – шесть метров одной головы! Тайное наше оружие, в случае войны с той же Америкой – не надо никаких ядерных зарядов. Голову Ленина на Вашингтон им скинем, и победа обеспечена – содрогнется Америка в ужасе.
Чита тоже понравилась. Люди везде свои, родные, русские, даже если других национальностей. «Что это вы по–русски немного не так говорите, не как мы?» «Так с севера я, карельская тональность опять же. Понимаем ведь друг друга?» «Хорошо понимаем», – смеемся все.
Я, когда вернулся, встретил девушку знакомую, в аптеке она работает. Спрашивает:
– Ты случайно в Улан – Удэ, в Бурятии, не был в октябре?
– Был, – говорю, – возили нас.
– А я первый раз в жизни поехала родственников навестить. Включаю телевизор – а там тебя показывают…
Так что близко все. По душевному настрою, по мироощущениям, по чувствам. Родные люди живут. Наши. Свои.
Мы ехали в одном купе с другом–врагом моим (так он мне книжку подписал), уже не очень молодым, но по–прежнему революционным Захаром Прилепиным. И по городам вместе ходили, смотрели везде и участвовали. Я подумал: вдруг я чего–то не вижу, каких–то язв не замечаю, мимо катаклизмов неразрешимых прохожу? Захар–то зорким соколом везде поглядывал: он, как заметит где язву, сразу старается революцией позаниматься. Но под конец поездки друг мой приуныл, как–то не сложилось, видимо, с язвами.
В каждом городе нас встречали. Хлеб–соль, оркестр, праздничные речи – ладно. А вот чудесные стайки девчонок–библиотекарей – это что–то! Не знаю, чья идея была, но воплотилась она прекрасно. Всех нас сразу расхватывали, рассаживали по машинам, и образовывалась мобильная библиогруппа. Водитель – обычно чей–нибудь муж или друг, писатель – сначала хранящий гордое молчание, и несколько веселых, красивых и умных девушек, улыбчиво беседующих о литературе. Нас четко и оперативно развозили по библиотекам, школам и университетам. В приятных и острых беседах быстро таяла писательская настороженность, и на встречу с читателями он доставлялся уже разогретый, с открытой и доброй душой.
Во многом поэтому встречи проходили интересно и остро.
И трогательно. Особенно в те моменты, когда читатели, за недостатком обычных книг, выстраивались в очередь за подписью с распечатанными из Интернета произведениями автора, которые они сами любовно брошюровали и даже оформляли собственными рисунками. А вы говорите – люди отвыкли от чтения!
Моральные трудности
Мне трудно об этом писать. Но я не могу не помнить о ней. Все очень близко, связано, сложно. Было много новых лиц, много торжественных речей и возвышенных слов. Она сначала показалась очень простой. Глухо повязанный платок, темное длинное пальто, молодое лицо без косметики. Одна из сопровождающих, везущих известных и маститых на встречу с восторженными. Я даже не помню город, Иркутск или Улан – Удэ, слишком быстро крутился калейдоскоп. Но то, как быстро она заинтересовала, ее манера говорить робко и в то же время отчаянно и правильно, правильные вещи, – это бросилось в душу. Было странное в ней, в этой девушке, а писатели – народ наблюдательный.
Ее стихи похвалил столичный критик. А потом мы с Прилепиным позвали ее на прощальный банкет. Она стеснялась и не хотела идти. А мы уговаривали, опьяненные успехом и обилием поклонниц. И она пришла, и опять удивила – красивая, яркая женщина с насмешливой улыбкой и печальными глазами. Отчего–то пила она только воду и, смеясь, говорила нам, что похожи мы на артистов. Захар по–детски радовался, а я усмехался про себя, видя ее иронию. И все равно было здорово, мы болтали, внезапно сдружившись, полдня назад познакомившись, болтали о наших рассказах и ее стихах. И было видно, как это волнительно и радостно для нее.
А потом настала пора ехать. Мы вышли на холодное каменное крыльцо и стали уже прощаться. И ей было жаль, она сильно смущалась, и я очень хорошо понимаю ее волнение. Зато я не понимаю себя. Знаю, что давно не в медицине, что утратил ту быструю реакцию помощи, которая была раньше. Но все равно мне больно вспоминать, как растерялся и не понял ничего, когда она жалобно заскреблась, стала хватать меня за рукав. А когда понял – было поздно, я не успел подхватить, она упала прямо на холодные и гладкие камни ступеней. Я промедлил эту секунду.
Знаешь, – хочется ей сказать, – мне все очень понятно. Я не люблю людей с фильтрами, а их большинство. Настоящие же слова пишутся теми, кому очень больно. Мне трудно было об этом писать, а теперь стало радостно. Потому что я точно знаю: у тебя хорошие стихи. И это – главное. И самое важное, чтобы ты знала – все обязательно будет хорошо.
На следующее утро поезд опаздывал. Мы поднялись в пять утра, размялись и умылись, а он все шел и шел сквозь огромные пространства родной и неведомой страны. Я смотрел в беспросветно–темное окно, а попутчик мой вдруг включил на своем ноутбуке музыку, какой–то русский рэп нижегородского разлива. «Я русский, я русский, я русский…» – обидчиво доносилось из динамиков, а попутчик мой, весь в черном, в шапочке с непонятным крестом посреди лба, стал вдруг бесновато извиваться на койке в такт звукам. Глаза он прикрыл от странного удовольствия, а руками начал выделывать дискотечные движения.
Смотреть на это нелепое камлание здорового тридцатипятилетнего мужика было неловко, и я отвернулся к окну. За ним лежала Родина.
Физические удовлетворения
В один из дней августа 1991 года я сидел в аэропорте города Нью – Йорк. Две недели студенческого обмена вместили в себя очень много. Там были и медицинская практика в американских больницах, и переход вброд Миссисипи в ее истоках, и внезапная и резкая, как солнечная боль в глазах от ослепительного снега, страсть к девушке из штата Миннесота. Магазины, которые для нас явились музеями чревоугодия, тоже там были. Особенно радовали ликвер–сторы. Бесшабашная студенческая юность свободно носилась через границы, и это было молодое счастье. Я сидел и ждал самолета домой. В руках держал литровую бутылку водки и любовное письмо, где неистовое желание замуж пересиливало страх перед русской полуазиатской сущностью, внезапно порушившей тихий уклад. Мне тоже было печально, но я очень хотел домой. Так сильно, что когда в новостях пронеслись кадры народных волнений в Москве – не возникло ни сомнений, ни страха. Так остро, что предложение остаться прошелестело мимо ушей и мозга бесплотной тенью упавшего осеннего листа. Тревожное чувство нахождения вне своей страны было таким же глубоким и мучительным, как памятное еще ожидание службы на флоте. Тогда тоже всем гуртом принялись писать заявления в Афганистан – только бы не три года на море. Так и здесь – когда угодно, откуда угодно – но только бы домой. Чувство это было нелогичным, необоснованным, детским – и оказалось мудрее всех практических выкладок и умственных построений. Оно дало счастье жизни и причастности к самой огромной, нелепой, прекрасной и безжалостной земле.
Потом было много всего. Наше время – не самое легкое в жизни страны и ее людей. За трудностями и душевными неурядицами мы часто забываем о своем чувстве. Иногда кажется, что его совсем нет – когда насельники земли очередной раз придумают и учудят такое, что душа перевернется. И захочется в спокойное далеко, чтобы все размеренно, умно и правильно. Но стоит оглянуться вокруг, прислушаться к людям, облокотиться взглядом на природу, как понимаешь: никуда тебе отсюда не деться. Ты – чувственная, неотделимая часть всего этого большого целого. Этих желтых сопок над голубым Енисеем. Этого байкальского ветра, приветливо шлепающего тебя по щекам холодным дождем. Этих унылых бурятских степей с туманными и сладкими горами далеко впереди. Этих разных, злых и добрых, душевных и отпетых людей, говорящих на одном языке.
Железное счастье дорог
Железную дорогу раньше называли – чугунка. Дед мой – почетный чугуночник. Всю жизнь он прожил рядом с дорогой, в месте, где сходятся два пути – из Орши и Могилева. До каждой нитки рельсов от дома – двадцать метров. Двадцать минут, полчаса затишья, и дом начинает трясти – мимо проносится поезд. Так сутки, годы, десятилетия. Деду сейчас девяносто пять. Он сам еще выращивает огурцы, солит их.
– Папа, как ты их делаешь, такие вкусные? – одна из дочерей, моя тетка, спрашивает.
– А ты шо, не умеешь?
– Да не получаются так, как у тебя.
– Просто все. Беру огурец большой, зрелый, не тех младенцев, что вы срываете. Режу, в банку кладу. Потом всякой х…ции туда пихаю. Все.
Даже баня у деда из шпал. Запах креозота с раннего детства знаком мне, любим и ненавистен. Приятен на жарком солнце, во время послеобеденной неги. Отвратителен, когда старые шпалы пилишь тупой двуручной пилой, – деду выписывают их на дрова.
Знаком вкус угольной пыли на губах – дядька тоже чугуночник, начинал еще на паровозе, катал меня – и жаркое чрево топки завораживало детский взгляд.
Знаком ритмичный гул составов, он настолько в крови, что ритм этот и гул во многом сложили, сплавили жизнь.
Потому что Москва – Могилев – это детство.
Мурманск – Петрозаводск – морозная зимняя юность, попадающая в отпуск с Северного флота, стучащая замерзшими флотскими ботинками по ледяному перрону, и лишь наличие добрых проводниц спасает от отсутствия билетов.
Нью – Йорк – Северная Дакота – безбашенная молодость, когда весь мир – брат и небо по колено.
И красно–синий вагон с белой надписью «Литературный экспресс», везущий в себе компанию злых, языкастых и писучих людей, особо чутких к миру и войне. Везущий по одному из самых жестких на земле маршруту – от Москвы до Владивостока. Везущий, чтобы они еще раз поняли, многоголосо объяснили себе и всем то, что выражается одним словом.
«Сорок лет в пути» – почему–то эта надпись тоже была на вагоне.