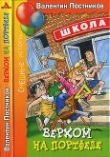Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Новиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Что странная она была девочка, я сразу заметил. Такая, будто из мира немного другого, не очень от нашего далекого, но где все искренни и любопытны до глуповатости, кажется, а присмотришься – и так сердце защемит, потому что чувств этих уже с самого своего детства не помнишь, а помнишь только, как жестоко тебя их лишали. Мы с Кло сидели, болтали о пустяках разных, я все узнать пытался, в каком она отделении лежит. Она же все про Пункт какой–то говорила, где их – несколько детей там, все с именами странными для меня, чужеродными будто или сокращенными. В другие отделения им ходить не разрешают обычно, но иногда безалаберно к замкам относятся, суетятся очень в какие–то дни – тогда можно умудриться погулять, где хочется. А родители, спрашиваю, приходят к вам? Нет, говорит, они не приходят, их просто нет. Я тут испугался, что разговор завел не в нужное место, но Кло спокойна была, говорит, их и не было никогда, мы такие там немного специальные. Все без родителей и без родственников, без родных вообще. Слова эти мы, говорит, знаем, но вот чувствовать что–нибудь об этом – нет, потому что, если не было никогда, то как? Знаешь, говорит, только немного странно и иногда страшно – я‑то внутри себя вижу, что могут к другим людям какие–то чувства быть, как к себе, например, когда жалеешь себя или любуешься собой или просто хорошо относишься. Но вот хочется, чтобы и к тебе тоже кто–нибудь так, а то только «садись, пожалуйста, ешь побыстрее, делай как велят». Я‑то уже подозревать начал, слышал да читал где–то, но сам никогда не видел. А тут рядом сидит Кло, хорошая такая девчоночка, умная, красивая. Только не любил ее никогда никто в жизни, даже не чувствовала ни разу какой–никакой матери прикосновения, отца любого слова. Как себе я представил это, так даже после всех знаний жизненных передернуло меня всего как от колики внутренней, сердечной. Так вдруг жалко ее стало, так жалко, что в голову что–то вступило, даже слышать перестал несколько минут, что Кло болтает. А она и не заметила ничего, проскочила, и когда слух ко мне вернулся, рассуждала, как бы увидеть интересно было, как такие фрукты на деревьях висят, а то и не верится, что они из природы, а не искусственные какие.
А тут доктор пришел, приятель мой лечащий. Я совсем забыл за разговорами с Кло, что мы с ним договаривались дела мои диализные пообсуждать. Вот он нас вместе и увидел. Ухмыльнулся как–то странно:
– Вот, у вас даже и духовное сродство уже, – говорит.
Кло спохватилась, что бежать ей нужно, строго сегодня приказали быть, и умчалась, шагами быстро пространство промеряв до последней двери, почти веселая. А доктор ко мне подсел. Он сначала, правда, сходил до стойки буфетной и полный поднос себе еды разной притащил.
– Не против, – говорит, – если я есть буду?
– Ешь себе, – я сам давно уже питаюсь одними таблетками, да фрукты еще можно, так что вкус многих вещей и забыл почти. Раньше бы наплевал на все запреты, выбрал бы свободно, чего хочется, но теперь, когда надежда предательская затеплилась, – словно силы к бесшабашию отнял у меня кто. Так это противно мне было, но ничего, терпел, потом, думаю, если получится все, я себе за унижения прошлые воздам.
Доктор же, издеваясь словно, за мясо принялся. У него полная тарелка его была. Крупные, сочные куски светло–розового цвета с такими душевными прожилками снежно–нежного жирка, с изморосью душистого сока на гладко срезанных поверхностях. Такие ломтики ароматные лежали на тарелке, что я поневоле глаза и нос отводил в сторону, чтобы мужества не утратить. Только странная вещь такая – задумался внезапно, из кого ломтики эти сделаны были – для свинины слишком яркие, для говядины – светлее, чем нужно. Вот ведь хитрый мозг человеческий – чтоб о вкусе не думать, вопросами обработки убоины вдруг озаботился, вроде о том же – нет, совсем противоположно и противно.
Доктор же, мыслей пока еще читать не умея, сочным ртом эти ломтики в себя собирал, жевал умильно и светился весь от нежного вкуса, словно солнце заходящее. Тускловато так светился, приземленно.
– Ну что, – спрашивает, насытившись, – готов к пересадке своей долгожданной?
Я тут поперхнулся слюной непроизвольной:
– А что, уже можно?
– Да, близко уже все. Тебя мы подготовили во всех смыслах, ждать больше нечего.
– Что, и почку мне нашли? Донор какой–нибудь преставился?
Доктор хихикнул:
– Хорошо, – говорит, – ты сказал – представился. И он тебе представился, и ты ему.
Я молчал минуту.
– Кло? – спрашиваю.
– Кло номер пятьсот пятьдесят пять дробь шесть, – он откровенно над моей гримасой потешался застывшей.
– Подожди, – говорю, – я не понимаю. Я думал, какие–нибудь люди погибшие, случайные.
– Э-э, батенька, каменный век. Сейчас все отлажено, все продумано, узаконено и сделано. Закон читал про специальных, подрощенных? Не читал – я не виноват. Давно уже, несколько лет все делаем на полных основаниях. И ни одной жалобы, ни капли отторжения. Я тебе как другу говорю, чтоб не переживал сильно, ты же возбудимый у нас.
На меня словно кусок льда обрушился, большой такой и прямо на темечко – и боль, и анестезия холодовая одновременно. Я застывший сидел, пока не выдавил:
– И как вы их, к назначенному дню?
– Да ты успокойся, отец. Они же специальные, эмоционально неполноценные. Так в законе и сказано. Они несбыточные все, им не хватает каких–то важностей. И нам, по закону – подтвердить «место имения предначертанного суицидального факта». А вам, страждущим, – платить деньги и готовиться. Все строго и ясно, без околичностей. Все законно и системно. Так что не думай ни о чем и вперед. Пока остынь немного, а через час ко мне зайдешь, подпишешься за проведенную беседу.
Я опять остался один, как всегда. И сидел, тупо глядя в стол. Я ведь на протяжении всего рассказа своего пытался объяснить, что нет, нехороший я, злой и циничный, что много видел разных гадостей, да и сам в них участвовал порой, может, и не по доброй воле, но как это бывает – от бессилия сопротивляться общему подлому потоку. Знаете, как это тяжело? Наверняка знаете. И вот сейчас дошел до той минуты, ради которой и жил, может, всю свою жизнь, и споткнулся тут же. Потому что как ни притворяйся расслабленным мизантропом, ненавидящим даже себя в качестве человечьей особи, а жить все равно очень хочется. Это когда в голове разные рассуждалки и прикиды – тогда легко. А как ледяной рукой схватит за мошонку безжалостный ужас, тут и вой из тебя рвется бессмысленный и страстный – жи–ы–ы-ыть. И долго я так сидел, слишком долго, все старался какую–нибудь лазейку найти, чтобы всем хорошо было. Ну, если не хорошо, то терпимо. И если не всем, то некоторым. То есть мне. И так тупил, пока не вспомнил – Кло.
Я не помню, знал, да давно забыл – кто придумал эту формулу: жалость унижает человека. А животное жалость не унижает? А насекомое? Зачем вообще, ради каких целей – унижает? Чтобы доказать, что она плоха и следует бежать от нее, гнать из сердца и зубами рвать? Тогда понятно, правильно и нужно всем, чтобы достигнуть чего–либо, пытливой поступью ступая по головам, плечам и пальцам, ногтями из последних сил в бетон впивающимися.
А потом как пошло–поехало – без жалости – сплошная жалкость, пасть в дышло, колкость, холод, кость. И вспомнилось сразу – тоже уже давно и на юге – набить какую–нибудь школу жалкими тварями, послушными и слабыми, и потом огнем их жечь, корячливых, ради святого дела потому что.
Поймал себя на том, что снова думаю. А думать тут нельзя, не помогает, а мешает, только тормозит. И слова Кло сами собой острым дымком перед глазами закачались – меня никто никогда не любил… Тогда только на чувствах одних бросился расталкивать всю больничную, согласную, узаконенную шваль, чтобы успеть.
Я не успел. Навстречу мне попался доктор, сообщивший – все готово. Я бил его так, что сломал руку об улыбчивое лицо. И криком кричал, замешкавшийся, опоздавший, безысходный. Потом они все быстро сделали и легко – отключили меня от диализа и приказ по всем точкам – запретить. А мне уже и не надо. Я сам себе последний диализ. Сижу дома и тихо радуюсь, что скоро уже все. Что больше я не участник дальнейших изысканий. Что не мембер счастливой взаимной охоты. А больше всего мне радостно, что сумел рассказать о девочке, которую никто никогда не любил. Никто, до нашей встречи.
БАБСКИЕ ГОРКИ
Последние несколько лет я довольно много хожу пешком. Есть прекрасное место на самой окраине города, где внутренний почти парк как–то ловко переплетается с лесным массивом, и, чуть отойдя в сторону от довольно оживленной автотрассы, оказываешься посреди еловой тишины. Лес здесь необычный. Почти сплошной ельник, он настолько стар и высок, что не кажется темным. Деревья стоят далеко друг от друга, хвоя шумит где–то высоко над землей, а внизу – торжественно и благообразно. Это – необычный, торжественный ельник. Редко где затянувшейся раной посреди дубленой кожи коры испугает глаз розовый ствол сосны, а так – сплошное великолепие темно–зеленого бархата и строгая стройность стволов. Блеклое и нахохлившееся, словно больной цыпленок, зимнее солнце почтительно освещает его. Посреди этого леса бежит симпатичная речушка, тихий говор которой едва слышен за величественным разговором деревьев. Вдоль реки натоптана тропинка. Я иду сначала по одному берегу ее, затем, отряхнув обувь от снега или елочных иголок и перейдя по нелепому мостику серого бетона, – по другому. Весь круг составляет пять километров. Я делаю их два.
Один берег реки – неизменно низменный, другой – довольно высокие и крутые сопки. Еще будучи безумным школьником, я несколько раз самозабвенно летал с этих сопок на лыжах посреди других таких же отчаянных мальчишек. Попытки петлять между деревьями очень быстро отлетали прочь вместе с палками, а то и лыжами, и лишь истошный крик в сверкающем облаке снежной пыли, уносящемся вниз по безудержной прямой, указывал направление движения и судьбу спускателя. Иногда о ней можно было догадаться чуть раньше, чем осядет снег, – по дрогнувшей вдруг молодой елке далеко внизу. Чаще же приходилось дожидаться видимости – и тогда открывался результат неистовых стремлений: обломки лыж, яркие пятна одежд, в различных позах скрюченные тела – и хохот, хохот звонкий, запредельный. Руки и ноги почему–то ломали редко, головы – никогда. Бог любит пьяных шалостью своей мальчишек.
Теперь уже давно не так. Размеренно иду я по тропинке, внимательно ступаю по кочкам, с ландшафтом соразмеряя дыхание. И лишь воспоминаний различных не удержать. Вот тот спокойный, ровный лесок назывался долиной ожиданий. В нем хорошо было ходить по ровной земле, испещренной выпуклыми выростами корней, и ожидать чего–нибудь от жизни. Счастья, еще не уверившись, что счастье всегда в прошлом, любви, не убедившись окончательно, насколько она товарна, статусна иль денежна. Еще в этой долине хорошие маленькие полянки на самом берегу реки. Очень удобные для купания. Особенно в конце мая, когда кое–где еще лежит снег. Это мы уже старшие школьники, и в ожидании каникул нам проводили здесь турслет. Набегавшись вволю, сдав нормативы, мы тайно удалялись от нарочитой суеты. Разжигали костер на берегу и, как зимой с горы – с перехваченным дыханием и ужасом в душе, – ныряли в ледяную воду. Зато потом – сам смелость, брат, и ликование внутри и на лице, костер ласкающий, и первая – впервые! – кружка водки для сугрева. Так хороша была долина ожиданий.
Дальше – огромная поляна, даже пустошь, с единственным засохшим деревом посередине. Весной здесь раньше всего стаивает снег, и нетерпеливые любители жареного мяса сразу начинают палить костры на проталинах. Их дети еще в зиме – с визгом кувыркаются в сыром, крупного помола снегу. Родители же через полчаса уже в лете – выпив для кулинарного куража по рюмке–другой водки, они счастливо млеют, разоблачившись и потягивая красное вино, на солнце – поотдаль от жиром пырскающего мяса на вертелах и в окружении такого вкусного дыма, что хоть обувь грызи в ожидании. Некоторые, не дождавшиеся, на свежем воздухе за алкоголем контроль утратившие, спят прямо на жадной, вбирающей тепло земле. Нежно приникают они к ней всеми фибрами измученных зимой тел, и нега проступает на лицах крупным счастливым потом. Дерево же посреди поляны вполне благодушно и благосклонно взирает с высоты лет на суету вокруг себя. Весь ствол внизу, на высоту человеческого роста, истерзан жалкими попытками людей добыть дров, но дерево окаменело под ветром и дождями, затвердело до топорного звона, и опытные тащат дрова с собой.
Дальше, уже на другом берегу, – крутой подъем, длинный тягун. Когда–то он назывался – подъем несбывшихся надежд. Так бывает – уже почти отмершая, слегка гнилая даже надежда вдруг поднимается в душе последний раз с нарочитым оживлением, чтобы потом опять опасть, и отпасть уже навсегда, без вспоминания о ней. По бокам дорожки этого тягуна – частый осинник, лосиная мечта. В солнечный зимний день весь этот путь покрыт снежной чистотой частой морской тельняшки – мелкие тени деревьев и яркие, слепящие полосы кристаллической красоты. Однажды я чуть не ударил здесь идущего параллельным курсом невинного ходока. Ничего не подозревая, шел он, весело, по–птичьи посвистывая, и всем видом своим выражал довольство и наслаждение воздухом. Рядом же со мной шло женское существо и противно, нудно бубнило «невозможно, невозможно, невозможно». Оно практически впало в транс и не реагировало на внешние раздражители. Такой есть у женщин способ – притвориться, а потом и стать вещью в себе – с душой гладкой и упругой, как резиновый мяч. И хочется проникнуть внутрь, как–то расшевелить, ведь еще недавно не нужно было усилий, а лишь искренность и чувства. Нет, бесполезно, первый закон робототехники и прочая механизменность. Так и тянет тогда в яростном ослеплении разрушить разом все извечные парадоксы, разрубить узлы и развязать руки. К счастью для тогдашнего прогульщика, чуть не павшего случайной жертвой вечной половой войны, тягун вытянул потихоньку силы, сбил напряженное дыхание, остановил безумное биение крови в висках. Рядом идущее же существо сделало вид, что ничего не заметило, и под конец еще раз победоносно квакнуло свое «невозможно».
После тягуна заканчивается круг, и опять начинаются те высокие, крутые сопки, с которых по–прежнему летают теперешние отчаянные и малолетние. Только внизу, у самой реки, появились неожиданно для меня маленькие горушки. Были они и раньше, только не замечал их прежде по причине туманной и сумасшедшей юности, когда все было настолько остро и быстро, что не до мелочей тут. Теперь же обнаружилось вдруг, что смешные эти холмики облюбовали женщины, маленькие и большие, веселые и не очень, разные, в одном только схожие – натужном желании нравиться, быть выбранными. И катаются они, и визжат, и суетятся в ярких своих одеждах, оживление и радость изображая публично. Сколь же весело мне было узнать от сына моего друга, младшего школьника, что среди всех местных красот и названий известны эти несерьезные, игрушечные холмы как «бабские горки», и суть происходящего на них – извечная и бессмысленная суета индюшачьих игрищ.
Я знавал одну теперь уже престарелую девицу, чьи редкие звонки напоминают о таком далеком и нереальном прошлом, что легко могут быть приняты за весточки из потустороннего мира. В молодости она была весьма хороша собой. Быстра, подвижна, энергична. Энергию ее можно было принять за созидательную по промежуточным результатам, когда б не финальный итог – полный аут и разрушение выходило из всего, за что бы она ни бралась. Недолгое учительство в младших классах средней школы закончилось изгнанием, а по ее словам – добровольным уходом, из–за нежелания участвовать в неловкой системе современного образования. Из этих слов видно – свободолюбива. Первый брак окончился поспешным бегством от нее родного мужа. Муж бежал, несмотря на наличие сына, к пожилой, с двумя детьми, особе, которая, в силу мудрости и меньшего напряжения окружающего пространства, оказалась более прекрасной царевной. «Он ни на что не способный мудак», – заключила наша героиня и пошла по жизни дальше с по–прежнему гордо задранной головой. С сыном что–то тоже не ладилось. Просто удивительно – создавая вокруг себя хитрую атмосферу превратных представлений о жизни и роли в ней женщины, она не заметила, как собственный ребенок научился у нее же лгать и изворачиваться в угоду своего мнения о нуждах в нем человечества. Сначала это были невинные утаиванья денежной сдачи и полный игнор каких–либо обязанностей, затем – посылание подальше военного дедушки с его героическими рассказами об интернациональном долге, позже дошло до открытого домашнего террора и выколачиванья денег из мамаши. История совершенно банальная, однако для нашей героини составляющая великую тайну – как же так, она работала, старалась, воспитывала всех, практически дрессировала этих непонятливых мужчин, пускалась на постоянные, в кровь вросшие хитрости, результат же не радовал. Так, в постоянных попытках переломить неправильную, не должную так быть жизнь перевалила она за тот пугающий хребет, который слабых духом женщин ввергает в периодические ступор и транс, более сильных же заставляет страдать от необоснованных, казалось, приливов и мигреней. «Я все равно сделаю по–моему», – не успокоилась наша героиня и с твердой верой в успех принялась за штудированье брачных объявлений. Несмотря на всю силу и эмансипацию ее как типичной представительницы своего времени и сословия, главным залогом успеха по–прежнему являлось замужество.
Удивительно, но первая же найденная в Интернете брачная контора под счастье сулящим ориентальным названием «Семь слонов» принесла удачу. На главной странице, посреди прочих фотографий и характеристик, она узрела мечтаемого принца с добрым взглядом, пристойным возрастом и прочими подходящими параметрами. Без особых сомнений было составлено неглупое, в отдельных местах чувственное письмо с редкими, хорошо замаскированными зацепками и задоринками. Щедро посыпанных кругом алмазных зерен вполне должно было хватить, чтобы сделать покладистым грубое, но работящее существо.
Компанию эту я тоже знал довольно давно. Семь приятелей, иногда больше, иногда меньше – это когда Василий уходил в моря. Среди их массивных тел я был самым субтильным, поэтому и называл их слонами. Разных профессий и жизненных обстоятельств, они объединялись по одному признаку – общей неженатости. Все уже успели побывать в узах, приблизительно в одно время развелись и теперь зачастую делились острыми еще воспоминаниями:
– А моя покойница мне говорит – будешь под забором с голым задом валяться. Это я‑то, кто всю жизнь ее кормил, поил и дружил. Ха!
– А моя стервь, – тут же вступал другой, – засудить обещалась, думала, легко все. А как алиментов ей насчитали пятьсот рублей, так сначала адвоката моего гаденышем назвала, а теперь обратно просится.
– Нет, все, одного раза на грабли хватит. Все они, твари, одинаковые – сначала лаской да тихой сапой, а потом на голову норовят сесть и мозги клевать беспрепятственно.
На том обычно и сходились.
Говорливей всех и активней был Вася. Во все стороны сыпал морскими историями, весело с ним было:
– Идем на «Волгобалте» восьмисотом по Балтике. Навстречу такой же, только шныряет из стороны в сторону, как селедка больная. Мы ему по рации – доложите курс. В ответ – молчание. Мы опять – какой курс, мать вашу через так. Уже в мандраже все, так и сойтись лбами недолго. Вдруг бодро так докладывают со встречного – трэтий курс, Бакинский мореходка.
Васю все с морей ждали. Он не только хохмил постоянно, но и штуки разные придумывать мастак был, как гормон утешить, ведь хоть и твари все бабы, а природу не обхитришь. Вот и теперь, когда пришел он, сначала по объявлениям газетным всех обзвонили – у проституток пятьсот рублей услуга стоит, у тех, которые «интим не предлагать», – триста. Все равно жалко на бабье тратиться. На вечера «кому за тридцать» походили, но там уж больно контингент стремный. А потом Вася однажды и прибежал с идеей – брачную контору, говорит, откроем. У меня уже и название есть. «Семь слонов» будет называться, по–восточному типа.
Ваське больше всех на предложения везло. Такой у него имидж, что ли, положительный. И в этот раз ускакал довольный весь. Назавтра вернулся лоснящийся:
– И поужинал отлично, и выпил от души. А потом в койке говорю – ну показывай, что умеешь. Так уж расстаралась невестушка по полной программе. Хитрая, правда, все не прямо, а намеками, завлекалками разными сдабривала. Только не понимают, глупые, что у всех все одинаковое и на ладони их хитрости видятся. А утром встали – я прощаться. Все было отлично, говорю, только жениться не будем. А так могу посещать, если хочешь.
– Я по пятницам не принимаю, – отрезала, смешная. Ничего, на этой неделе опять кто–нибудь на замуж клюнет.
А героиня наша смахнула злую слезу, в душе почистилась хорошенько да и задумалась – умнеет сволочь мужская на глазах. Нужно что–нибудь другое придумать наперед, чтобы не выкрутился, а не получится – чтоб уползал, визжа, покоцанный, а не так, самодовольно хихикая.
Последнее время я много хожу пешком. Хожу только по лесу – люди меня раздражают, их постройки – мучают глаз. Их мелкие подлые войны перестали быть интересными. Передвигаюсь я неторопливо, иногда только нахлынет изнутри ненужными воспоминаниями былая молодецкая бодрость, тогда бегу вприпрыжку, срывая колючие, с терпким запахом прощения ветки, а потом повисну, гикнув, на какой–нибудь железной трубе, к деревьям приделанной для спорта. Повисну и вишу, качаясь, и рукава сползают с напряженных рук. Тогда не хочет, а падает взгляд на розовые черви шрамов, в разные стороны ползущие по коже. И считаешь невольно – раз, два, три, и вспоминаешь, и, спрыгнув, на твердую землю опустившись, никак не можешь отдышаться.
Иногда я беру с собой в лес младшую дочку. Она бредет за мной, спотыкаясь о корни и камни, и постоянно о чем–то спрашивает. Мне нравится ей объяснять и рассказывать. Показывать, где елка, а где сосна, чем рябина отличается от березы, как из пронзительного неба и нелепых вроде бы, кривых веток вдруг получается душу рвущий витраж. Особенно сложно мне отвечать на ее вопросы. Она очень хочет знать – кто добрый, а кто злой, весь мир разделить надвое, чтобы чувствовать себя уверенней и спокойней. И я часто в тупике – стрекоза добрая или злая? А муравей? А серый волк? Когда становится совсем сложно, я ловко отвлекаю ее – даю понюхать ядреный до щекотки в носу кусок застывшей смолы с соснового ствола. Он липкий и смешной, и дочка никак не может запомнить название этого вещества и говорит: «Дай мне еще слипы». А я думаю о многом и разном – о горках и битвах, об увлечениях молодости и пожилых забавах, о лжи во спасение и лжи убивающей, лгущей при этом, что она во спасение. И боюсь, боюсь, когда дочка спросит – добрые или злые моряки? Или невесты. Или замужние матроны. Или разведенные мосты. Или сведенные, стиснутые в отчаянье зубы. Боюсь, потому что не знаю, что тогда нужно будет отвечать. Чтобы правду и чтобы не так больно. Чтобы не только бабские горки кругом.