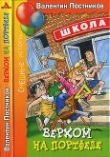Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Новиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Мы сидели, словно в одежде искупавшись, вода ручьями текла по голове, плечам, рукам, и смотрели, и смеялись в голос от счастья. А она лежала на дне лодки, мертвая уже, – брат убил ее сразу – и такая красивая, какой только рыба может быть, только что из глубин на свет божий вытащенная. Стройное и стремительное тело, маленькая острая головка с небольшим ртом, чешуя цвета начищенного, нового серебра. И радужные брызги по всему телу, к темноватой спине побольше, к светлому брюху – меньше и бледнее, внизу совсем уже сливающиеся с серебром. Небольшая, в килограмм или чуть больше весом. Семушка, тиндочка, морская косуля.
Тут и дождь кончился, туча, колесами грохоча, умчалась вдаль, и солнце заиграло яростными бликами на рябой поверхности воды. К берегу решили не приставать – от работы высохнем, и пошли дальше. И тогда вдруг расступились берега, и ветер подул упруго и властно, и открылась даль беспредметная. Мы вышли в море. И уже успокоившиеся было вдруг почувствовали, как пошел морской накат. Огромные длинные волны мягко и неотвратимо поднимали утлое судно и опускали потом медленно и глубоко – так, что холодом заныл живот и новым ужасом – душа. Первая волна, вторая, третья, высокие и пологие, как холмы прерий из детских книжек. И, пластичное существо человек, мы опять взялись за весла, отдавшись и участвуя в этой медленной и тяжелой страсти – морском накате.
До Летних озер от моря идти недалеко, километра три. Из Нижнего Летнего вытекает речушка, тоже Летняя, и веселым бурливым потоком впадает в губу, Летнюю же. Сами озера между собой соединены тоже речками. Их три озера – Нижнее, Среднее и Верхнее. Вся эта синь, словно изогнутая сабля, вонзается в темно–зеленую глубь поморской тайги километров на тридцать. Места дикие – лебеди, куропатки, глухари, орлы живут своей жизнью и никого не боятся. Только опасаются слегка. Повсюду медвежьи следы – на деревьях метрах в двух с половиной над землей грубо кора подрана когтями да на мху среди черничника то и дело черные послеобеденные кучи. Лосиных следов тоже много, но мимо них с меньшей опаской проходишь. Дичь кажется первозданной и нетронутой, но лишь на первый взгляд. Потом начинаешь замечать, что бурлила тут и людская жизнь. Уровень всех озер искусственно поднят – на каждой реке полуразрушенные уже, но по–прежнему могучие плотины из огромных, в обхват, бревен. В лесах постоянно натыкаешься на дороги, из таких же бревен выложенные. Сама Летняя речка на всем протяжении своем забрана в огромный желоб из невероятных по размеру деревянных плах. Иногда этот желоб поднят высоко над землей, и река бежит вверху по виадуку. Когда рассмотришь все внимательно, открывается огромность древнего труда, творившегося тут. Я сначала думал – труда подневольного, массового, во славу светлых и несбыточных идеалов. Потому что и кладбищ безымянных тьма кругом, и ногами то и дело в колючей проволоке путаешься. А потом вспомнил, читал давно уже про деяния керетского купца, что рыбой занимался, и лесом, и строил много. На совесть было сделано все – через столетие видно. Как же его звали, фамилия такая простая, читал – помнил. И вдруг сверкнуло – Савин.
Был вечер. Солнце низко стояло над лесом, усталое и белесое. Небо крупным распластанным телом лежало в воде. Лес, казалось, умер – ни птичьего вскрика, ни шевеления листвы – ничего. Почему–то не было слышно журчания недалекой речки.
– Жутко, – хотелось сказать бодро, но голос сам дрогнул.
Брат кивнул, потом, усмехнувшись, взялся за спиннинг:
– Кину пару раз.
Он размахнулся и послал блесну далеко, к самой тресте. Тихо запела крученая леска, сбегая с катушки. Блесна летела долго, потом ушла в воду с негромким галечным звуком. Брат лениво стал крутить катушку. Все было как всегда – резала воду леса, пуская еле заметную рябь, чуть подрагивал кончик удилища. Блесна совсем уже подошла к лодке и готовилась всплыть на поверхность. Брат стал подымать удилище. Вдруг тихо и мощно прошла плотная, темная волна и, промахнувшись, разбилась о борт. На исходе ее разочарованно закрутился водоворот.
– Видал, – судорожно зашептал брат. Блесна испуганно выскочила из воды и заплясала высоко над головами. Ее тут же неумолимо бросили назад, в пучину. Я судорожными руками схватился за свой спиннинг.
У брата взяло сразу, лишь только тонкий лепесток ударился о воду. Казалось, рыба знала и ждала, куда он упадет. Громкий всплеск и взвизг натянутой лесы. Брат подсек. Лесу повело в сторону. Он дернул и стал выводить. Она взрезала тугую параболу на густой воде. Время замедлилось и потекло киселем. В нескольких метрах от лодки воды расступились, и вверх взлетела яркая торпеда размером в полвесла. Раскрытая белая пасть. Красные, бесстыдно растопыренные жабры. Зеленое, изогнутое страстно тело. Напряженное брюхо цвета старого сливочного масла. Упав обратно в воду, щука сорвалась и ушла.
– Не бывает, не бывает так, – брата трясло, – щука не дает свечу! Не видел! Не бывает!
Время, как и вода, стало медленным и тягучим. Засвистели блесны, словно ласточки летая над водой. В рваном ритме древнего танца заплясали в руках удилища. Начался щучий жор.
Я знал, верил, что так когда–нибудь будет. Ради этого можно было проехать тысячи километров, проползти лесами и болотами, разведать, найти, дойти. Можно было рискнуть и попрыгать на короткой волне. Можно было, и мы сделали это. И теперь воздавалось.
Щуки брали одна за одной, мы продвигались медленно вдоль берега и через каждые двадцать метров уже уверенно ждали нового рывка во вспотевших от счастья ладонях. Половина рыбин срывалась. Они просто открывали свои костистые пасти и выплевывали колючий шипастый обман. Чуть затихало, минутная передышка, мы судорожно меняли блесны, и начиналось снова. Оно и не кончалось, просто страшно было думать, что рухнет горячий восторг. Но щука брала все – «вращалки», «колебалки», «окуневки» и «щучьи», блесны желтые, белые, красные, любые. Ей не было разницы, за что умирать. Сорвавшись, она снова бросалась на блесну, чтобы убить верткую тварь. Раза три казалось, что крючок цеплялся за топляк, мои руки в полдвижении останавливала темная сила, которая не могла быть живой. Я повторял смешную попытку поднять ее на поверхность – сила раздумывала. Я делал это в третий раз – сила, разочаровавшись в железном вкусе, бросала блесну и уходила вглубь. Пот и мурашки бежали по спине.
Вытащенным на борт мы ломали позвоночник, держа одной ладонью сверху за шею, второй плотно нажимая на нос. Последняя судорога прокатывалась по гибкому телу, и рыбина освобожденно ложилась на дно лодки и, расслабившись, вольно раскидывалась там. Во рту ее, в ноздрях вскипала кровь… Смерть словно была ей в сладость.
Когда устали и мы, и рыбы, когда солнце стало жалобно глядеть на бойню сквозь деревья, когда сами поняли, что хватит – смерти и жизни через край, – смотали лески и медленно, молча погребли к берегу. Слов не было. Усталость сделала восторг тихим. Опустошенность – светлым. У победы был рыбный запах и чешуя на губах. Небо, лес, озеро. Удилище поперек лодки, блесна над водой. В метре от берега тишина кончилась – из воды прыгнула последняя щука, самая большая из всех. Она вцепилась в блесну и упала в воду. Я успел схватить удилище. Брат выскочил из лодки на отмель и подтащил ее к берегу. Медленно поплыло брошенное весло. Я с усилием, как толстый круг сыра ножом разрезая, повел жалобно согнувшийся спиннинг и под конец тяжелой дуги дернул и выкинул щуку на берег. Она заплясала в прибрежных камнях, уже без блесны, свободная. Я прыгнул к ней, ногами стараясь сломать ей спину. Она вывернулась из–под сапог, оставив на них чешую и напрягшись обнаженным боком. Руками пытался схватить ее за шею – та была толста, словно, локти вверх подняв, схватил бы сзади за шею себя. Упал на нее, животом к земле придавив, но она вывернулась как сильная и злая женщина. Насмешливо хвостом пораненным ударила о камни и ушла в воду. У победы больше не было вкуса…
На поляне, где оставался ждать Горчев, творилась разруха. Костер погас, валялся горчевский спиннинг, повсюду были раскиданы блесны и другие мелкие снасти. Горчева нигде не было. Следов крови, насилия, впрочем, тоже. Никто не аукался в ответ на наши крики, повсюду стояла тишина, как и час назад.
– Вернемся к морю, – слабым голосом сказал брат, – если там нет, будем искать.
Куда делась усталость? Испуганными лосями пронеслись мы три километра по знакомой тропинке до моря. Там, где речка впадает в залив говорливым, заглушающим крики потоком, от лагеря пахнуло вдруг родным дымком. У еле живого костра сидел, нахохлившись, пропавший Горчев.
– Ты куда ж пропал, безумец? – стало легче дышать.
– Да я вас ждал–ждал. Потом в кустах что–то шмыргнуло. И я побежал!
На радостях был праздник. Печальный был он, но веселый. Сил не было на резкие движения и сильные поступки. На душе было устало и радостно. В сети прощальным подарком попался пинагор – редкая древняя рыба с шипастой кожей, волшебной икрой фиолетово–малинового цвета и присоской на передней части брюха. Небольшой косяк крупной ивановской сельди скрасил пинагорово печальное одиночество. Все они оказались в ухе. Сельдь была вкусна. Мясо же пинагора желейно и жалобно дрожало в котелке.
– Я уже пожилой человек, – слабым голосом говорил много переживший за сегодня Горчев, – меня даже алкоголь не берет. Организм уже не может отторгать его, как в юности, безропотно принимает в себя любые дозы!
Говоря это, он разводил целебный напиток из спирта и речной воды. В кружке резвились водные насекомые. Рука дрогнула, спирта плеснулось больше, чем для возвышенных бесед. Насекомые умерли. Горчев смело выпил живую смесь мертвой воды, закусил студенисто пискнувшим пинагором, вскочил на пожилые свои ноги и бодро прыгнул в кусты. Оттуда послышались звуки отторжения.
– Волшебное место – Белое море, – наставительно говорил я ему, вернувшемуся и уже чуть менее пожилому, – чего здесь ни пожелаешь – сразу исполняется…
Дед Савин ждал на берегу, как будто загодя знал точное время прибытия. Мы его заметили, когда уже близко подошли, такой он частью живой был большого
целого – Керети своей. Молча стоял, из–под руки на нас глядя, потом в воду вошел, нос лодки принял и до берега довел аккуратно. Мы вылезли, чуть живые от всего – от моря, ветра, солнца, радости, усталости, печали. На губах была едкая соль. На спинах была тяжелая соль. В легких была сладкая, свежая соль. В голове была ясная соль.
Чуть отдышались, спины да седалища размяли – я к деду сразу с расспросами мучительными.
– Видели в лесах постройки разные, старые. Читал, купец Савин был здесь, лесом занимался. Вы–то не из их рода?
Дед еле, видимо, напрягся, дернул головой, плохо расслышал:
– Я? Что? Да нет, не из них. Другие мы. Позже приехали.
– А семги почему мало стало? Рассказывали – раньше не выловить было, не сосчитать.
– Считали деды, да не ловили здесь. Бережно к ней относились, к кормилице. Даже в церкви колокола не звонили, когда она на нерест шла. А в тридцатые, – он оглянулся, – приказали сетью всю реку перегородить. За несколько лет извели стадо.
– А деревня раньше, говорят, большая была? В шестнадцатом веке – восемьсот дворов. Почему сейчас–то ничего не осталось, почему разрушилось? Молодежь потянулась в город?
Дед посмотрел совсем серьезно, даже морщины на лице расправились. Сказал жестко:
– В тридцать пятом половину мужиков забрали сразу. А без мужика двор падает, зарастает. Вот и считай.
Вокруг, от темного леса до белого моря, вдоль розовой реки и берега залива дышала медленно огромная, разнотравная пустошь.
Мы молча укладывали вещи в машину. За сборами внимательно следил приковылявший старик Нефакин.
– Что, нарыбачились?
Мы промолчали. Говорить с ним не хотелось. Ему обидно стало:
– Разъездились тут, на машинах все! Разрулились! – Он внезапно сорвался в крик: – Забыли все!!! Быстро забыли! Я бы вас щас!!! – и заскреб заскорузлой рукой по правому бедру.
Мы удивленно оглянулись. Не было страха, лишь недоумение сначала, потом печаль.
– Все позабывали!!! Напомнить вам, напомнить!!! – швырнул яростно палку свою и побрел к дому, в злобе обессилев.
Дед Савин подошел, когда уже сидели в машине:
– Савин, купец тот, хороший человек был. Жалостливый.
И протянул напоследок свой «Беломор».
СТРОИТЬ!
Предисловие
Один мой молодой знакомец, по убеждениям национал–большевик, а в жизни вполне нормальный человек, как–то сказал после очередного совместного интервью:
– Ты не понимаешь, нужно уметь говорить быстро!
– Зачем? – Мне действительно показалось это удивительным.
– Это действует возбуждающе на массы! Это – закон пиара!!!
– Слушай, а если хочется говорить правильные вещи. А не только кричать и скандировать.
Он задумался на несколько секунд:
– Нужно уметь быстро говорить правильные вещи.
И все равно это мне кажется не больше чем анекдотом. Действительно, публика – дура и, давясь, глотает с пылу с жару поданное неизвестно что. И кричать, брызгая слюной на окружающих соратников, – занятие модное и обворожительное. И кажется иногда, что не осталось внятных, вменяемых людей. Очень мало мудрых стариков, в основном оголтелые и непримиримые ни с чем. Достойных людей среднего возраста – радостная отрыжка сопровождает их повсюду, и неважно – от переизбытка денег ли, славы ли она. Или от неумелого недостатка их же. Умной, внимательной молодежи – она или бестолково пляшет с пузырями на губах под одобрительный прихлоп надзирающих, либо беспредметно тоскует от ничем не обоснованной потерянности. И все это – в интернете, телевизоре, газетах и прочих массовых органах самовыражения. «Бедлам» – отчаянно подумается иногда после прочтения очередного бреда.
А потом оглянешься вокруг. И увидишь, что тебя окружают нормальные, в основном, люди. Они любят детей, работают, что–то строят. Им даже некогда слушать говорливых вождей. Они делают дело. Их можно было бы назвать демиургами, но тогда они застесняются. Они просто делатели. Для них моя повесть.
Имена героев в ней изменены, место не упоминается совсем – все из тех же соображений расчетливости: достоинство – очень ценная вещь. Его нужно беречь.
I
Несколько лет назад меня неудержимо потянуло на природу. Не так чтобы бессмысленным наскоком ворваться на какой–нибудь общеупотребимый пляж, развести костер среди куч чужого мусора, съесть несколько обугленных сосисок неясного генезиса, выпить бутылку водки и, поленившись убрать уже свой, родной мусор, вернуться в городскую суету в натужном благорасположении, чувствуя внутри какую–то обидную оскомину. Нет, захотелось своего, чистого, чтобы поменьше людей и побольше воздуха. Тогда я стал искать место, где будет мой дом.
Желание это стало настолько сильным, что перешло в действие. Сначала я решил пойти простым путем. Ведь сколько вокруг чудесных мест, прекрасных, уже кем–то построенных домов, которые то и дело видны жадному взгляду сквозь деревья, а рядом с ними мелькает водная синь. Я стал читать объявления о продажах, стал ездить по окрестностям города. Цель и ее критерии были для меня ясны: нахождение от города не более ста километров, у красивого озера, в крайнем случае – реки, баня должна быть на самом берегу, дом – обязательно в деревне, а не в дачном кооперативе (идеи вопиющего коллективизма давно не греют душу). Еще хотелось бы электричества, дороги до самого места, небольшой цивилизации в виде магазина с одной стороны, и дикой природы с охотой, рыбалкой, собирательством грибов, ягод и прочих корений – с другой. Требования казались выполнимыми, а услужливое воображение рисовало тихий вечер после бани и купания, проводимый за столом со щами или ухой, томленными в русской печи, и графинчиками с домашними разноцветными настойками, заботливо изготовленными на основе целебных трав и прочих плодов.
Картина эта настолько манила меня, что не было предела энергии, с которой я принялся искать. Сотни объявлений, десятки поездок, полтора года поисков и размышлений убедили в одном: наготово найти то, о чем так сильно мечтает душа, не удастся. Дома были или старые, или дорогие; или далеко от водоема, или близко к болоту; или без бани, или с многочисленными соседями. Несколько раз я пытался впасть в отчаянье. Тогда перед глазами снова всплывала та славная картина, которая могла венчать обилие трудов.
– Строй–ка ты сам, – внезапно посоветовал мне отец, исподволь наблюдавший всю тщету моих усилий. – Строй, не бойся, поможем.
Тогда я стал искать землю. Это тоже оказалось непросто, но гораздо легче детского желания получить весь магазин игрушек сразу. Всего через три месяца я заехал в старую карельскую деревню в километрах от города приличных, но гораздо меньше ста. Заехал по наводке соседей по подъезду, имевших там дачу и обладающих ценными сведениями о продаже дома с участком невдалеке. Места эти они расписывали с плохо скрываемым восхищением, чему подтверждением были десятки ведер клюквы, которые они продавали в городе каждую осень, в подспорье своей пенсионной жизни.
– Пятнадцать минут идем от дома и собираем, и собираем. И не выбрать ее всю, – клюква в ведре соседки была хороша – виноград, а не клюква.
Деревня, вся раскинувшаяся вдоль берега длинного красивого озера, мне понравилась. А дом нет. Деревня вся утопала в ярких красках рано наступившей осени. Старый покосившийся карельский дом был огромен, ветх и годился только на снос. Сносить ничего не хотелось. Рядом с берегом в лодках, а то и прямо на мостках сидели рыбаки с удочками, это вдохновляло. Дом не вдохновлял. Опечаленный, я пошел по главной и единственной улице деревни. Было видно, где в старых домах доживают местные старики, а где построились уже люди из города, кто–то пришлый, кто–то вернувшийся в родные места. Старинные серые дома были жалкими и какими–то необихоженными. Покосившиеся заборы, редкие и заросшие грядки, унылые окошки. Дома новые или обновленные прямо искрились яркими стенами и крышами из ранее неведомых материалов, веселились выкошенными лужайками, стоящими на них шезлонгами и качелями, вкусно пахли шашлычным дымком. Всего домов было штук двадцать. Венчал все огромный ярко–сиреневый домина. Был он не слишком изящный, но мощный, крепкий, кряжистый. Вокруг него на поляне стояла сельхозтехника – пара тракторов, косилка, картофелекопалка. Забора не было. У крыльца лаял большой пес.
Посмотрев на все это и очередной раз тяжело вздохнув, я направился к машине. Вокруг, на картофельных полях, копошились местные жители, перекапывая землю перед зимой. Воздух пах вкусно и пряно, точно молоко пасшихся невдалеке коров. Некоторые из них зашли в воду по вымя и купали в озере мягко тлеющие на осеннем солнце набухшие розовые соски.
Навстречу мне по дороге ехал трактор. Я решил остановить его и попытать счастья еще раз. На мой призывный жест из кабины высунулся чумазый коренастый мужичок. Круглое лицо, на котором светилась хитрая, всепобеждающая улыбка, выражало самую главную карельскую мысль: «Не, не обманешь. Сами хороши!».
– Толя, – он чуть не оглушил меня своим криком, заглушившим трактор и распугавшим деловитых ворон, ходящих по недалекой пашне.
– Не обращай внимания, – уши окончательно заложило, – я в танковых служил, теперь так разговариваю.
– Понятно, – я был вежливый городской пришелец, которого Толя видел насквозь.
– Не продается чего кроме этого дома? – спросил, особо не надеясь на удачу.
– А чего не продается. Все продается, были бы деньги, – Толя явно заинтересовался мной как выгодным субъектом, – вон за деревней не видел участка? Продается. Мой участок. Дома нет, фундамент есть.
– Посмотреть, что ли?
– Посмотри, посмотри. А понравится, я вон там живу, – он черной масляной рукой показал на опрятный розовый дом, размером чуть меньше сиреневого, а всем видом – красной крышей, розовыми стенами, аккуратным участком вокруг – напоминавший немецкие хозяйства.
– Хорошо, зайду, если что.
Толя вскочил в свой трактор, чихнул сизым выхлопом и ловко покатил по колдобинам раскисшей осенней дороги к нереально красивому дому. Я пожал плечами и обреченно отправился смотреть участок, почему–то не веря в успех.
Вот говорят: деревня, деревня… Сам я тоже пришлый, городской. Хоть небольшой город по общим меркам, а все ж столица – какой–никакой республики. Бывшей союзной даже. И вот мечешься всю озабоченную юность, хватаешься за то, за это, везде успеть пытаешься. И успеваешь часто, и успех переживаешь, и поражения переносишь. Но потом оглядываешься – а немного важного–то. Дети чтоб были, семья, жена не очень строгая, квартира – где жить. Друзей несколько. Память о женщинах любимых, а не таких, что ты использовал или они тебя. Природа – без нее вообще никуда, не выжить. Зарплата – не нужна, никогда ни на кого не работал, никому себя за деньги не продавал. Денег то меньше, то больше, но уж сильно переживать из–за этого бессмысленно – везде под ногами валяются, ленишься подымать – меньше их, не ленишься – больше. А всех уж точно не заработаешь. Да и душу тратить на них жалко.
И все остальное такой трухой оказывается в итоге, что жалко себя становится. Машины, курорты, золотишко – смешно порой на людей смотреть. Ладно, думаешь, пускай поиграются, лишенцы, вдруг одумаются попозжа.
Так я думал и шел себе по лесной дорожке. Раньше две колеи на ней было, а потом позарастали, теперь одна тропинка. Кругом осинник да ольховник мелкий, чапыжник по–северному, поодаль сосновая роща стоит. Листья желто–красные – глазам больно, хвоя зеленая – глазам радостно, небо синее – благодать. А вышел на поляну большую – так вообще зажмурился – берег озера, вода с небом друг другу хихикают мелкими бликами, по сторонам лес разноцветный, а посередине фундамент стоит. Да еще по краю полянки речушка мелкая журчит, не видно еще, а слышно. И разнотравье в пояс, осенью еще не тронутое. Поляна большая – соток пятьдесят, к дороге – горка каменистая, к озеру ближе – ровное место, будто пашня бывшая. Вышел я на поляну – дух захватило. Походил – тут сосенки пробиваются, там – камыш у берега колышется, а на горке – земляничные листья сплошь да брусника кровью налилась. Еще походил – да и побежал до Толиного дома. Двести метров до деревни, да там с полкилометра – одним духом. Когда удача тебе губы подставляет – мешкать нельзя.
Вот вымирает деревня, нищает, спивается. И половина домов тому подтверждение. Нет – одна треть. Нет, смотрю, – меньше. Есть захудалые хибары, на честном слове стоящие, клюкой подпертые. А есть как у Толи. Я зашел – сначала глазам не поверил. Обстановка городской квартиры, если не быть ярым поклонником пластмассового ремонта. А простора, а места! А печь русская посередине! На первом этаже – две комнаты да кухня большая, да прихожая. Веранда – в полдома. На втором этаже – две комнаты, не маленькие тоже. Туалет в доме с канализацией да с горячей водой из бойлера – куда с добром. Вода из крана бежит кристальная – в колодец насос опущен погружной. Посреди всего великолепия сидит Толя за столом, уже вымытый от копоти тракторной, чистый. «Садись, – кричит, – пообедаем». Я отказываться, а жена его, Аня, – не отпустим, говорит, не принято по карельским обычаям, за порог ступил – за стол садись.
Если кто возьмется рассуждать из столичных или иностранных жителей о том, какая рыба всего вкуснее – обманется наверняка, себя и других в заблуждение введет. Будет лосось поминать, тунца какого–нибудь или, не приведи господь – макрель с торбоганом. Кто сига вспомнит – уже ближе, почет ему и уважение. Но уж ряпушку никто не назовет. Местная она рыбка. Вкус такой, что пальцы свои и соседские оближешь. Это – если жареная. А если с лучком да юшкой на сковороде – опять же по–карельски, – тут не язык проглотишь, вся голова через рот вовнутрь завернется вслед за убегающим вкусом. В городе на рыбном рынке ряпушку часто продают, онежскую да ладожскую. Мелковата она, килограмм вычистишь – замучаешься. Тут у Толи жена сковороду на стол поставила – а там четыре рыбины уместились. Тут уж конечно не сдержаться было.
– Толя, – говорю, – где рыбы такой наловил?
– А, нет, не стало рыбы совсем, мало, – орет, – да и это некрупная! Совсем плохо стало с рыбой!
А глаза маленькие такие, хитрые.
Поели, поговорили.
– Я не пью совсем, – Толя говорит, – раньше было. Но дурной становился, ни дела, ни работы, ни семьи не видишь. Совсем бросил. Потом покажу тебе, как свиньи живут спившиеся.
– Жалко их? – спрашиваю.
– Всех не нажалеешь. Сам тоже думать должен. А то жрут да спят. Я бы тоже так хотел, – а куда, работать нужно.
Стали торговаться за участок.
– Двадцать тысяч, – Толя говорит, – хорошая земля, внизу, видел, распахано поле было. Весь участок – полгектара. Дом вот этот самый стоял, перенес потом.
– А чего перенес? – спрашиваю.
– Да егерем хотел работать раньше, не получилось. А теперь в деревне сподручнее. Потом покажу – сам увидишь. Тут у меня земля тоже неплохая, – и жмурится как кот.
– Змей нет, случайно? А с комарами как?
– Змеи – они везде. На Севере живем – скалы да сосны, змеи да звери. Но там вроде нет. А комары – видел, что на мысу земля. Лес вырубишь немного – ветром все сдувать будет, не комаров – птиц не увидишь.
– Ладно, – говорю, – двадцать много, за десять точно возьму. Тут ведь оформлять еще нужно, кадастр получать – тоже деньги. Это – мое, если сговоримся. Она у тебя в собственности?
– Да в собственности давно, чуть давать стали – я сразу взял, – он подумал, в голове колесики вертелись, в глазах – плюсики. – А, ладно, бери. У меня тут вокруг озера еще кой–чего есть. Давай теперь чай пить.
По рукам ударили, чаю попили – пошел Толя участок показывать. Земля распахана, картошка ровными рядами, кусты ягодные, на дорожках ни камешка лишнего. На берегу баня с верандой, рядом еще веранда застекленная, «для праздников» – говорит, тут же – коптильня большая – «слышь, хрюкают, потом покажу». От берега мостки длинные в озеро, вдоль них сетка–китайка, проходили мимо, Толя поднял за край, выпутал подлещика в две ладони, о доски шмякнул – кошке, говорит.
– Тоже полгектара, как у тебя будет, – орет, надрывается, – а вот там свиньи у меня, а там куры, а здесь брат мой рядом, он еще собак, лаек финских на продажу выращивает – вон вольер. А за озером гектар под картофелем.
– Охота, рыбалка? – спрашиваю.
– Потом фотки покажу, с медведем да с лосем. А здесь я карпа в девять килограмм вытащил, а рядом с твоим местом – щуку на четырнадцать.
Потом вдруг опомнился:
– А так нет, плохо стало, совсем плохо. Рыбы мало, зверя мало.
– Колхоз распался, – вторит ему Аня, идущая следом. – Раньше Толя шофером там работал, за комбикормами на завод ездил для колхоза, да и себе. А теперь совсем плохо, свиней вон пять всего оставили – невыгодно.
– А мясо–то будете продавать? – у меня уже слюни текут, домашнее мясо не чета магазинному.
– Будем. Только у нас дорого будет. Берут хорошо, – и выражение скорби на лицах. – И картошку продавать будем, и рыбу, и молоко с творогом. Давай стройся, не пожалеешь, в деревне – не в городе.
И я стал думать серьезно. Документы на землю оформились довольно быстро – месяц – и уже владелец. Собственность грела душу. Стоило оформление семь тысяч, плюс десять тысяч Толе – итого семнадцать за полгектара у озера, вместе с речкой, травой, соснами, камнями и всей многочисленной живностью, населяющей этот предварительный рай. Живности было много, судя по стрекотанию, пискам, прыжкам и полетам.
Будучи любопытным, я сходил–таки в фирму по торговле землей и поинтересовался – сколько может стоить мой участок, если его продавать. Полистав бумаги, посмотрев фотографии и послушав мои рассказы, человек в фирме азартно забегал по кабинету:
– Тысяч с двухсот можно начинать, а так – наверняка больше! Когда начнем?
«Никогда», – подумал я. Это уже была моя земля, и я начинал ее любить. Я начинал понимать, что затеял одно из самых важных дел моей жизни, что я построю хороший крепкий дом, который переживет меня и достанется детям, а потом внукам. Я прерву этим традицию жизни в общем государстве, когда каждый должен был начинать с нуля, и ничего не добиваться в итоге – страна высасывала соки, недоставало сил. А у моих детей будет стартовая площадка.
II
Дом мне всегда хотелось из дерева, из дикого, неоцилиндрованного бревна. На всякий случай все же стал считать затраты и работы – кирпич был самым дорогим, бетон и блоки тоже кусались ценой, брус все равно был дороже бревна в три раза. Поэтому новые знания лишь укрепили старую уверенность – традиции сильны не зря.
И вот теперь началась настоящая работа. Часть леса была заготовлена отцом. Он тоже хотел строить дом, но решил, что уже не потянет, и подарил лес мне. Правда, к тому времени он уже лежал два года, хоть и в штабелях, на прокладках, но все равно внушал некие опасения. К тому же его было маловато по расчетам на существующий уже фундамент. Я решил строить параллельно баню из отцовского леса, а на дом искать свежий. Тут–то и оказалась затыка. Кирпич, бетон, брус – были в наличии, люди рвались их продавать, привозить, строить. Исходного же, простого, желаемого кругляка продавать никто не хотел. Самим нужно. Или ломили цену. Мастера, рубящие срубы, отличались умом и сообразительностью даже больше, чем все остальные строители. Если по другим материалам подсчет был довольно прост – столько–то кубометров на стены, столько–то – за работу, столько – за материал, то с бревном все оказалось гораздо сложнее.
– Толщина какая? – сразу спрашивали рубщики, и тут же чуяли мою некомпетентность, я не знал, какую толщину они имеют в виду – у комля, у вершины. А спрашивать было стыдно.
– Ну–у–у, – сразу разговор приобретал чудесный оттенок наставительной беседы мудрого учителя с глуповатым и противным учеником.
– Ну–у–у, мы за кубометр берем. А кубометров будет сто примерно. Так что кидай нам тысяч сто пятьдесят сразу, не прогадаешь. И лес мы достанем. Как сруб перевезти? Ну–у–у, соберем, разберем, опять соберем. За деньги, конечно. Ну–у–у, на месте никак нельзя, мы привыкли у себя работать.
Хорошо, что у меня уже был опыт общения со строителями. Как хорошо, что он у меня уже был! Я решил во всем разобраться досконально и через неделю консультаций и подсчетов уже знал, что бревна понадобится кубов сорок, не больше; что платить я буду за всю работу, а не по кубометрам, погонным метрам или венцам; что ни о какой предоплате и речи идти не может, а строители должны будут ставить сруб прямо на фундамент, без ненужных переносов. В ответ я должен буду организовать их быт и проживание на природе.