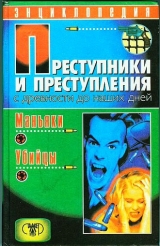
Текст книги "Преступники и преступления с древности до наших дней. Маньяки, убийцы"
Автор книги: Дмитрий Мамичев
Соавторы: Анатолий Водолазский
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Но лишь с введением усовершенствованных гистологических методов появилась возможность для более основательных методов. Эта область исследования переживала еще свое детство, когда Пеппер и Спилсбери изучали кусок кожи из подвала дома Криппена. Предположительная идентификация волос на этой коже в качестве лобковых все же не говорила ничего определенного о месте расположения этого куска кожи на теле. Можно было считать доказанным только то, что на коже имелась мускульная и сухожильная ткань, характерная для брюшной стенки живота между половым органом и пупком. В первую очередь речь шла о ректус-мускуле брюшной стенки, о некоторых расширенных сухожилиях, или апоневрозах, а также о меньших мускулах, связанных с ректус-мускулом. В ходе многодневных препарирований, изучения имеющегося материала под микроскопом и сравнения его со срезами нормальной брюшной стенки Спилсбери смог доказать, что данный лоскут кожи покрывал среднюю часть подчревной области живота. Но это вновь выдвигало на первый план проблему шрама. На первый взгляд речь здесь шла о подковообразном изменении поверхности тела. Однако исследование ткани со шрама под микроскопом показало, что обе «ножки» этого подковообразного изменения кожи по природе своей очень разнятся.
Применительно к одной речь явно шла о явлении, возникшем вследствие сморщивания кожи во время лежания в подвале. Кожа внутри такого сморщивания имела столь же нормальную структуру, как и кожа вокруг него. Видны были корешки волос и прежде всего сальные железы, в то время как на операционных шрамах их никогда не бывает, ибо там образуется плотная, лишенная волос и желез ткань. Контур, возникший на коже вокруг исследуемой части, полностью соответствовал узору ткани на нижней сорочке Коры Криппен. Она была, видимо, защемлена в складке кожи, и таким образом ее узор был перенесен на кожу. Целиком и полностью была отличной от этого другая, десятисантиметровая «ножка» подковообразного изменения кожи. Она представляла собой твердую светлоокрашенную узкую полосу, которая несколько расширялась книзу. Такое расширение часто наблюдается на операционных шрамах, которые проходят от пупка вниз; направленное также вниз давление внутренностей часто приводит к нижней части шрама. Доказывалось же наличие операционного шрама следующим образом: под микроскопом любое поперечное сечение кожи, кроме поверхности самого шрама, содержало нормальные волосяные мешочки и сальные железы. Отсутствие этих мешочков и желез было характерным признаком хирургического рассечения кожи и последующего образования рубцовой ткани, в которой нет ни волосяных мешочков, ни желез. Лишь в одном фрагменте шрама Спилсбери обнаружил под микроскопом остатки желез и малых жировых частиц. Но Пеппер, как опытный хирург, знал, что при зашивании операционных ран самый верхний слой кожи зачастую загибается и что тогда этот самый верхний слой с остатками желез часто врастает в шов. Он знал также, что в многочисленных случаях образования шва отверстия от иголки при зашивании операционной раны со временем полностью исчезали или после них оставались лишь слабые следы. Фактически Спилсбери и обнаружил под микроскопом лишь крошечные их приметы. К 15 сентября после почти восьминедельных трудов Пеппер и Спилсбери пришли к убеждению, что лоскут кожи, который они исследовали, относится к нижней брюшной стенке и что шов на нем по положению и характеру разреза совпадал с теми, которые обычно образуются при хирургическом удалении частей больных женских половых органов.
Пока Пеппер и Спилсбери путем утомительной кропотливой работы шли к этим выводам, Уилкокс и его помощник Лафф тоже не сидели сложа руки. В ходе исследований Уилкокс 20 августа пришел к выводу, что найденные части трупа содержали смертельную дозу растительного яда гиосцина. Одновременно сотрудники Скотланд-Ярда установили, что 17 или 18 января Криппен приобрел у фирмы «Льюис энд Бэрроуз» пять гранов гиосцина – количество, которое явно не требовалось ему для работы. Наконец, выяснилось, что Криппен имел две пижамы, подобные найденной с остатками трупа. Фирма «Братья Джонс» поставила Криппену в январе 1909 г. три таких пижамы. 15 сентября цепь улик оказалась замкнутой благодаря взаимодействию судебной медицины и органов расследования. Направление, которое должно было избрать обвинение в лице Ричарда Мьюира и Трейверса Хефри, было ясным, и миллионы людей замерли в ожидании начала процесса против Криппена, назначенного на 18 октября 1910 г.
Адвокат Криппена Артур Ньютон принадлежал к числу самых беспардонных лондонских солиситоров[24]24
Одна из двух категорий адвокатов в Англии (другая – барристеры). Обычно они ведут досудебную подготовку дел, в самом же процессе выступают барристеры. – Прим. перев.
[Закрыть] тех дней. Стратегия доказывания, которую, как он предвидел, изберет обвинение, оставляла ему лишь одну линию зашиты: утверждать, что части трупа из подвала Криппена не относятся к Коре Криппен, а были закопаны там еще до того, как Криппен арендовал этот дом на Хиллдроп-Крисчент 21 декабря 1905 г. Ньютон полагался на такую именно тактику зашиты Криппена с тем большей уверенностью, что он, как и Альфред А.Тобин, взявший на себя представительство интересов Криппена в суде, разделял широко распространенное пренебрежение к судебной медицине.
Тобин был убежден, что путем столкновения экспертов ему удастся посеять так много сомнений относительно выводов Паппера и Спилсбери, что присяжные не придадут никакого доказательственного значения идентификации на основе исследований шрама. Благодаря этому, как он надеялся, была бы уже выиграна важнейшая часть битвы в суде.
Ньютон был знаком с директором института патологии Лондонского госпиталя Хьюбертом Мейтлендом Торнболлом и его бывшим ассистентом Уоллом. Он спросил обоих, не захотят ли они как-нибудь однажды обозреть пресловутую кожу с пресловутым шрамом Коры Криппен. Возможность для этого он им предоставит. Ньютон знал, что среди патологоанатомов Лондонского госпиталя существует определенное раздражение против ставших знаменитыми их коллег из больницы Святой Марии. Он рассчитывал, что при осмотре кожи Торнболл и Уолл, высказываясь в частном порядке, могли бы оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. А после этого он прижал бы их к ногтю за эти высказывания так, чтобы они не смогли отвертеться, и представил бы их суду в качестве контрэкспертов против Пеппера и Спилсбери.
И вот 9 сентября оба врача осмотрели кожу и шрам на ней. После беглого изучения они сказали Ньютону, что лоскут кожи взят не с брюшной стенки, а с бедра и что пресловутый шрам ни при каких обстоятельствах шрамом быть не может, а является лишь складкой кожи. Под тем предлогом, что их показания послужат лишь доверительной информацией для защиты, Ньютону удалось их уговорить изложить свое мнение в письменном виде. Лишь когда Торнболл понял, что в действительности замыслил Ньютон, ему стала ясна вся поверхность проведенной им в данном случае работы. За день до начала процесса – 17 октября – он попросил дополнительный срез для микроскопии и с ужасом обнаружил, что ни в коем случае нельзя было заявлять, будто кожа взята с бедра, а его аргументы относительно того, что не может быть и речи о шраме, очень слабы. Но было уже поздно. Он уже связал себя данной адвокату информацией и полагал, что на карту будет поставлена вся его репутация, если только он признается в ошибке.
Когда 18 октября началось слушание дела Криппена, никто еще не знал, что подлинным победителем из него выйдет молодой человек, чья карьера сделает его имя в конечном итоге знакомым каждому англичанину, который читал или слышал о судебной медицине, – Бернард Спилсбери.
19 октября Пеппер, а за ним Спилсбери дали показания на суде в качестве экспертов обвинения. Они демонстрировали при этом законсервированный в формалине лоскут кожи. А 21 октября на том же месте появились Торнболл и Уолл, принужденные оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. Наспех собранные аргументы, представленные ими, сводились к следующему:
1. Данный кусок кожи не относится к нижней части живота. На ней отсутствуют так называемые «inscriptiones tendineae», то есть сухожилия, которые в рассматриваемой области живота связывают большие, проходящие вертикально от груди до таза мускулы у каждого человека. Далее, совсем не просматривается «linea alba», которая должна проходить от груди к лобковой кости через интересующий нас участок кожи. Наконец, не обнаружены некоторые сухожилия, апоневрозы, которые также типичны для нижней области живота.
2. Что касается пресловутого шрама, то о нем в данном случае не может быть и речи. Не обнаружено никаких мест прокола от хирургической иглы. Зато налицо части сальных желез и жировых телец, которых на шрамах не бывает. Поэтому речь в данном случае идет о складке кожи, возникшей вследствие спрессовывания с нижней сорочкой.
Защитник Тобин добавил к этому, что во время исследования останков Пеппер уж знал об операции нижней части живота у Коры. Шрам, который он хотел найти, был не чем иным, как плодом его предвзятого воображения.
В тот момент, когда Тобин выдвигал эти обвинения, он был как никогда уверен в своей правоте. Он был убежден, что все сведется лишь к борьбе мнений, которая не вызовет у присяжных ничего, кроме замешательства. Его уверенность возросла, когда Пеппер, сам отошедший на задний план, заявил, что решающие исследования под микроскопом проводил его ученик Спилсбери, который и будет один держать речь и отвечать на вопросы. Спилсбери? Что значит для присяжных молодой, абсолютно никому не известный человек?
Первый раз 19 октября, а во второй – 21 октября Бернард Спилсбери давал показания перед судом Олд-Бейли. Тридцати трех лет, высокий, худой, с благообразным, вызывающим симпатию и доверие лицом, он ничем не напоминал человека, проводящего большую часть своего времени в анатомическом театре среди мертвых. Тщательно одетый, с гвоздикой в петлице, говорящий отчетливым, полнозвучным голосом – таким восприняли его в первый раз судьи, защитники и присяжные.
Когда Тобин охарактеризовал его как ученика Пеппера, который, само собой разумеется, должен присоединиться к мнению маэстро, он услышал в ответ: «Тот факт, что я работал вместе с д-ром Пеппером, не имеет никакого отношения к тому мнению, которое я здесь выражаю. А тот факт, что я читал в газетах об операции у Бель Эльмор (Коры Криппен), не повлиял на мои выводы… У меня независимая позиция, и я отвечаю исключительно за мои собственные данные, полученные мною на основе моей личной работы.»
Затем на Торнболла и Уолла посыпался удар за ударом. Относительно «inscriptiones tendineas» – разве неизвестно экспертам защиты, что эти сухожилия не пронизывают всю кожу, а расположены как раз в тех частях мускулов, которые убийца вырезал? A «linea alba»? Торнболл должен был знать, что она показывается только там, где под кожей встречаются определенные связки сухожилий между отдельными частями брюшной мускулатуры. В данном же случае соответствующие куски мускулов вместе с местами прикрепления сухожилий были удалены. А что касается особенно типичных сухожилий, или апоневрозов, которых Торнболл и Уолл не обнаружили, то он охотно покажет им эти апоневрозы на данном лоскуте кожи. Спилсбери поднял сухожилие пинцетом вверх и показал его присяжным.
Судья – лорд Элверстоун – с удивленным лицом подался вперед. Он допытывался у Торнболла, что тот скажет по этому поводу? Торнболл всячески увиливал. Но Элверстоун был безжалостен: «Прошу вас четко ответить на мой вопрос: видите вы там сухожилие или вы его не видите». В безвыходном положении Торнболл ответил «Да».
В столь же безвыходной ситуации оказался и Уолл, который вынужден был изменить свое мнение о происхождении лоскута кожи. «Теперь мое мнение таково, – заявил он тихо, – что он может относиться к коже живота».
Правда, и после этой первой встречи со Сбилсбери Торнболл и Уолл все еще отказывались признать, что на лоскуте кожи действительно имеется шрам. Спилсбери отвечал на это хладнокровно и невозмутимо: «У меня есть при себе все микроскопические срезы, и я велю тотчас принести сюда микроскоп».
Принесли микроскоп, и Спилсбери объяснил присяжным, собравшимся возле него, каждый срез с ткани рубца, показывал им расположение волосяных мешочков и сальных желез, сделал им понятной миграцию отдельных остатков желез по ходу хирургического шва. Торнболл исчерпал все аргументы. Тогда он прибегнул к личным нападкам – вроде того, что не следует полагаться на молодых людей, не обладающих еще достаточным опытом работы с микроскопом. Но Мьюир при всеобщем одобрении заставил его замолчать, сказав: «Мы говорим не о тех людях, которые ничего не понимают в микроскопии, а о таких людях, как мистер Спилсбери».
22 октября, посовещавшись лишь 27 минут, присяжные вынесли свой вердикт: «Виновен».
Четыре недели спустя – 23 октября – Криппен был повешен. Но метод доказывания, использованный Спилсбери, дал материал не только для броских заголовков британской прессы. В Англии он послужил поворотным пунктом в отношении общественного мнения к судебной патологии. Спилсбери и процесс Криппена довершили в этом отношении то, что было начато Пеппером. А поворот общественного мнения ознаменовал начало нового периода развития судебной патологии, который почти три десятилетия был связан с именем Бернарда Спилсбери.
Ю.Торвальд. Век криминалистики. – М.: Прогресс, 1984.
2. Дело об убийстве Клавы Г
1913 голу среди уголовных дел, проходивших в Петербургском окружном суде, это дело снискало репутацию самого загадочного и интересного не только по сложности и тонкости улик, но и с точки зрения нравов того времени. К сожалению, сами материалы сгорели вместе с архивами в первые дни Февральской революции. Сохранился лишь рассказ о таинственном преступлении, вошедший в книгу «Воспоминания юриста» Бориса Самойловича Утевского, одного из основоположников советской правовой науки. Утевский вместе с известным адвокатом Н.П.Карабчевским представляли зашиту в той невероятной истории.
…Дело началось так. В Петербурге, в камере хранения Николаевского вокзала, в помещении для невостребованных вешей появился тяжелый, дурной, все усиливавшийся запах. Работники вокзала перебрали чемоданы, корзины, баулы, мешки и другие веши. Вскоре обнаружили, что запах, который сразу же определили как трупный, исходит из плетеной корзины, завязанной веревкой и запертой на висячий замок. Как выяснили, корзина была сдана на хранение три недели тому назад -21 июня 1913 года. Сразу дали знать сыскной полиции (так назывался уголовный розыск), и через полчаса три ее агента были на вокзале. Корзину перенесли в отдельную комнату, сфотографировали и стали развязывать веревку. Но не тут-то было. Никто из крепких, бывалых агентов не в состоянии был развязать узел на крышке корзины. Позвали еще более физически крепких и опытных носильщиков вокзала. Они пренебрежительно сказали:
– Узел развязать не могут!
Но через несколько минут они вынуждены были признать, что они никогда такого узла не видели и что развязать его не могут.
Уведомленные об этом руководители сыскной полиции хотели определить профессию лица, завязавшего корзину. Решили, что это – артельщики из имевшихся в то время «упаковочных артелей» или матросы парусного флота. Вызвали и тех, и других, но все отступили перед небольшим, обычным на вид узлом. Тогда было принято решение: таинственный узел вырезать с тем, чтобы продолжить поиски лица, которое сумело бы развязать узел.
Это была первая тайна в деле.
Когда взломали замок и открыли корзину, там оказался скрюченный, с ногами, пригнутыми к голове, труп женщины. Эксперты-медики установили, что покойнице 18–20 лет, что перед смертью ей был сделан аборт, вызвавший прободение некоторых женских органов и сильное кровотечение.
На вопрос, отчего последовала смерть, эксперты дали неопределенный ответ: – Возможно, что в результате аборта, но скорее всего от удушения, хотя никаких внешних следов удушения на трупе нет.
Впоследствии крупные специалисты-медики пришли все же к единственному мнению, что покойница была задушена. Как? Может быть, при помощи подушки, одеяла или другой мягкой вещи, которая была наброшена на лицо. Возможно, что в результате аборта, сделанного, несомненно, какой-нибудь подпольной аборт-махершей, покойная потеряла сознание от большой потери крови и в таком состоянии была задушена.
Вторая тайна была – кто же убитая?
Эту тайну раскрыли сравнительно легко. Труп был заморожен, в газетах даны объявления, а в ряд сыскных управлений посланы запросы: не поступало ли заявление о пропаже молодой женщины 18–20 лет.
Через две недели в Петербург приехали пожилые супруги, жители города Пскова, заявившие, что их дочь Клава Г., уехавшая из Пскова больше шести месяцев назад на курсы кройки и шитья и сообщившая, что она 1 июня приедет домой, не приехала до сих пор и что поиски не увенчались успехом. По некоторым сохранившимся на трупе приметам и по платью и белью родители опознали свою дочь.
Дальнейшее расследование установило обстоятельства поездки Клавы в Петербург и предшествовавшие этому события.
В Пскове некий Равич был владельцем магазина и мастерской женского платья и пальто. Сам Равич управлял магазином, а его жена Рая ведала мастерской, в которой работали 15 молодых девушек.
Равич был не только хорошим коммерсантом, но и опытным соблазнителем молодых мастериц. Рая знала об этом, страдала, но, по ее словам, терпеливо ждала, когда муж, наконец, перебесится.
Последним увлечением Равича была швея – молоденькая Клава Г. Увлечение это было более серьезным, чем все другие, и более, чем другие, беспокоило Раю.
Она вдруг решает оставить детей и поехать в Петербург на шестимесячные курсы по усовершенствованию кройки и шитья. Муж одобряет ее желание. Это было понятно – он получил свободу на полгода. Но тут происходит нечто странное – вместе с Раей в Петербург на те же курсы едет и Клава Г. Едут они мирно, не как соперницы, а как подруги. Так, по крайней мере, показывают свидетели. Но в Петербурге – опять странность – Рая и Клава нанимают себе комнаты отдельно: Рая в центре города, Клава – на одной из линий Васильевского острова.
Рая на вопрос следователя – почему она взяла с собою в Петербург Клаву, ответила, что хотела разлучить мужа и Клаву. Но на вопрос, почему согласились на поездку Клава и влюбленный в нее Равич, ни Рая, ни ее муж сколько-нибудь вразумительного ответа дать не могли. Видимо, что-то связывало в этой поездке Раю и ее мужа. Но что? На этот вопрос следователю не удалось найти ответа.
Далее было установлено, что за два месяца до окончания Раей и Клавой курсов в Петербург приехал Равич. Он остановился у жены и первую ночь провел с ней. Назавтра он ушел от Раи и вернулся только на следующий день. Он признался, что вторую ночь провел с Клавой. Квартирная хозяйка Раи показала, что когда ловелас-муж вернулся к Рае, она приняла его спокойно, хотя знала, с кем Равич провел ночь.
Прошло еще два месяца. Рая и Клава окончили курсы и получили дипломы. Раиса решила назавтра, т. е. 18 июня, утром уехать в Псков. Клава же осталась в Петербурге еще на несколько дней. На вопрос, почему Клава осталась, Рая отвечала незнанием. Это было странно. На вопрос, знала ли Рая, что Клава собирается делать аборт, Рая ответила, что не знала. Это также было странно, тем более, что ночь перед отъездом Рая почему-то провела у Клавы. Это случилось впервые. Следователю показалось странным и то, что, по словам Клавиной хозяйки, Рая ночью несколько раз выходила на кухню. На вопрос хозяйки, почему Рая не дает ей спать, та отвечала, что ей почему-то страшно и кажется, что кто-то стучит в окно (комната Клавы была на первом этаже).
Далее следуют показания хозяйки, относящиеся к последнему дню жизни Клавы, т. е. 21 июня. Хозяйка, как обыкновенно, уходила рано утром на рынок. Клава еще спала. Возвращаясь около 11 часов утра, она увидела, что Клава на другой стороне улицы идет с каким-то мужчиной. Домой она не возвратилась.
У следователя возник важнейший для дела вопрос: кто был спутник Клавы? Хозяйка не знала. Когда следователь показал ей фотокарточку Равича и спросил, не он ли это был, хозяйка долго всматривалась, а потом сказала:
– Не то он, не то и кто другой. Греха на душу не возьму. Точно, что он, – не скажу.
Следователь, размышляя о том. кто же убил Клаву, пошел по старому, часто оправдывающему себя пути, и поставил себе вопрос:
– «Кто», т. е. кому это (преступление) было выгодно, в чьих интересах это было? Следователь отвечал сам себе так: Равич за два месяца до убийства провел ночь с Клавой. Она, по-видимому, забеременела от него и об этом его уведомила. Если бы она родила, то разразился скандал. Рая бросила бы его. Лети остались без матери, а детей он очень любил. Это плохо отразилось бы на его деловой репутации. Да и больше ухаживать за молоденькими мастерицами было бы после такого скандала рискованно. Значит, надо заставить Клаву сделать аборт или убить ее. Есть все основания полагать, что мужчина, который пришел за Клавой и которого видела хозяйка, был Равич!
Следователь допросил Равича. Равич вначале отрицал, что в свой приезд в Петербург ночевал у Клавы. Но хозяйка Клавы его узнала и показала, что он провел с Клавой не только ночь, но и часть дня. Она его видела и хорошо запомнила. Ей дали 10 фотокарточек мужчин одного с Равичем возраста. На вопрос, кто из них мужчина, ночевавший у Клавы, она без колебания показала на фотокарточку Равича.
Равич был вынужден признаться, что он провел ночь с Клавой. Тогда следователь задал ему вопрос:
– Были ли вы в Петербурге 20 или 21 июня?
Равич ответил отрицательно и доказал свое алиби. Он предоставил железнодорожные билеты, из которых было очевидно, что 18 июня он выехал из Пскова в город Порхов, пробыл в Порхове до 23 июня, 23-го вечером выехал из Порхова и только 24-го приехал домой. Он указал гостиницу в Порхове, в которой жил с 19 до 23 июня.
Следователь запросил полицию города Порхова, и та подтвердила, что действительно 19 июня был прописан, а 23 июня выписан проживавший в гостинице Равич.
На вопрос, что Равич делал в Порхове, он показал, что вел переговоры с владельцами двух магазинов женского платья. Последние подтвердили, что в указанные Равичем дни – точно в какой из них, не помнят, – он был у них.
Алиби Равича было доказано, и следователь снова стал перед вопросом: кому еще в таком случае было выгодно убийство Клавы? На этот раз он дал себе ответ, который привел Раису Равич на скамью подсудимых как подстрекателя к незаконному аборту и к убийству Клавы Г., совершенному не обнаруженным следствием лицом (мужчиной).
Аргументация следователя была слишком проста. Рая ревновала мужа к Клаве и видела в ней опасную конкурентку, так как знала, что муж никогда еще так сильно никем не увлекался. Чтобы разлучить их, она затеяла поездку в Петербург на курсы и уговорила Клаву поехать вместе с ней. Она специально поселилась отдельно от Клавы, чтобы в квартире, где она сняла комнату, не было свидетелей событий, которые могли произойти Когда Равич приехал в Петербург якобы с целью навестить Раю, но провел следующую ночь с Клавой, она еще больше убедилась в опасности. Узнав, что Клава беременна, она поняла, что если Клава родит ребенка, то в лучшем случае в маленьком Пскове произойдет грандиозный скандал, а в худшем – Клава заставит Равича жениться на ней. Она решила избавиться от ребенка, а заодно и от нее самой. Она организовала аборт и убийство Клавы. Она, по-видимому, ночевала у Клавы, чтобы убедить ее сделать аборт.
Рая на допросе показала, что у нее в Петербурге были родственники. Она у них бывала и познакомилась с несколькими мужчинами. На вопрос, с кем именно, она ответила, что фамилий не помнит. Кто-то из них и был организатором аборта и убийцей. Следователь принял решение арестовать Раю, несмотря на то, что она все категорически отрицала…
Прошло уже более года после ареста Раи. Она находилась в Петербургской женской тюрьме и продолжала не сознаваться.
Однажды Карабчевский сказал мне:
– Был у мня сегодня на приеме один человек, по фамилии Равич. Жена его обвиняется в убийстве. Просил, чтобы я ее защищал. Дело, видимо, сложное, так как следствие тянется уже год. Вы знаете мое пристрастие к делам об убийстве. Вы согласитесь помогать мне в этом деле? Поговорите обстоятельно с Равичем и следите за делом. Будем вместе защищать.
Я познакомился и долго говорил с Равичем. Он был сильно удручен арестом жены и обвинением ее в убийстве. Говорил, что после последней, проведенной с Клавой ночи, он к ней охладел и убедил в этом Раю. Если бы он знал, что Клава забеременела, он дал бы ей деньги, чтобы она сделала аборт у хорошего врача. У Раи не было никакого основания убивать Клаву.
Этот разговор происходил в июне. В конце июля, рано утром, ко мне пришел Равич, бледный и взволнованный. Он находился в Кеммерне (теперь – Кеммери), возле Риги, где лечился. Два дня тому назад он получил от следователя, который вел дело Раи, телеграмму с предложением немедленно выехать в Петербург и явиться к нему. Он пришел предупредить меня об этом. Мы условились, что, если следователь его не арестует – чего он почему-то боялся, несмотря на бесспорное алиби, – он вечером придет ко мне и расскажет, в чем дело.
Вечером он явился и рассказал о совершенно непонятных ни для меня, ни, по его уверениям, для него действиях следователя. Когда он пришел к следователю, тот усадил его за стол, дал ему чистый лист бумаги и сказал: «Пишите, что я вам буду диктовать». Диктовал он следующую фразу:
«Я, нижеподписавшийся крестьянин такой-то деревни, волости, уезда, отправляясь на суд царя небесного, решил рассказать всю правду…»
Эту фразу он заставил Равича написать разными перьями, а потом карандашом. После этого он позвонил и попросил позвать к нему какого-то человека, фамилию которого Равич не расслышал. Когда этот человек пришел, он сказал ему:
– Вот почерк господина Равича… Не надо ли ему еще что-нибудь написать?
Затем он попросил Равича выйти в приемную и сидеть там, никуда не отлучаясь, пока его не вызовут. Равич заметил, что у дверей приемной стоит городовой и не спускает с него глаз.
Через три часа следователь вызвал Равича и спросил его:
– Вы были знакомы с крестьянином деревни Молчановка в вашем уезде? Зовут его Молчанов Иван Матвеевич.
Равич сказал, что в Молчановке никогда не был, первый раз слышит о такой деревне и о таком человеке. Следователь дал ему бланк протокола допроса и предложил написать, что он с крестьянином Иваном Матвеевичем Молчановым не знаком и о нем никогда не слышал.
После этого он сказал, что Равич свободен и может возвратиться в Кеммерне. На просьбу разрешить свидание с Раей следователь ответил категорическим отказом.
Позже, когда следствие было закончено, Рае было предъявлено обвинение, и защитники получили возможность познакомиться с делом, я узнал, почему следователь заинтересовался почерком Равича. Оказалось, что в деле об убийстве Клавы появилась новая тайна. За неделю до вызова Равича к следователю в Псковском уезде Псковской губернии нашли в лесу повесившегося человека, судя по одежде, крестьянина. Под деревом, где он висел, лежала бутылка, а в бутылке записка следующего содержания: «Я, крестьянин деревни Молчановка Псковского уезда, Иван Матвеевич Молчанов, отправляясь на суд царя небесного, решил рассказать всю правду судьям земным. Клаву Г. убил я, а почему, о том поведаю господу Богу. Это я положил ее в корзинку и сдал на хранение на Николаевском вокзале. Квитанцию я порвал. Совесть меня замучила и я решил предстать перед царем небесным».
Записка была написана грамотно. Следователю показалось странным, что «простой крестьянин» мог грамотно писать. Записка попала в Псков к прокурору, знавшему о деле Раи. Он тотчас же отослал ее в Петербург. Следователь, который вел дело Раи, запросил у прокурора, на территории которого была найдена бутылка с запиской, сведения о самоубийце. В ответе было сказано, что крестьянин Иван Матвеевич Молчанов жив, проживает в деревне Молчановка, за всю свою жизнь из Молчановки не выезжал, не был даже в Пскове, о Клаве Г. никогда не слышал. Тогда-то следователь и заподозрил, что письмо написано мужем Раи. Он вызвал Равича, взял образцы почерка, но эксперт установил, что записку самоубийцы писал не он.
Прошел еще год. Рая томилась в тюрьме. Следователь допросил около ста свидетелей, но ни одной новой улики против Раи не нашел. И только через два года после смерти Клавы в Петербургском окружном суде слушалось дело по обвинению Раисы Равич в соучастии в аборте и убийстве Клавы. Защищали подсудимую Карабчевский и в качестве его помощника я.
Показания свидетелей, вызванных из Пскова прокурором, ничего для судебного следствия не дали. Они только плохо охарактеризовали Раю и ее мужа. Раю – как женщину злую, мстительную и ревнивую. Она часто без всяких оснований устраивала мужу сцены ревности, всего больше боялась, что муж ее бросит и женится на одной из мастериц. Когда Равич увлекся Клавой, Рая несколько раз говорила, что убьет ее, боялась, что она забеременеет.
Одна из свидетельниц показала, что Раиса перед отъездом в Петербург говорила, что у нее есть старинный друг, который любит ее до сих пор и сделает все, что она попросит. Но был ли у Раи такой друг и кто он, – оказалось невыясненным. Рая категорически отрицала все это.
Неблагоприятное для Раи впечатление производило то, что она отвечала незнанием на вопросы о вешах, которые не могла не знать. Ее показаниям прокурор противопоставлял показания Равича, который ничего от суда не скрывал и честно отвечал на все вопросы.
Хотя ни одной прямой улики против Раи судебное следствие не дало, зашита ее была делом нелегким. Карабчевский произнес, по обыкновению, прекрасную речь. Мне он для речи отвел эпизод, бывший одним из важных звеньев в цепи косвенных улик – ночь, проведенную Раей в комнате у Клавы накануне отъезда, и уход Клавы утром с каким-то мужчиной.
Присяжные заседатели совещались более четырех часов. Мы считали это плохим предзнаменованием. Когда раздался звонок, означавший, что присяжные заседатели сейчас выйдут в зал заседания, мы были готовы к худшему. На первый вопрос: доказано ли, что Клава Г. была убита, присяжные заседатели ответили: – «Да, доказано». На второй вопрос: если доказано, что Клава Г. была убита, то виновна ли Раиса Равич в ее убийстве? – заседатели ответили: «Нет, не виновна».
Рая после слов «нет, не виновна» упала в обморок, который длился долго…
Месяца через два после оправдания Раи пришло письмо от нее. Она жаловалась, что два года тюрьмы, неизвестности, тревоги за себя и детей сильно подорвали ее здоровье. Она большую часть дня лежит. Местные врачи не могут поставить какой-либо диагноз. Но она сама знает, что она очень-очень больна.







