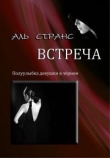Текст книги "О суббота!"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Смотря где, Гришенька, смотря где. У нас, например, даже слишком легко. Мои девчонки успели по два раза каждая, так что я имел при двух дочерях четырех зятьев, и все четыре мне нравились, славные хлопцы. А это твой дом, я понимаю?
– Да, у меня дом, восемь комнат. У меня много места, приезжай, посмотри. Сад, два автомобиля. Теперь, когда я продал дело, я свободный человек, ничем не занят. Приедешь, мы совершим путешествие, – говорил Гриша. – Я зимой отдыхаю во Флориде. Захочешь, поедем во Флориду, весной я путешествую по Европе, захочешь, едем в Европу: Рим, Париж, Швейцария!
Саул Исаакович решил, что дипломатичнее не говорить Грише, что на подобную поездку у него нет, никогда не было и не будет денег, и он понятия не имеет, зачем без специальной командировки советским гражданам шататься по загранице. И он сказал так:
– А ты мне лучше ответь, мы едем в Кодыму или нет, я не расслышал твоего ответа. Я, может быть, плохо слышу?
– Я не могу ехать в Кодыму. – И они засмеялись, и встали, и пошли дальше, два старых хитреца. – Моя путевка не содержит Кодыму, такой маршрут.
– Значит, в Кодыму ты ехать не можешь? Сочувствую тебе. Что ж, поеду без тебя. Я могу ехать, Гриша, когда захочу, хоть сию минуту я могу отправиться в нашу дорогую Кодыму, – говорил Саул Исаакович с нежной улыбкой. – Я в любой момент могу проверить, цел ли наш тополь, проверить, как там идет новое строительство, какая станция, какой теперь вокзал. Я поеду, Гришенька, и все тебе опишу в письме, если тебя интересует, конечно.
– Да, да! – отвечал Гриша. – Но ты мне скажи про себя – какой у тебя капитал, как ты жил все годы? Ты ничего не говоришь про себя, и я могу думать, что тебе нечего сказать, а? – задирался Гриша.
– Мне нечего?! Как это, мне нечего?! Когда ты придешь к нам на фаршированную рыбу, прочисть хорошенько уши, Гришенька, и приготовься долго слушать. Я расскажу тебе такую историю, что ты останешься под впечатлением. Но смотри, Гришенька, смотри, мы пришли к Моне.
– Где живет Моня?
Ах, какая же это чудная улица, где живет Моня, где трамвайная колея течет зеркальными ручьями в густой нетоптаной траве, где бугель бренчащего бельгийского трамвая пробил в непроницаемых кронах тополей зеленый и высокий свод, где старые дома больны надменностью!.. О, блеклые фасады! О, выпавшие кое-где балясины балконов!..
– Где, где живет Моня, покажи мне!
– Вон, где открытые ворота, – поднял руку Саул Исаакович. – Где дикий виноград полез на крышу, где маленькая девочка играет со скакалкой, где выщерблен асфальт, где красная звезда прикреплена к подъезду, означая, что этот дом – образцового порядка и высокой культуры!
– Слушай, ты поэт!
– Ты думаешь?
Саул Исаакович довел Гришу до самой двери, показал белую кнопку звонка.
– Ну, давай!
Гриша не звонил, Гриша переводил дыхание.
– Почему ты не идешь со мной? – Гриша вытирал затылок малиновым платком.
– Так будет лучше, – сказал Саул Исаакович.
Почему?
– Гриша, ты можешь подарить мне свой платок? Он мне страшно нравится, я хочу иметь от тебя на память…
– Я принесу тебе полдюжины или дюжину, у меня много! – воскликнул Гриша и, бледнея, позвонил.
ДЕЛА БИБЛЕЙСКИЕ
И было так.
– Зюня? На тебе, Зюня! В чем дело, Зюня? Заходи, заходи!
Гриша пошел по темному коридору за звуками шаркающих в темноте ног. Потом открылась комната, он вступил в нее следом за Моней, огляделся. На постели с тарелкой в руке отдыхала уставшая от еды Клара. Она посмотрела на Гришу и улыбнулась.
– Чай будешь пить, Зюня? – спросил Моня.
– Давай чай, – ответил Гриша.
– А кашу хочешь?
– Давай кашу. – И Гриша сел к столу. Моня взял из буфета тарелку, ложку, стал выскребать из казанка остатки подгоревшей каши.
– Что-то ты давно не забегал, Зюня.
– Да, давно.
– Ты, кажется, немного похудел.
– Да, похудел.
– Ты, может быть, был в Москве?
– Да, я был в Москве.
– Интересно. И что же сказал Боря?
– Боря? А что должен сказать Боря?
– У тебя ведь Боря решает вопрос.
– Какой вопрос?
– Вопрос о твоей встрече с Гришей.
– Боря сказал, что конечно же пускай брат обнимет брата.
Так сказал Гриша и встал.
– Он не дурак…
– Моня, – сказала Клара и засмеялась. – Очнись! И надень очки! И возьми тарелку. И почему ты не знакомишь меня с Гришей? Разве я уже умерла?
Тогда Моня заплакал. Он снял с гвоздя подтяжки и крепко ударил ими младшего брата, и не раз ударил.
А потом было так. Прозвенел звонок в коридоре, Моня поднял палец кверху, сказал «ша!» и пошел открыть дверь. Гриша слышал, как Моня сказал у входа:
– На тебе, Зюня! В чем дело, Зюня? Заходи, заходи!
Вошел Моня, а за ним Зиновий.
– Я как-будто чувствовал, как будто догадался!.. – сказал Зюня.
– А я полагаю, что ты как будто попался! – со смехом сказал Моня.
И все были рады друг другу, все любили друг друга и хотели любить, потому что были братья, хоть и не виделись пятьдесят шесть лет.
Зюня принес старшему брату курицу, а Гриша пришел с пустыми руками – подарки остались в гостинице. Он хотел бежать за подарками, но братья не пустили его, а сказали, чтобы принес потом. Курицу тоже не стали варить, а сели вокруг стола. У Мони было вино, и хлеб, и масло, и икра, и шпроты, и колбаса, и балык.
Старшие братья спросили Гришу, как он жил, и Гриша сказал, что было все – и темное, и светлое, и показал фотографии жены своей, и детей, и внука, и автобуса своего, и дома своего на холме.
Потом Гриша сначала спросил у среднего брата, как он жил, и Зиновий ответил, что у него все хорошо – и здоровье, и жена, и здоровье жены, и сын, и невестка, и квартира, и дача на Фонтане.
Гриша спросил у старшего брата, как он жил. И Моня сказал, разлив все вино по стаканам, что на жизнь его можно смотреть, как на эту бутылку. Если смотреть сбоку – бутылка, если же снизу – донышко. Но если заглянуть внутрь – там переливается и сверкает. Так отвечал младшему брату Моня и дал каждому заглянуть внутрь бутылки. Но Клара сказала:
– Моня, расскажи о Наташе и Володичке!.. Тогда Моня принес из шкафа альбом и стал открывать его с конца, листать справа налево. Сначала он показал внуков во всех возрастах, а Клара сказала с постели:
– Володичка в четыре года спросил Моню: «Дедушка, а что будет, если правительство разрешит детям зажигать спички?» – и Клара засмеялась и заплакала от любви к внуку и тоски по нему.
Моня показал дочь Гуту и родителей зятя. Открыл страницу и представил в полном составе семью Зюни – самого Зюню с женой Соней, Зюниного сына, а своего племянника Борю в штатском с женой. И Зюниного внука Леню, мальчика, комсомольца. И отдельно племянника Борю в военном (снимался для документа).
Потом показал себя вместе с Кларой и маленькой Гуточкой. Потом Клару-девушку с сестрой Хаей (обе в батистовых кофточках и больших шляпах). Потом – себя женихом с братом Зюней (оба в тройках с тросточками, на фоне беседки, пальм и морской дали– модной когда-то декорации).
И предстал перед ними на троноподобном стуле – собственность фотоателье «Захаровъ и К о» – тесть Мони Меер Гутник, кондитер и философ, в картузе и лапсердаке, с пейсами и бородой.
И смотрел на них, на своих сыновей, папа, их папа – Мони, Зюни и Гриши, силач Зейлик, поднявший на пари рельс. И смотрела на них мама – Мони, Зюни и Гриши, красавица Сойбл, вдова. Она работала у помещика управляющей на строительстве мраморного дворца со стеклянным полом и золотыми рыбками под ним.
Потом предстал дед, их дед по материнской линии, печальный дед Шейндель, – в ермолке, ученый и набожный, знавший Талмуд и умевший толковать Библию, вместе с дородной бабушкой Мариам, покорно положившей руку на его маленькое плечо.
Потом показался дед по отцовской линии, держатель извоза на станции, суровый человек Зус Штейман вместе с веселой высокобровой женой своей, бабушкой Эстер – веселыми были даже уши у нее, выставленные из-под платка наружу.
Потом подслеповато и робко смотрел на них слабый от старости и испуганный необходимостью стоять перед фотоаппаратом белобородый дед Шивка. А жил он ровно сто лет и умер в день своего рождения…
И так сидели они долго и сожалели, что искусство фотографического портрета не было изобретено при царях израильских.
ЗОЛОТЫЕ ОСЫ
Саул же Исаакович той же цветущей дорогой возвращался домой. Ему следовало поразмыслить. Следовало подготовиться к подробному разговору с Гришей. Следовало описать ему самое счастливое и самое трагическое, что было, а о чем-то следовало умолчать совсем. Безусловно, размышлял он, надо рассказать о том, как он работал в порту на судоремонте, как директорствовал в детском доме, как сколачивал комитет помощи многодетным вдовам после войны. А вот нужно ли, сомневался Саул Исаакович, знать Гришке такие подробности жизни, как история в Ясных Окнах. Решить было трудно. А полезен ли для общей репутации страны и семьи факт квартирования Мишки и факт его любви к Ревекке и факт женитьбы на Манечке? Ведь нет гарантии, что Гриша сумеет не извратить сути… И потом, все это было так давно. Но с другой стороны, размышлял Саул Исаакович, такие истории повествуют о жизни глубже, чем трудовая книжка и послужной список.
Саул Исаакович размышлял о том, что нужна для такого дипломатического приема история какая-нибудь сегодняшняя, чтобы она показала его жизнь с общественной, деятельной стороны. Тогда он подождал бы, пока все исчерпают свои «а помнишь?», он переждал бы, пока Гриша вдосталь нахвастается своей американской удачливостью, и вот тут он, будь у него в запасе соответствующая история, обратился бы ко всей честной компании:
– Хотите, мои дорогие, знать, что я делал этой ночью?
Ада сказала бы:
– Бегал к любовнице!
Ревекка сказала бы:
– Храпел, как кабан!
Зять Сережа сказал бы:
– Гнал самогонку!
Внук Шурка сказал бы:
– Фальшивые деньги!
И все вдоволь бы посмеялись. Тогда бы он, как говорится, взял трибуну в руки и поведал что-нибудь приключенческое.
Неторопливые шаги Саула Исааковича поскрипывали то по песчаной дорожке, то по галечной, то давили яично-желтый толченый ракушечник. Он готов был сочинить ночное приключение, сочинить по всем правилам– вступление, развитие и развязка, заключительный удар добра по злу.
– Хрен! Суля, я забыла купить хрен! – Так встретила его Ревекка. Она уже успела метнуться на Привоз за щукой и цыплятами, но забыла необходимейший продукт.
Привоз, словно чернильное пятно на промокательной бумаге, растекся и расплылся по ближним улицам, и заборы, его ограничивающие, не означают никаких границ. Признаки близкого базара появляются далеко от него и будоражат городского человека, как будоражат рыболова запахи близкой воды, как охотника свежий след. Разве охота – только выстрел и добыча за плечами? Разве базар – только место, где меняют деньги на продукты?
Разве не базар – переполненные трамваи, бегущие к нему со всех сторон? Разве не базар – за много кварталов от него непреклонно вылезающая из авосек молодая морковка? Разве не базар – трамвайные билеты, конфетные бумажки, золотая кожура копченой скумбрии, шелуха репчатого лука, напоминающая крылья стрекоз, лузга подсолнечных и тыквенных семечек, обжимные пробки от пивных бутылок и лимонада – широко рассыпанное конфетти вокруг всегда воскресного Привоза.
А за забором, в самом Привозе, на его законной территории человек тут же забывает, что пришел за картошкой или редиской, а бродит по рядам, как зритель, как счастливый бездельник, как гость, приглашенный на фестиваль. Привоз засасывает занятого человека, утешает обиженного не только картинностью и изобилием, но, главное, особенным друг к другу расположением, снисходительностью и ласковостью.
Здесь нет духа толкучки, отрыжки нэпа, любимой болячки на теле города. На Привозе не скажут со змеиной улыбкой:
«Обманщица?! Это я обманщица?! Чтоб тебя сегодня так машина не минула, деточка, как я обманщица!»
На Привозе, если хотят обругать тетку, заломившую цену, ахнут:
– Чтоб ты была здорова!
На Привозе пожурят с улыбкой:
– Зачем вы щекочите курицу – ей же смешно!
На Привозе горожане неловким языком, но с удовольствием говорят по-украински:
– Бабусенько, брынза солона?
– Коштуйте, будь ласка! – пропоет молочно-чистенькая бабуся.
– Тетя, а у вас цибуля добра?
– Не! Навищо вам добра?! Злюща, як свекруха!
– А откуда, женщина, хрен привезли, издалека?
– Так из Ясных Окон, может, слышали? Посадила этот хрен проклятущий и избавиться от него не могу – растет и растет, хоть плачь!
– Отчего же такая напасть?
– Так ведь корень у него больше метра, не докопаешься, вот и растет пятый год, никак не выведу, за всю зиму продать не смогла.
– И как же там живется, в Ясных Окнах?
– Хорошо живется. А вы бывали у нас?
– Был когда-то.
– Так неплохо живется, ничего.
– А семья у вас большая, детей много?
– А как же! И дети есть, и внуки. Любоваться есть на кого. Купите фасоли! Сахарная!
Саул Исаакович отобрал три поленца хрена, дал рубль, взял десять копеек сдачи. Он поместил корешки во внутренний карман пиджака, отошел, оглянулся – женщина прижала к губам руку, и приятие, и симпатию источал ее карий взгляд.
Саул Исаакович зашагал прочь, посвистывая.
Саул Исаакович! А, Саул Исаакович!.. Слышите, о чем зудят над рядами золотые осы? Ззз… зудят они. Милая женщина, однако живет в Ясных Окнах, зудят они. Очень даже славненькая женщина проживает в Ясных Окнах. Ззз… А вон брызжет на газоне искусственный дождик, зудят они, можно подставить ладони, напиться. Можно схватиться за поручень тронувшегося с места трамвая. Можно корешок неистребимого ясноокнянского хрена самому натереть на мелкой терке, чтобы Ревекке не плакать даже по такому ничтожному поводу из-за Ясных Окон… З-з-ззз!..
Через неделю после их свадьбы приехал Опружак, друг, кавалерист, орел. Он приехал поздравить и привез штоф самогона и копченую рыбу. Ревекка распорядилась: пусть они посидят и подождут, а она за десять минут сварит картошку и почистит рыбу. Через час Саул решил навестить ее на кухне. Там действовал брошенный в бессмысленном старании примус, а Ривы не было. Во дворе тоже. Она пришла, когда Саул уже начал серьезно беспокоиться, но зато в новом платье. Мужчины без новобрачной не смели выпить, а она, оказывается, на минутку забежала к портнихе.
– Что?! Вы до сих пор сидите голодные?!
Нельзя было удержаться, если она смеялась…
– Лентяи! – кричала она. – Немедленно чистить картошку! С рыбой я должна возиться?! В новом платье?!
Потом Опружак ушел, и настала ночь, и Ревекка была виноватой влюбленной, они не спали до первых молочниц…
– Саул, ты предупредил их?
Ревекка никогда не приглашала родню – только предупреждала:
– Утром предупрежу.
Лениво застывал на подоконнике янтарный холодец из петуха.
ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В доме пахло торжеством, колыхались запахи времен Миши. Блюдо фаршированной рыбы не вместилось в холодильник. Костер хрустиков с ванилью вздымался на шкафу к потолку.
Никуда не хотелось уходить от Ревеккиной мягкости, от предпраздничного волнения, от хозяйской уверенности в полном предпраздничном порядке. Но следовало все же созвать гостей.
Первым делом он явился к сестре. Пришел, расселся, как всегда, посредине комнаты – руки в карманах.
Здесь тоже празднично было до чрезвычайности. Сама одета не по-домашнему, с маникюром. Соседская девочка и рыжий котенок резвились на диване, устраивали беспорядок, и сестра поминутно поправляла за ними сбитые бархатные подушки. Пело радио. Передавали пионерские песни. В открытое окно из открытых же окон мореходного училища через улицу можно было слушать лекции по навигации и механике, потом влетело отточенное, блестящее «Здравия желаем!». По их старинной улице с кариатидами и картушами, и вензелями на фасадах вдруг пошли одна за другой тяжелые машины, груженные свежим, похоже еще горячим кирпичом. Непрерывно, с соблюдением точного графика времени они допотопно взвывали под окнами, набирая скорость после поворота. Пахло выхлопными газами и волнующей близостью большого строительства.
– Ты его видел? Он приходил к тебе? Как ты нашел его? – звонко допытывалась сестра.
– Американец! – воскликнул он и приподнял плечо, как бы показывая, что совсем не остроумно быть американцем. – Он явился чуть свет, мы только встали! – И приподнял другое плечо, как бы показывая, что на всем земном шаре только американец может явиться в дом в неурочное время. – Я удивился: кто в такую рань? Смотрю, Гришка из Америки!
Они расхохотались. Действительно, кого не потрясет – открываешь дверь, а перед тобой Гришка прямым ходом из Америки.
– Он хочет, – продолжал Саул Исаакович после того, как распрямил пальцами морщины, чтобы вытереть слезы одолевшего смеха, – он просит, чтобы я проводил его к Моне, ему одному… – опять захлебнулся смехом Саул Исаакович, – страшно!.. – наконец проговорил он.
– Его надо понять, Суля! – взрываясь новым приступом хохота вскричала Мария Исааковна. – Постарайся войти в его положение!..
Саул Исаакович перевел дыхание, опять вытер взмокшее от слез лицо и сказал, готовый с этой секунды вести разговор солидно – ему предстояло пригласить сестру на вечер, а это значило примирить ее с Ревеккой, то есть повести дело деликатно и хитро.
– Ну хорошо, хорошо, я отведу. – И против воли добавил: – «Но разве Моня, – спрашиваю, – и сейчас будет крутить тебе ухо?»
И они расхохотались так, что рыжий котенок взлетел с дивана на камин, а девочка села ровно и стала серьезной.
Они смеялись долго, умываясь и омолаживаясь в потоке накатившего смеха, свободного, как в юности, хоть немного и нервического все же, и не заметили, как смех перешел в слезы. И вот они плачут. Они смеялись не над Гришей и плакали теперь не о нем. Они плакали об улетевшей пушинке детства, когда Гриша был центром их жизни, когда по утрам пахло горячим хлебом, а папа, чтобы разбудить их, заводил музыкальный ящик. Они плакали о том времени, когда солнце не заходило, и лето было вечным, и мама притворялась бессмертной.
– И долго вы сидели у Мони? – ревниво спросила сестра.
– Кто сидел у Мони? Я сидел у Мони?! Зачем мне нужно сидеть у Мони?
– Ну да, ты бы им помешал…
– Интересно, чем я помешал бы им?!
– Все-таки… – И с грешной улыбкой пожаловалась: – А меня Гриша потащил в ресторан… Я терпеть не могу рестораны! Ты любишь ходить в рестораны?
Саул Исаакович скрипнул стулом, что означало: «Я не такой дурак, чтобы любить рестораны!»
– А у них принято. До сих пор голова трещит, как у пьяницы. Вторую ночь не могу спать!.. – не то жаловалась, не то хвасталась она. – Но я с ним поговорила, Суля. Я как следует с ним поговорила.
Саул Исаакович насторожился. Сестра смотрела в окно многоответственно и строго.
«Что видит она там – чердаки, крыши, небо или знамя бестрепетной и безжалостной правды? Неужели, – забеспокоился Саул Исаакович, – она кинула Гришу на жернова правдолюбия? Раз плюнуть допустить во время приступа прямоты политическую неаккуратность!» – не на шутку заволновался он.
– Он запомнит, будь уверен… Он тебе не говорил?
– Он мне ничего не говорил. Что же он запомнит, что ты сказала?
Мария Исааковна не торопилась с отчетом. Она села, проникающе посмотрела на брата, чтобы убедиться, действительно ли Гриша не говорил ему ничего, и опустила глаза с угрожающей скромностью.
– Был разговор.
– Что же, что же, не тяни!..
Однако она сначала поправила разбросанные девочкой и котенком подушки на диване, села и лишь после этого начала:
– Мы пришли в ресторан, слышишь? В шикарный ресторан на Пушкинской, где одни иностранцы. Швейцар, оркестр, шум, блеск и прочее!.. Нам накрыли безукоризненный ужин – то, се, третье, десятое, ну, словом… Но я отодвинула тарелку. Я сказала:
– Гриша.
Он отвечал мне:
– Что?
Я ему говорю:
– Гришенька!
Он опять мне:
– Что, Манечка? Я говорю ему:
– Гриша, я хочу тебе кое-что сказать. Он отвечает:
– Что же именно, Манечка?
– Гришенька, только не обижайся, – я говорю.
Он отвечает:
– Могу ли я обижаться на тебя, Манечка?
Тогда я сказала:
– Зачем, зачем ты уехал?!
Он удивился. Он не думал, что я посмею так спросить, Суля. Что же я, чужая? Я говорю:
– Как мог ты уехать, когда мы все, кто тебя любит, кого ты любишь, остались?
Он поразился:
– Что ты спрашиваешь, Манечка?! Как можно было не уехать, если были банды, тиф и холера?!
И знаешь, Суля, что он от меня услышал? Он тебе не говорил?
Саул Исаакович решительно заверил сестру:
– Он мне ничего не говорил!
– Я думала, он тебе скажет…
– Он не говорил.
– Хорошо, его дело… Я сказала: значит, для тебя, Гриша, холера, для тебя банды, а для нас – для меня, для Сули, для твоих родных братьев, для родителей, для всех наших – варьете «Бомонд»?
О, ему было не по себе, брат. Он молчал, он маялся, вертелся – ему было не по себе. Но ведь ты знаешь, он – в своего отца. Упрямцем был, таким и остался.
– Все же я был прав, что уехал! – сказал он из упрямства. Я и тут хорошо отпарировала:
– Каким судом, Гришенька, ты прав? Каким судом? – Хорошо сказала? Ну?
Мария Исааковна говорила быстро, почти скороговоркой, а тут еще в коридоре зазвенел дикий звонок, звонок для безнадежно глухих, особенный звонок для большой коммунальной квартиры. Мария Исааковна блеснула глазами: он! Дернулась к двери, но звонок прозвенел пять раз, то есть – к дальним соседям.
– Ты совершенно напрасно нервничаешь. Ты не сказала ничего страшного, – успокоил сестру Саул Исаакович и успокоился сам: ничего неосторожного она не сказала.
– Он не должен на меня обижаться. По-моему, не должен, – повторяла Мария Исааковна.
– Да, да, – кивал Саул Исаакович, почему-то очень жалея сестру.
– Он не должен обижаться, – еще раз повторила она и встала, и по-молодому изогнула спину, облокотившись на спинку стула.
Саул Исаакович увидел на ней тонкие чулки и лакированные туфли.
– Да, да, – кивал он, словно отряхивая что-то с кончика носа. – Да, да…
– Кто скажет ему правду? Может быть, ты? Даже собственной жене ты не можешь сказать ничего категорического!
– Слушай, странная вещь, что ты так говоришь! Просто смешно!
– В чем дело, братик?
– В том! Мы с Ривой приглашаем тебя на ужин в честь Гриши!
– Интересно. И кто такое придумал, она?
– Готовься к вечеру, сестра, и не рассуждай! – Саул Исаакович решительно поднялся.
Сестра вздохнула и покорно пожала плечами.
– Отдохни днем, чтобы хорошо выглядеть! – скомандовал Саул Исаакович. – Ты всегда была у нас ничего себе!..