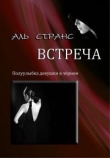Текст книги "О суббота!"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
ДВА СТАРЫХ БУЛЬДОГА
В великом волнении обдумывал старый Соломон Штейман, как с наибольшим достоинством встретить блудного брата.
В юности они все трое – и сам Моня, и Зюня, и Гриша – были на одно лицо, и никому не надо было долго объяснять, что это сыновья одного отца. Зюня до сих пор был похож на старшего брата. Шаркал также, облысел точно так же. Точно так же, как у Мони, у Зюни сначала потолстели, потом обвисли щеки, и стали братья похожи на двух старых бульдогов.
«Через месяц, если даст Бог и ничего не случится, – думал Соломон Щтейман, – здесь в этой комнате за круглым столом соберутся три старых бульдога и самому старшему надо будет сказать нечто самому младшему. Но – что? Что он, Моня, думал Моня, поняв раз и навсегда, какой из него воспитатель, собственного ребенка целиком доверил жене, и девочка выросла послушной, никуда от родителей не убегала, пока не вышла замуж? Что он, Моня, тридцать шесть лет проработал начальником снабжения крупного завода, и при нем завод не знал перебоев с материалами, а теперь на его месте сидит дама с высшим образованием, и завод имеет регулярный дефицит труб большого калибра?..»
Пришел Зюня. Моня никогда не был так подтянут, как Зюня. Тот всегда выбрит, непременно в галстуке, в превосходном пиджаке, с портфелем.
– Как поживаете?
Зюня стал выкладывать на стол из портфеля сначала букетик ландышей, затем цыпленка и, наконец, картошку, прошлогоднюю, конечно, но отличную, американку.
– Так что ты скажешь? – Моне не терпелось поговорить о Грише.
Когда Гриша удрал, Зюне было семнадцать лет, и он требовал, чтобы его командировали в Турцию на розыск и поимку младшего брата.
– Ну, Зюня, что ты скажешь по поводу новостей? – повторил старший брат.
– Скажи мне, – ответил Зюня, – в письме, которое лежит на столе, ты о чем пишешь Гуточке?
– Конечно, о новостях!
– И ты спрашиваешь у нее, как она к этим новостям относится?
– С какой стати я должен спрашивать?
– А с какой стати ты награждаешь единственную дочь дядюшкой из Америки? С какой стати ты украшаешь их анкеты – дочери, зятя, внуков – графой «родственники за границей имеются»? Кроме того, ты ведь не знаешь, чем он там занимался пятьдесят с лишним лет? Возможно, он человек с темной биографией. С какой стати?
Соломону Штейману, проработавшему много лет снабженцем на крупном заводе, великому мастеру обходных маневров, дипломатия достаточно надоела. Больше того, он заболевал тупой тоской, если кто-то начинал морочить ему мозги. От тех немногих людей, с которыми он теперь виделся, хотелось только прямых вопросов, только простых ответов.
«При чем тут Гуточка и ее анкета! – тоскливо подумал Моня. – Ведь ясно, что речь идет не о Гуточке, а о занимающем высокое положение Боре!»
И Моне захотелось на улицу, захотелось самому поехать на Привоз, самому выбрать для Клары ландыши, самому приторговать цыпленка, самому принести домой много картофеля.
– Зюня, сколько здесь картошки? Килограмма три?
– Пять!
– Тебя обвесили. Нет, ты не волнуйся, я заплачу за пять! Что ты ее разложил тут? Сложи обратно в портфель и неси на кухню – под раковиной стоит посылочный ящик. И поставь чайник на газ, если хочешь чаю.
– Ну, Моня? – Зюня помрачнел. – Это ведь не шутки!
– Ты насчет чего?
– Насчет Гриши.
– Насчет Гриши? А – что насчет Гриши? Ты что-то говорил насчет Гуточки, так Гуточке я написал.
– Моня, ты идешь на кухню? Принеси воды для ландышей, – попросила Клара.
– Иду, дорогая. Давай, Зюня, твой портфель, я высыплю наконец картошку!
– Я пойду с тобой. Ты шутишь, Моня, – сказал брат в темном коридоре, – а я шутить не имею права. Боря военный, и другой профессии у него нет. Леня уже в девятом классе, ты знаешь, какой он способный мальчик. Кто-нибудь из Штейманов был дипломатом?
– Ты думаешь, уже пора кому-нибудь быть?
– У мальчика мечта с седьмого класса! Он идет в школе на золотую медаль. И все может перевернуться. Я пришел для серьезного разговора, Моня!
– Высыпь наконец картошку, что ты с ней носишься? Вот ящик!
– Подожди, выслушай меня. Я пришел просить тебя оставить все так, как было последние пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть лет у тебя был один брат и у меня был один брат. Я не спал всю ночь, я думал, что нам делать.
– Ты думай, что тебе делать, – пробормотал Моня, припертый к газовой плите.
– Подожди! Чем Гриша занимался эти пятьдесят шесть лет, ты знаешь? И я не знаю. А если мы спросим его, ты уверен, что он обо всем скажет правду?
«То, что Зюня говорит, вполне вероятно: Гришин приезд может каким-то образом усложнить жизнь детям…» – подумал Моня, но открывшаяся вчера возможность увидеться с Гришей уже слилась со всеми его чувствами, и отказаться от встречи он не мог.
– Ну, Моня?
– Что – ну? Я не знаю, чего ты от меня хочешь!..
– Ты не знаешь! Ты не знал, что делал, когда за какую-то ерунду избил мальчика до полусмерти, ты не знал, что делать, когда он удрал, теперь ты не знаешь, что делать, когда ему взбрело в голову явиться! Но я знаю. Я пошлю телеграмму, Моня.
– Какую телеграмму?
– Международную телеграмму от твоего имени.
– Чтобы он не приезжал?
– Чтобы он подождал до будущего года. Он уехал – кого-нибудь спрашивал? Теперь он прибывает, тоже никого не спросив!
– Через год кого-нибудь из нас может уже не быть.
– Значит, такова судьба.
– Гриша решил приехать, и я не могу сказать ему: «Не делай этого!» Потому что его желание увидеть нас естественно. А то, что говоришь ты, очень серьезно, но разве я могу тебе помочь? Разве я могу пойти против того, на что надеялся всю мою жизнь? – монотонно и тихо, как самому себе, пробубнил Моня.
Но Зиновий Захарович услышал все до единого слова.
– А я так и знал!
– Я бы тоже на твоем месте защищал свое дитя телом своим от любой неприятности, Зюня.
– Я пошлю телеграмму!
– Нет, Зюня, я ведь сказал – нет, ты этого не сделаешь.
– А если я сделаю?
– Прокляну в синагоге, – устало понурился старший брат.
– О! – презрительно воскликнул Зюня и стал ходить по кухне большими шагами.
– Больше я ничего не смогу сделать, Зюня… Больше нам с Гришей нечем защититься…
«Бедный Зюня, он конечно же не спал всю ночь, у него совершенно больные глаза. Бедный Зюня, он всегда оставался средним братом, даже когда пропал Гриша, он оставался средним. Бедный Зюня, от него всегда больше требовали, чем ему давали… И что делать, он всегда был из тех людей, с которыми почему-то приятно быть жестоким. Бедный, бедный мой брат!..»
– Высыпь картошку, что ты, в самом деле, в нее вцепился? А я… Подожди, я забыл, зачем пришел… Стакан!
– Что же будем делать, старший брат?
– Ничего! Разве что припасать хорошее вино!
– Перестань прикидываться дурачком!
– Купить хорошее вино и ждать – разве глупость? Ждать и предвкушать радость великую!
И Моня открыл кран. Задрожала труба, струя вырвалась, толкнулась в старинную раковину, потом в стакан, выскочила из него сумасшедшим фонтаном, оплескала пол и стены, брызги полетели по всей кухне, оросили пространство.
– Зачем ты так сильно пустил?!
– Люблю!
И понес в мокрой руке, торопясь и шаркая, стакан с холодной водой, которую с такой шумной настойчивостью, с таким веселым рвением, с таким молодым напором вручил ему старый городской водопровод.
– Зюнька! Закрой кран и подотри вокруг раковины! – крикнул Моня из коридора. И успел принести Кларе, пока пузырьков в стакане оставалось еще много.
К Гришиному приезду, решил Моня, следует всю комнату украсить стаканами с чистой водой.
– Клара, – сказал Моня, подойдя к окну. – Клара, а ведь уже зацвел твой каштан!
Конечно он не поручил Зюне отправить письмо в Кишинев дочери. После ухода брата Моня надел куртку и вышел на улицу, чтобы собственноручно опустить письмо в почтовый ящик возле райкома, ящик, которому он доверял.
ОЖИДАНИЕ
Душа Саула Исааковича готовилась к встрече, омолаживаясь новыми желаниями. Бедовые желания рождались, очевидно, во сне. Проснувшись утром, Саул Исаакович уже страстно хотел чего-то, о чем он никогда раньше и не думал. А если думал, то без воодушевления.
Как-то, еще лежа в постели, он спросил у Ревекки:
– Тебе не надоела наша печь? Уже пять лет у нас паровое отопление, а она – стоит!
– Что?
– Что она тут стоит, как памятник?
– Мешает? – удивилась Ревекка. – Мне – безразлично…
Когда Ревекка вернулась с базара, половины печи уже не было. Саул Исаакович и печник из соседнего дома складывали на лестничной площадке штабелем старинный берлинский кафель.
В другой раз утром Саул Исаакович обнаружил себя собравшимся в гости к Моне Штейману. Пошел. И было необычайно хорошо в Монином доме. Худенькая узкорукая Клара молчала и таинственно улыбалась, посматривая на мужчин аквамариновыми глазами. В ее слабости и молчаливости было столько тонкого, женского, что Саулу Исааковичу неудобно было при ней сидеть.
Как-то, чуть открыв глаза и осознав утро, он страстно захотел, чтобы тут же наступил вечер и можно было отправиться в филармонию, побывать там наконец ночью.
На улице шелестел настойчивый душистый дождик. Люди почти не попадались. Троллейбусы проходили редко, фонари горели вполнакала. А купол сиял, как опрокинутое озеро под луной. Да, он так и думал – ночью здесь было еще возвышеннее.
– Гриша! – негромко сказал Саул Исаакович.
– Гриша-а-а! – исправно ответило разбуженное эхо.
Сдавленный женский смешок перемешался с детским всхлипыванием дождя, а молодой мужской голос весело откликнулся:
– Уже спит.
И ЕЩЕ ОЖИДАНИЕ
Прошло около месяца. От Гуточки папе и маме прибыло ответное письмо. Круглым, понятным, родным почерком дочь сообщала, что все здоровы, что дети определены в пионерский лагерь, а у нее самой наметилась путевка в закарпатский санаторий, что она вынуждена уехать в Закарпатье раньше, чем дети – в лагерь, и отправку детей придется осуществить мужу. Так что, к большому, конечно, сожалению, никто из них не сможет приехать, чтобы представиться папиному брату. Тетя Хая, естественно, свободный человек – она вправе делать все, что ей придет в голову. Но дело в том, что на комбинате как раз сейчас начинается ответственный период, и было бы жестоко, писала она, оставлять мужа одного, чтобы некому было даже чайник на плиту поставить или помидоры для него порезать. Кроме того, писала она, тетя Хая папиного брата никогда в глаза не видела. Но деликатесов для приема гостя Гуточка непременно пришлет. Так она написала.
Клара, наверное, сто раз перечитала письмо. После каждого прочтения говорила:
– Я бы тоже не отказалась от санатория! – И с застенчивостью прикрывала рот, как-будто говорила что-то не совсем приличное для дамы.
Кондитер Гутник не хотел отдавать Клару, пока не выдаст старшую дочь Хаю. Семь лет, как Иаков Рахили, дожидался Моня своей Клары. Только на седьмой год – над Соломоном уже смеялись – Гутник дал горькое согласие, отчаявшись добыть в дом второго жениха. Будь его, Соломонова, воля, он, между прочим, жалея старика и мечтая об огромной семье, взял бы за себя в конце концов обеих. Ведь Хая так и не вышла замуж, бедняжка. Моня почему-то всю жизнь, особенно после смерти тестя, чувствовал себя перед ней виноватым. Наверное, он и был виноват, иногда думал он. Недаром Хая с самого начала их родства гордо установила и жестко держала дистанцию, которая подчеркивала его перед ней виноватость. Всю жизнь с ней было непросто. Как полагается незамужней родственнице, она помогала женским трудом семье младшей сестры, исполняла тысячу разных поручений, иногда унизительных, вроде того, когда нужно было продать на толкучке поношенные вещи. Но взамен Хая не принимала ничего. И немало крови им перепортила своим гонором. Она раздражалась и долго не приходила, если Моня с Кларой позволяли себе вольность и портили день ее рождения дорогим подарком. Хая служила им, но только потому, что ей так нравилось, и не намерена была получать плату. В свой день рождения она, если хотела, сама приходила к ним с угощением. Она никогда не болела и ни от кого не зависела. Она не выносила ничего неточного и своим одиночеством тоже желала владеть абсолютно.
Да, Хая не вышла замуж, но зато!.. Сейчас она жила в Кишиневе. И вот если Моня перед Хаей в чем-то неясном и виноват, то Хая вполне определенно отомщена. Именно она вынянчила Наташу и Володичку и продолжала жить с ними, его внучатами… Такой поворот.
В открытое по-летнему окно на минуту вплыла и затихла знакомая вечерняя мелодия – телецентр заканчивал работу.
Моня погасил ночник, по потолку потекли тени улицы, над головой заныл одинокий комар, во дворе кто-то кому-то негромко свистнул.
– Моня, ты спишь?
– Нет!
– Моня, напиши завтра Гуточке, пусть скажет, что нужно Наташе и Володичке. И тогда ты напишешь своему брату. В Америке все есть.
– Не выдумывай, спи!
«Да, – думал он, – но что же все-таки сказать Грише, – думал он, – когда Гриша встанет на пороге?»
Утром пришло решение.
– Ты полагаешь, сукин сын, – скажет старший брат, – как только ты удрал в свою Турцию, я сразу же швырнул вожжи в пылающую печь? Ты так полагаешь? Но ты ошибаешься. – И снимет подтяжки и влупит ему подтяжками, как следует.
И будет то, что надо.
ЯСНЫЕ ОКНА
Саул Исаакович теперь по два и по три раза в день бывал у сестры, чтобы не пропустить Гришиной телеграммы. Как-то пасмурным утром он вышел из дома, оглядел мокрую после ночного дождя улицу в одну сторону – до Суворовских казарм и в другую сторону – до решетки у обрыва, за которой мерцало море, увидел матроса, болтающего по телефону-автомату, увидел фургон со свежим хлебом у булочной и мотороллер с прицепом, нагружаемый у пивной пустыми бутылками, увидел клочья темной тучи над улицей, и с такой решительностью направился в парк искать партнера для игры в домино, словно Гриша шел с ним и спешили они на другой конец местечка драться с тамошними.
В парке по набережной аллее, по той ее стороне, где не росли большие деревья, но зато через низкий парапет было видно все, что делалось в порту, прогуливался единственный человек в шлепанцах и халате, больной из госпиталя, крайнего в переулке дома. Саул Исаакович пошел вдоль парапета. Коробка с домино постукивала в кармане.
На итальянское судно грузили тюки столь внушительных размеров, что кран мог закладывать в сетку штуки по четыре, не больше. Размышляя о том, хлопок ли это или пенька, а возможно, и валенки на экспорт, любуясь величавыми действиями кранов, прислушиваясь к приятному, почти музыкальному клацанью металла в порту, наслаждаясь мокрыми запахами парка, Саул Исаакович дошагал до крепостной башни. Возле крепости, вернее, возле уважаемых остатков ее обнаружилось, что ходячий больной исчез. Непонятно было, куда он исхитрился деться: впереди аллея была совершенно пустынна.
Пришло в голову пожить некоторое время одиноко где-нибудь в шалаше, чтобы не было поблизости людей, но были бы звери и птицы. А он бы в своем шалаше просыпался до рассвета и слушал бы птиц. Саул Исаакович подумал и помечтал немного уже не о шалаше, а о неторопливой бесцельной ходьбе по дорогам, налегке, с узелком, помечтал о ночевках в стогу или под кустом, помечтал о воде прямо из реки. Дул ветер и было сыро нездоровой сыростью. В парке не появлялся никто. Саул Исаакович властвовал над мокрыми деревьями – они шумели сейчас для него одного, над памятью о турках, построивших некогда крепость, над влажным воздухом, наслаждался своей властью и обдумывал подробности возможного бродяжничества.
Конечно, в Ясные Окна он придет непременно. И найдет сарай, где его и покойного теперь Мишу Изотова и Галю Сероштаненко держали под замком. Была осень двадцать первого года. Они шагали от села к селу, три товарища из отдела агитации, три кожаные тужурки. Они несли с собой плакат и три выступления единого смысла и содержания: не бояться банд, поскольку все ликвидированы, сеять на новых землях, поскольку земля – крестьянам, доверять Советам.
Саул лежал на полу скорчившись, поднялся жар во всем теле, рана в паху адски болела, но сознание он больше не терял. Когда оглядывался, видел одно и то же: Галю под окном, молчаливо нянчившую отрезанную свою косу, и Мишу с разбитым лицом.
Вокруг них вчера стояли в кольцо. Было произнесено слово «шпионы», грянул тот самый удар ятаганом в пах…
Среди ночи женщина отперла сарай и прошептала в щелку: «Бричку залыште потом на станции». В Константиновке горело, в Вишневом тоже горело, там стучал пулемет.
– Это Тютюник, – сказал Миша. – Кто считает, что он всякий раз уходит в Румынию, тот в корне ошибается.
Начал моросить дождь, а туча с моря несла, по-видимому, настоящий ливень, но Саул Исаакович не уходил – так важно было для него свободное чувство, которое давал разомкнутый горизонт и одиночество. Он не забыл о ходячем больном, он понимал, что человек, сумевший провалиться под землю, сумеет и выйти из нее, но надеялся, что тот не будет торопиться. Он хотел без помех додумать и дочувствовать план путешествия до конца, зная, как недолго сползти с одной хорошей мечты на другую. Нетвердым стало его внимание к делам и решениям после ранения в Ясных Окнах.
«Найти сарай, – решил он. – Надо найти тот сарай, как находят забытую могилу. И постоять у могилы счастья с Ревеккой, у могилы ее молодой смешливости, у могилы простых отношений с друзьями, равноправия среди мужчин, покровительства над женщинами… А потом пойти по краю дороги или совсем без дороги. Идти и идти…»
«Ревекка! – горько думал Саул Исаакович. – Бедненькая уверена, что никто в мире не знает, как они жили после Ясных Окон, что можно скрыть от людей, если ходить не в общую баню, а в отдельные номера. Она говорила, что не желает, чтобы обсуждали ее ночную жизнь.
«Их ночи! – думал он. – О Господи!»
Некоторое время ночи были молчаливыми, иногда – с бледными утешениями. Потом бессонными, с плачем, с истерическими выбеганиями на кухню, с ужасными словами. А потом опять без утешений и без истерик. Они жили по-старому, спали вместе, но перенесли к себе в спальню кроватки дочерей. Вторая комната стала парадной. И в эту комнату он притащил вернувшегося в их город Мишку Изотова, холостяка. С умыслом притащил. Единственного, кто знал. С тайной мыслью притащил: «Пусть будет, что будет! Дикая моя птица, ты – свободна!»
Мишка был строг. Но через месяц Саул все увидел в их глазах и услышал в их смехе и в их молчании.
Какой был год!
Ревекка готовила в тот год вдохновенно. Миша давал в семью деньги, а Ревекка чуть не ежедневно бегала на Привоз. В кухне благоухало, стол накрывался даже в будние дни чистой скатертью. А ночью, лежа рядом с Саулом, Рива болтала о мелочах дня. Вот какой был год.
Испортил все он сам. Однажды утром, забыв нечаянно папку с отчетом, помчался обратно. Всего пять минут прошло, как он захлопнул дверь.
«Всего пять минут!» – думал он и надеялся на эти пять минут.
Он вошел, взял на столе бумаги и сразу вышел. Но тайна, хоть и была тайной только для видимости, перестала быть тайной вообще.
Миша съехал. Миша сказал:
– То было грехом, а это было бы свинством.
А Маня ничего не знала. Весь тот чудный год она ходила к ним в гости. Еще через год они поженились – Маня и Миша.
Миша любил декламировать стихи Валерия Брюсова «Мой дух не изнемог во мгле противоречий». Но они, и Миша и Ревекка, долго еще терзались, при встречах тяжело не смотрели друг на друга.
По ноздреватой стене крепости поднималась гусеница.
«Зачем? – подумал о ней Саул Исаакович. – Зачем она тащится по каменной пустыне, когда нужные ей листья совершенно в другом направлении? Роскошная! Пушистая! Прямо-таки драгоценность из музея! Несчастная, не знает, что делает! Ей кажется, что она ползет по дереву и скоро достигнет изобилия!»
Саул Исаакович подставил палец под ее движение, похожее на дыхание. Гусеница наползла, цепко облепилась. Но только Саул Исаакович перенес ее на траву, упруго развернулась и бесповоротной волной упрямо полилась к стене.
«Вполне возможно, – каялся Саул Исаакович, – ей от рождения предопределено однажды совершить бессмысленное путешествие. Очень вероятно, что сверху она уже не пешком сойдет, а слетит на шелковых крыльях. Природа!» – восхитился он затейливости и утонченности всякого земного устройства. Вот тут-то от стены крепости отслоился больной из госпиталя в байковом халате незаметного военного цвета. Он оказался узкоглазым стриженным под машинку новобранцем.
Молодые солдаты действовали на сердце Саула Исааковича определенным образом: ему нестерпимо хотелось кормить их булочками с изюмом.
Солдат подошел близко, но заговаривать не торопился.
– Не заболел бы – не увидел бы моря, – помолчав, сообщил он. – В общем, повезло!
– Это – смотря какая болезнь, – возразил Саул Исаакович.
– Плеврит, – пожаловался солдат.
– А врачи разрешают гулять по сырой погоде?
– Окно палаты не смотрит на море, – объяснил солдат.
– А родители? Мама, папа – где проживают?
– Казахи мы.
– А!.. И как же тебя зовут?
– Симбек. Симбек, Симбек, – трижды повторил солдат, привыкший, очевидно, к переспрашиванию.
– Огромная страна! Я был в Казахстане. Верблюды! Лошади! Юрты! Но что такое – ваши женщины! – говорил Саул Исаакович размеренным тоном человека, имеющего вкус к неторопливой восточной беседе. – Я не говорю – молодые, это не надо обсуждать, молодые везде замечательны, правильно? Но – старые! Старые женщины у вас прекрасны.
А гусеница тем временем доползла уже до верхнего ряда каменной кладки – Саул Исаакович не упускал ее из виду. Он вдруг загорелся желанием немедленно отправиться в Казахстан.
«Изумительный край! Юрт, – допускал он, – нет, но люди те же! Приятные люди, особой красоты лица, особой легкости фигуры!»
Он ясно вспомнил четырех старух в черных платьях и мягоньких сапожках. Они сидели возле теплой стены большой юрты и белые платки обвязывали их лбы, и так красиво свисал от виска вдоль щеки длинный угол. Все четыре были сухощавы и сидели на корточках бесподобно гибко, как девочки. Они смотрели мимо эвакуированных, только что прибывших, и разговаривали между собой. Эвакуированные ждали кого-то, и ожидание затянулось. Старухи не понимали языка и ничего не предлагали купить. Но мальчик, годовалый мальчик слез с чемодана и приковылял на кривых ножках к их стройным коленям. Тогда было принесено молоко в мисках, лепешки и масло, а денег старушки брать не захотели. Правда, вначале они удостоверились: обрезан ли мальчик. Оказался – обрезан.
– Киргиз на казаха похож?
– Киргиз?
– Ну, ты своего сразу узнаешь? Не перепутаешь с киргизом или, к примеру, с монголом?
– Я? – Симбек захохотал, даже запрокинул на спину круглую голову. – Как я спутаю?
Киргиз – какой? А монгол – какой? А казах какой!..
Что-то все-таки помнил Саул Исаакович, что-то касающееся войны и военной славы казахов, что полезно было бы знать скуластенькому, но что именно – вспомнить не мог и злился на себя. А надо было бы показать, считал он, что старый человек, живущий далеко от Казахстана, знает о казахском народе нечто такое, о чем молодой человек и понятия, может быть, не имеет.
– Уверяю тебя, – сказал Саул Исаакович, так ничего и не вспомнив, кроме юрты и старух, – сейчас будет кошмарный дождь. Мне кажется, нам пора идти.
И Саул Исаакович сделал шаг и поднялся на высокий порог арочного проема. Симбек немедленно и беспрекословно послушался, трогательно поплелся за ним, подгребая тапочками. Вдруг остановился.
– Что там?
На внешнем рейде недалеко от маяка качался перископ.
– Подводная лодка, ничего особенного, – голосом недовольной няньки заворчал Саул Исаакович. – Идем, уже капает.
Но лодка всплывала. Парень просто застыл.
– Ох, промокнем.
Лодка всплывала медленно. С еле заметной постепенностью плешь вокруг перископа вырастала в длинную покатую спину. «28». На весь порт ослепительно сверкнул ее белоснежный номер.
«Зачем она всплывала, чтобы сразу же с той же медленностью опять погрузиться в только ей доступную пучину?» – озадачился Саул Исаакович.
«Ах, Боже мой, Боже мой! О панфиловцах! О двадцати восьми героях-панфиловцах я доложен был сказать! Что за память! Что за несчастная голова! Там было много казахов, погибших за Москву!» – стучал себя по лбу Саул Исаакович, когда дома стащил насквозь промокший пиджак и включил радио: «Мой дух не изнемог в огне противоречий…» Читали стихи Брюсова.