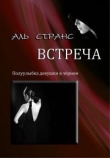Текст книги "О суббота!"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Дина Калиновская
О суббота!
Ты, моя дорогая, переживешь меня и будешь вспоминать. А как же иначе?!
Из письма
О стариках? Что можно написать о стариках? Они же почти ничего не чувствуют!..
Из разговора
C КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ
«Загадочные люди!»
После случаев холеры в городе не стало мусорных баков, но каждое утро под окном звонил колокол и следовало торопиться, чтобы опорожнить ведро.
«Загадочные люди!» – думала Мария Исааковна о мусорщиках.
Этот, таинственный, как бы даже потусторонний, в одной руке держал колокол, а другой рукой играл бумажным шариком на резинке, безусловно обретенным среди мусора. Шарик полагалось отшвыривать от себя подальше, он же с подкупающей покорностью снова впрыгивал в ладонь. Мария Исааковна загляделась.
– Как женщина! – сказал мусорщик с особенным выражением и специально для нее далеко швырнул, с хлопком поймал и великолепно улыбнулся.
Красивый, как оперный баритон, он играл, прислонившись плечом к борту машины, и приглашал побеседовать.
Мария Исааковна аккуратно вытряхнула свой мусор из ведра в лоток и в разговор вступила.
– Тот, – сказала она, – к кому привязана цепью я, – уже умер.
Мусорщик сокрушенно помотал головой: вот горе! вот плохо!
– Я тоже умерла, – добавила она. – Но об этом никто не знает.
Тогда он грохнул в колокол.
Заспешили к нему соседи с ведрами из других квартир, из флигеля во дворе, из ближнего по улице дома, а он все звонил и звонил, как на пожар.
Наконец, успокоился.
Колокол и шарик кинул в привешенный над колесом мешок для антиквариата, граблями стал заталкивать мусор из переполненного лотка в утробу машины. Выглядело это почти как в театре.
А между тем сквозь круглые дырочки почтового ящика уже сверкало оно: почту приносили в семь.
Завизжало на ходу старое ведро.
Мария Исааковна ушла в кухню, ведро тщательно ополоснула, затем опрокинула для просушки на карниз за окном, потом завернула кран потуже, потом убрала с плиты сковородку и даже подумала, не вымыть ли ее. Но, устыдившись своей трусости, своей слабости, отчаянно вздохнула и отправилась по пустому коридору к себе. Заперлась на ключ. Нашла очки.
«Ага! Значить, не забыла старого бродягу!!!» – прочла она и сразу заплакала. И не смогла читать дальше.
– Чудо!.. – восклицала она и плакала, потрясенная не меньше, чем человек, копавший грядку и раскопавший сияющий клад.
«Я зналъ, что не забудѣшь! – читала она, наплакавшись. – Как только я получилъ изве-щенiе и пришолъ в сознананiе отъ бѣзумной радости, я поручиль моѣму агѣнту купить мне туристскiй билѣтъ въ Россiю, сколько бы тотъ нi стоилъ. Я поѣду пароходомъ въ Амстердамъ, далѣе самолѣтомъ въ Москву, оттуда въ Одессу. Через одинъ месяцъ ты получишь изъ Москвы телѣграмму и встречай, милая Марусiнька! Скажи моимъ братьямъ и всѣм, кто мѣня помнитъ, что я ѣду. Сулька мѣня не забылъ?
Прѣданный тебе Гарри Стайнъ».
Письмо было от двоюродного брата Герша, как назвали его при рождении, Гриши, как представлялся он потом, Гарри, как он теперь подписывался, о котором не было известий пятьдесят с лишним лет.
«Никому ничего не скажу!.. Мое!» – твердо думала Мария Исааковна, перечитывая и перечитывая Гришино письмо. Однако как только увидела из окна шагающего к ней через улицу брата Саула, кинулась в коридор и открыла ему раньше, чем он позвонил.
Суббота, суббота! За плечами целая неделя жизни – бездельное, как младенчество, воскресенье, сытое и сонливое; резвый понедельник; буйный вторник; озабоченная, с первыми морщинками среда; озадаченный, подбивающий итоги четверг и пятница, перекинувшая мечтательный мостик в неторопливое утро субботы.
Суббота, суббота! Она кажется нескончаемой – так медленны густые капли времени, так незаметно глазу, неощутимо сердцу зреют они, наливаются полновесностью и, ничем не подталкиваемые, кроме собственной спелости, тихо отчуждаются: без стона, без всплеска падают из прозрачного сосуда дня в разверстое горло сосуда ночи, темного и золотого.
Суббота, суббота! Долгая паутина сумерек!..
ЗЕЛЕНЫЕ КОВРЫ
Сестра ждала в коридоре перед открытой дверью и тут же шепнула:
– Какие новости!
– Э!.. – недовольно буркнул Саул Исаакович, что могло означать: «Оставь! Не нужны мне никакие новости!» Не вытаскивая рук из карманов, он боком протиснулся в дверь.
Нельзя сказать, что Саул Исаакович приходил по утрам к сестре только затем, чтобы пожаловаться на жену. Это было бы несправедливо. Но пока Ревекка убирала их комнату, он удалялся, дабы не мешать ей, дабы не навлечь на себя всегда близкое ее раздражение. Это обижало. Получалось, что уборка – священное таинство, и его нельзя осквернить ничтожным присутствием мужа.
– Перестань наконец все вылизывать! – выбрасывал он флаг бессмысленного протеста, когда назревал момент ухода. Ревекка, как муху, от лица отшвыривала его слова обеими руками.
– Иди, иди, иди! Тебя не касается.
Ужасный жест. Саул Исаакович зажмуривался от оскорбления, надевал фуражку и уходил к сестре, чтобы услышать обязательный при их встречах пароль:
– Ну, как там твоя ненормальная?
Саул Исаакович сразу успокаивался от этих беспощадных слов.
Ну конечно, еще и оттого, что, оскорбленный дома, он пришел к родной сестре, а не на трамвайную остановку, куда убегал в таких случаях, пока Маня служила и по утрам ее не бывало дома.
– А!.. – слабо отмахивался он, что означало: Ревекка есть Ревекка.
Не раздеваясь, не снимая фуражки, не вытаскивая даже рук из карманов, всем своим видом показывая, что пришел только на минутку, только затем, чтобы узнать, как она тут поживает, садился на стул.
– Ну, что скажешь, братик?
– А что сказать?
Он молча сидел, пока не наступала минута, когда Ревекке нужно было вытряхнуть во дворе коврики. Вот она, знал он, унесла на кухню посуду, вот сняла с веревки стиравшиеся каждый день тряпки, вот энергичной походкой отправилась обратно в их комнату и первым делом полила амариллис, мокрой тряпочкой протерла подоконник, другой тряпкой клеенку на столе, третьей, мягонькой, приемник и сервант, вот убирает кровать по особой системе, накрывает стол скатертью, и тут уж Саул Исаакович вставал.
– Уже? – спрашивала Маня.
– Пойду, – отвечал он и делал озабоченное лицо.
– Завтра придешь? – спрашивала она, зная, что придет обязательно.
– Будет видно, – отвечал он, тоже зная, что придет обязательно.
Он торопился и без промаха возникал на своем пороге, когда Ревекка ногой выталкивала коврики в переднюю.
– А, нагулялся! – Она неприятно смеялась, словно, пока он ходил, узнала про него нечто неблаговидное. Он хватал куски бывшего шерстяного одеяла и тащил их во двор трясти.
Потом бывало так. Он больше никуда не ходил, а садился к приемнику послушать последние известия из Москвы или литературную передачу из Киева. А Рива тем временем особым составом протирала стеклышки серванта, поправляла загнувшуюся салфетку, тыкала шваброй по крашеному полу, заставляла поднимать ноги, и Саул Исаакович скрипел стулом, старался занять как можно меньше места в их небольшой комнате, по которой всегда по утрам гарцевало веселое солнце. Он просматривал сначала «Правду», затем местную газету. Он соображал, какой сегодня будет обед, и не отправиться ли вечером в парк послушать, что люди говорят о политике, или, может быть, просто на трамвайную остановку, чтобы встречать и провожать трамваи.
Так в юности они встречали и провожали поезда на станции, где вся их компания толкалась вечерами, завидуя таинственному счастью едущих.
– Ты слышишь, Суля? У меня новость! И какая! – все-таки упорствовала сестра.
– Ну?
Его не интересовали никакие новости. Даже напротив. Он даже смотрел куда-то в потолок.
– Знаешь, кто приезжает?! Никогда не угадаешь!
– Ну?
– Гриша!
– И еще кто?
Теперь он иронизировал. А между тем его губы сами растянулись к ушам, и знаменитая, почти всеми забытая улыбка, та самая улыбка, ради которой красотки местечка надевали лучшие платья, когда он приходил к ним в палисадник, эта улыбка на уже утратившем мужские решительные оттенки лице приоткрыла другое лицо, лицо человека, твердо знающего, что лучшее – впереди.
«Как редко улыбается мой брат!» – обласкала Саула Исааковича сестра мокрыми от счастливых слез глазами.
– Подожди. – Тут Саул Исаакович вынул из кармана руку и повернутой кверху ладонью начертил перед собой широкий стол, на который младшая сестра должна была выложить всю правду. – Во-первых, откуда ты взяла, что он приезжает, вот что интересно! – Он строго ткнул в невидимый стол пальцем.
– Из его письма, конечно! – Мария Исааковна осторожной рукой пошарила под подушкой и развернула конвертом сложенное письмо. – «Ага! – прочла она. – Значить, не забыла старого бродягу!!! Я зналъ, что не забудешь!» – прочла она и посмотрела, ликуя.
– Он даже не написал: «Здравствуй»? – спросил Саул Исаакович.
– Ты узнаешь его? – спросила сестра.
– На него похоже!
И они расхохотались до слез.
Зазвонил колокол. Это звонил не мусорщик, а дежурный матрос в мореходном училище возвещал начало занятий. Окна училища были все – нараспашку.
– Он поручил своему агенту! – разыскивая по всем карманам носовой платок, визгливо крикнул Саул Исаакович и, не найдя платка, крикнул тоном детства и власти: – Дай мне какую-нибудь тряпку!
– О чем ты плачешь, братик мой! – воскликнула Мария Исааковна. – Она подала ему платочек.
– Он поручил своему агенту! – сморкаясь, возмущался и радовался Саул Исаакович. – Мы думаем, что его уже черви съели, а он, оказывается, поручает что-то своему агенту!
Время трясти ковры проскочило, и незачем было торопиться домой, но Саул Исаакович уже через пять минут был дома.
«Сейчас ты будешь потрясена!» – смеялся он по пути.
– Ты помнишь Гришку Штеймана? – спросил он, представ на кухне.
Рива вылавливала косточки, луковки и морковки из кипящего бульона. Она даже сморщилась от сосредоточенности.
– И – что?
Саул Исаакович помолчал.
– Приезжает! – крикнул он, и Ревекка вздрогнула.
– Поэтому ты не мог вытрясти ковры?
– По-твоему, моя новость не заслуживает внимания?
– Не знаю, – усмехнулась Ревекка. – Кто он мне?
– Так. Хорошо. Дай на дорогу – я поеду к Асе, – заявил Саул Исаакович.
– Зачем тебе Ася?
– Дай шесть копеек и не разговаривай! – скомандовал он.
И то, что он не вышел из себя, и его голос не звякнул, как треснутая чашка, удивило его самого тоже. Рива же повернула голову в его сторону, так далеко в сторону, как только птица может повернуть, как птица, посмотрела на него, не мигая.
– Возьми под салфеткой… – проговорила она.
РАДУЙТЕСЬ!
А тем временем Мария Исааковна, пьяная от счастья и злорадства, собралась к Гришиным братьям. Братьев было двое.
«О, им не слишком понравится, что не они нашли Гришу! Сами за все годы не догадались разыскать его!» – Так думала она, идя к старшему, Моне.
И было так.
– Радуйтесь, вы знаете, кто нашелся?
– Босяк?.. – неуверенно пробормотал Моня. После смерти их отца Моня остался старшим мужчиной в доме. Для воспитания братьев он применял только одно педагогическое средство – старые вожжи. Однажды Гриша после наказания за очередную ночевку в цыганском таборе удрал не снова в табор, не к дяде Исааку, где его любили, не к раввину, у которого он учился, не к начальнику станции, который баловал его катанием на паровозах, а в Турцию. С тех пор они не виделись.
Хрупкая, голубоглазая Монина жена Клара, за целый вечер ни разу не вставшая с кресла, кокетливо наклонила голову и спросила:
– Ты не можешь, Манечка, написать ему, что Наташе двенадцать лет, а Володичке – восемь? Пусть он привезет что-нибудь американское нашим внукам!
Зюня, второй брат, внушил себе, что Гриша, вне сомнения, умер, если столько лет не давал о себе знать.
– Радуйтесь! Вы знаете, кто нашелся?
– Соня! Иди сюда! Пришла Манечка! Она еще что-то ищет и находит! А мы – мы только теряем!
– Ты что-то потерял? – спросила Соня, выйдя из кухни с приветливой милой улыбкой.
– Гриша нашелся!
Зюня поднял брови, как поднимал их, удивляясь, Гриша.
– Какой Гриша?
– Какой?! Не догадываешься? – прошипела она, не в силах простить ему схожести с братом. – Через месяц он будет здесь!
– И что он, миллионер?
– Ты сам у него спросишь.
– Ты думаешь, что открыла Америку? Или я еще до войны не имел его адреса? Прежде чем что-то предпринимать в таком вопросе, стоило посоветоваться с его родными братьями!
Соня поставила на стол чайник, села сама и, разрезая торт (у них в доме всегда имелся торт), примиряющим тоном сказала:
– Боря же… он же на очень ответственной работе…
«Сами пейте свой чай! Кушайте сами свой торт! Гриша едет ко мне и ради меня! Можете не ждать его, можете не радоваться ему, очень хорошо!» – в таком настроении шагала домой хлопнувшая дверью.
«Еще надо бы сказать Зельфонам, – размышляла она, – но это успеется», – решила она.
Зельфоны были земляки, кодымчане.
И все-таки зашла к Зельфонам.
Зельфоны сделали вид, что с трудом припоминают Гришу.
– Это какой же сын Штеймана? Рыжий? И он о нас спрашивал? Зачем мы ему? Ну, пусть будет здоров, передай ему привет.
Решение разыскать Гришу пришло к Марии Исааковне не вдруг. Пленительную эту идею она как бы вынула из тайника, из никому не известной щели, как бы взяла в сберкассе пятьдесят лет хранимое сбережение.
Осенью она подумала: не выйти ли ей на пенсию? Она была почти уверена, что, как только оставит работу, тут же умрет от безделья. Все решил заведующий отделом, старый друг, молодой еще человек.
– Ты не боишься умереть от скуки, мамуся?
– Хватит! – сказала она. – В чем дело?!
И написала заявление. Насладившись лестной для себя истерикой главного бухгалтера, она с неподписанным заявлением пошла к начальнику пароходства. Сама дала ему понять, что сознает, какой урон наносит всему каботажному и дальнему судоходству.
И вот уже ей вручили каминные часы от сотрудников бухгалтерии и холодильник от пароходства, и были сказаны слова, и были цветы и слезы.
Чтобы не умереть от безделья сразу, она у известного портного, обшивающего даже артистов оперетты, сшила два пальто. На толкучке купила французский шарф, югославский плащ, итальянскую кофту, английские туфли. Сладость грандиозных покупок, головокружение от сумасшедшей выдумки разыскать Гришу – вот он, хрустальный бокал, поднятый в ознаменование новой жизни.
ДОЧЕРИ
С шестью законными и двадцатью тайными копейками в кармане Саул Исаакович отправился из дома в том приподнятом настроении духа, которое бывает у путешественника перед отбытием в далекие страны. Из-за угла к остановке вывернулся трамвай. Саул Исаакович погрузился на площадку заднего вагона, стал перед открытой дверью, приготавливаясь с таким веселым страхом к езде через мост и на гору, как если бы собирался соскочить на полном ходу. Со звоном подкатили к мосту, со звоном промчались через него, со звоном понеслись в гору. Трамвай останавливал поперечное движение на перекрестках. Саул Исаакович не сошел по ступенькам, а спрыгнул, не перешел улицу, а перебежал, и очутился, наконец, там, где намеревался истратить заначенные деньги – напротив кинотеатра продавали мороженое.
«Гришка! – прыгало в нем. – Гри-гри-гришка!»
Шел фильм «713-й просит посадки». Речь, по всей видимости, шла о самолете, но афиша изображала женщину с лицом застенчивым и прекрасным. Таких неприкаянных глаз Саул Исаакович не помнил со времен Веры Холодной. Он уже купил мороженое и остался потому без возможности заглянуть в кино.
– У нее погиб муж в самолете? – спросил он билетершу.
Пока шел сеанс, толстуха вышла подышать свежим воздухом.
– Кто вам сказал?
В аптеке у Асиного отдела стояла очередь. Ася отпускала аптекарские товары без рецепта. Саул Исаакович всегда поражался и недоумевал – куда, как, каким таким образом здесь, в аптеке, исчезала без следа та не идущая к ней мальчишеская грубость, которую она прихватила с войны и оставила себе навсегда. Покупателям она не бухала, как отцу, по-приятельски толкая его в живот: «Выше тонус, батя!», или мужу, шлепая его по добрым губам: «Гагры, товарищ капитан, только в комплекте с супругой!»; или с сыном, выстраивая у него под носом фигу: «Женишься, диверсант, на четвертом курсе, и – точка!» Своим покупателям она советовала, что и как принимать, что чем мазать, полоскать или капать, ласково. «Чего вам?» – спрашивала вкрадчиво, как секрет. Невероятно, но в аптеке она становилась довоенной девочкой. Наслаждение было наблюдать за ней исподтишка.
Ася заметила отца только тогда, когда подошла его очередь, и вместо чека он подал ей мороженое.
– Что? – спросила она аптечным голосом.
– Погуляй со мной!
– Леночка, постой за меня минутку! – крикнула Ася в застекленную дверь и вышла в зал, слизывая на ходу потекшее по руке мороженое.
По-фронтовому, локтем, как своего парня, подпихнула его к двери, и из прохладной кафельной аптеки они вышли на горячий асфальт.
Саул Исаакович залюбовался стройностью тонких ног и детской ее манерой лизать мороженое.
– Слушай, приезжает один человек – Гриша, товарищ детства.
– Кодымчанин? – рассеянно спросила она, щурясь на солнце и наслаждаясь жарой и мороженым.
– Конечно, кодымчанин! Я ведь говорю, друг детства, двоюродный брат. И откуда, ты думаешь, он приезжает? Из Америки!
– Что он там делал? – Она взяла отца под руку и пошла с закрытыми глазами, запрокинув голову, чтобы загорало лицо.
– Ты подумай, он удрал на турецком пароходе из родного дома! И я бы удрал с ним вместе, мы обо всем уже договорились. Меня удержала твоя мама.
– Обалдеть можно! – дремотно мурлыкала она, не разлепляя глаз.
– Сколько нам было – четырнадцать, ну не больше пятнадцати. Твоя мама вцепилась в меня, как кошка!.. Я ей сказал, что скоро вернусь богачом, так, знаешь, она устроила страшный скандал! Мы уже были женихом и невестой, нас обручили. Она имела полное право…
– Вас обручили в четырнадцать лет?! – как бы проснувшись, воскликнула Ася.
– Примерно, не помню точно, может, нам было по пятнадцать. Мы с Гришкой вскапывали огороды и порядочно подзаработали на дорогу. Я, само собой разумеется, отступился от своей доли, раз так получилось… Гришка – это фигура!
– Знаю всех вас подряд, кодымские тихони!
– Что были мы рядом с ним?! А он знал, что делается в мире. Он говорил с раввином по-древнееврейски, он по-французски мог говорить с начальником станции, он дружил с целым табором цыган и песни пел, как настоящий цыган! Он перечитал всего Майна Рида, и у нас была своя лошадь. Твоя мама Гришу терпеть не могла. Гришка как-то даже опозорил ее перед всем местечком.
– О, опозорил? Это интересно.
– Она села верхом на нашего жеребенка. Все хотели на нем покататься… Доверчивая девочка! Только она залезла в седло, мерзавец Гришка хлестнул глупого жеребенка по ногам! Она проскакала по всему местечку, у нее поднялась юбка и ноги совсем голые, а была суббота, все старики сидят возле домов. Мама и сегодня не может слышать Гришкиного имени!
Они потихонечку шли наклонной улицей и незаметно дошли до конца квартала. Мороженое кончилось, надо было возвращаться.
– В общем, ты ужасно рад, что он приезжает. – Ася вытерла руки платком.
– Что значит – рад? Нам есть о чем вспомнить! – И они повернули к аптеке.
Ну вот, три мраморные ступени и алюминиевый каркас двери – аптека. Саул Исаакович подождал, пока она взбежала по ступеням, покивала ему и растворилась за прозрачной дверью.
– Лейся, лейся, чистый ручеек с битым стеклом! – знал он, скажет Ася Леночке. Это был их пароль. Это означало, что Ася благодарна за подмену.
К Аде, второй дочери, Саулу Исааковичу идти не слишком хотелось. Она работала в ателье. Из-за заказчиц Ада разыгрывала роль чужой и любезной дамы.
Ады на месте не оказалось.
Как почти во всех учреждениях города, парадный вход в филармонию не действовал. Любители музыки толклись в боковом проходе подвального этажа, а гранитная триумфальная лестница не возносила наверх никого, и дубовая дверь под самым куполом не открывалась никому.
Специально в филармонию Саул Исаакович не пошел бы, никаких дел там у него не могло быть.
А тянуло. О, какая лестница под сенью портала! Какая лестница!
Вероятно, знатоки смеялись бы, понимал он. Вероятно, осознавал он, для них этот дворец хуже оперного театра. Саула же Исааковича не интересовало ничье тонкое мнение.
Здесь не видно было зеленой таблички – указующий перст «Вход рядом», но на гранитные ступени под синий купол с золотыми знаками зодиака, под фонари-глобусы на витых столбах не ступала ничья досужая нога и без таблички. Здесь было холодновато, чисто, чуть-чуть пахло склепом. Это был покинутый храм, и хотелось узнать, что здесь бывает ночью, как. Архитектор Бернардацци из высокой ниши смотрел прямо перед собой со стариковским презрительным выражением.
Саул Исаакович приходил сюда, поднимался на несколько ступеней и погружался в удивительную тишину, волшебным образом хранимую распахнутой на шумный перекресток раковиной.
Побыть здесь – не значило чего-то ждать. Побыть здесь значило – побыть с самим собой. Случалось, какой-нибудь прохожий, чаще всего такой же старик по распространенной в городе манере свойски заговаривать на улице останавливался с законным любопытством:
– А оперный театр вы видели?
Саул Исаакович немедленно спускался вниз, ничего не отвечал, а уходил.
Подойдя к филармонии, он первым делом огляделся, нет ли поблизости общительного бездельника. Его не было. Саул Исаакович поднялся на несколько ступеней.
– Гриша! – крикнул он. Эхо здесь было отличное:
– Гриша!.. а!.. а!.. а!.. – И Саул Исаакович сел на ступеньку, расположился отдохнуть и подумать.
– А оперный театр вы смотрели?
Внизу, опираясь на палочку, улыбался ласково, как больному, кроткий старичок.