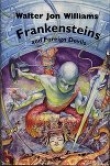Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Дэймон Найт
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Полегче – опасность таится именно в небольших скачках, напомнил себе Джонни.
[Вжик!] Они оказались во вращающихся дверях, и – [вжик!] – Джонни стоял на лестнице своего дома с меблированными комнатами, глядя на смуглого, который таращил на него глаза, пытаясь что-то сказать, и – [вжик!] – они стояли у развороченной тележки с бананами, пока у Джонни по спине бежал холодный озноб, и…
– Ладно! – выкрикнул смуглый. В голосе его прозвучала неподдельная искренность. – Я скажу тебе правду, только не надо, пожалуйста…
Сам того не желая, Джонни наклонил руку.
[Вжик!]
Они оказались на верхней площадке автобуса с Пятой авеню, остановившегося у края тротуара в ожиданий посадки. С бесконечной осторожностью Джонни опустил руку к сверкающему поручню на переднем сиденье.
– Рассказывай, – выговорил он. Смуглый сглотнул.
– Пощади, – произнес он вполголоса – Я не могу тебе сказать. Если я это сделаю, меня вышвырнут, я никогда больше не получу должность…
– Даю последнюю возможность, – процедил Джонни, глядя прямо перед собой. – Раз… Два…
– Это живучка, – сказал смуглый, протянув звук "у". В голосе у него звучало смирение и тупость…
– Что-что?
– Живучка. Вроде кино. Ты – актер.
– Это еще что? – тревожно выговорил Джонни. – Я художник. Почему это я ак…
– Ты актер, играющий художника! – воскликнул смуглый. – Вы актеры!
Бессловесные твари! Ты актер! Понимаешь? Это [живучка!]
– И о чем эта живучка? – осторожно спросил Джонни.
– Музыкальная трагедия. Про бедняков, живущих в трущобах.
– Но я живу не в трущобах, – возмущенно заметил Джонни.
– [В трущобах.] Ты сам хочешь рассказать, или я должен тебе рассказывать? Это большое драматическое представление. Ты обеспечиваешь в нем "разрядку смехом". Скоро ты [умрешь.] – Смуглый вдруг умолк, и показалось, что он хотел бы умолкнуть раньше. – Одна деталь, – затем добавил он. – Незначительная. На следующем совещании по сценарию мы ее согласуем. – Смуглый вдруг приложил ладони к вискам. – Черт, и зачем меня только высадили? – пробормотал он. – Глорм меня в порошок сотрет.
Уничтожит. Загонит меня обратно в…
– Ты серьезно? – спросил Джонни. Голос его дрожал. – Что ты сказал – я скоро умру? Как я умру? – Он нечаянно дернул рукой.
[Вжик!]
Автобус с Пятой авеню исчез. Они сидели во втором ряду кинотеатра.
Свет в зале только что загорелся; публика вытряхивалась наружу. Джонни схватил смуглого за грудки.
– Забыл, – угрюмо пробормотал смуглый – По-моему, ты откуда-то выпал. Как раз в самом конце живучки, когда герой отправляется в постель с девушкой. Хочешь знать, кто герой? Один твой знакомый Герцог…
– Откуда выпал? – спросил Джонни, усиливая хватку.
– Из какого-то здания. Прямо в мусорный бак. Полупустой.
– Значит, "разрядка смехом"? – с усилием выговорил Джонни.
– Точно. Посмешище! Ты оживишь всю живучку! Зрители животы надорвут!
Шарканье удалявшейся публики вдруг затихло. Стены и потолок тревожно замерцали; когда все успокоилось, Джонни в полном изумлении обнаружил, что они оказались уже совсем в другом помещении. Никогда раньше он здесь не бывал – и вдруг художник с колотящимся сердцем понял, что никогда раньше он здесь бывать и не мог.
По всей громадной серебристой чаше, под заоблачно-высоким потолком, люди плавали в воздухе, будто комары, – кто-то просто дрейфовал, а кто-то торопливо двигался возле округлой металлической глыбы, что висела над самым центром огромного зала. Внизу, футах в двенадцати от балкона, где они сидели, вдруг в краткой вспышке что-то стало распускаться – произошло красочное развертывание, которое длилось лишь мгновение и оставило безумное воспоминание о движущихся деревьях и зданиях. Вскоре то же самое повторилось.
Джонни заметил, что сидевший рядом с ним смуглый съежился и застыл.
Художник обернулся. Позади к ним среди зловещей неподвижности шагал серебристый мужчина.
– Glorm, – задыхаясь, выговорил смуглый, – ne estis mia kulpo.
Li…
– Fermu vian truon, – сказал Глорм. Он был строен и мускулист, а одежда его напоминала фольгу. Выпученные глаза Глорма под широкой полоской бровей обратились на Джонни. – А теперь твой отдаст мне инштрумент, – сказал он.
Джонни обрел дыхание. Он обнаружил, что кошелек у него в руке вдруг так уплотнился, будто стал частью невидимого столба; но Джонни все же изо всех сил его держал.
– Почему это я должен его отдать? – вопросил художник.
Глорм нетерпеливо махнул рукой:
– Погоди. – Он повернулся, чтобы оглядеть всю необъятную впалую чашу, и голос его вдруг раздался отовсюду, причем в сотни раз усиленный:
– Gispinu!
Снова началось то же цветение красок и движение под висящей в воздухе грудой металла, но на сей раз все раскочегарилось в полный рост и уже не свернулось.
Завороженный, художник так и уставился вниз из-за ограждения балкона. Пол чаши теперь исчез, спрятавшись под сверкающей мраморной улицей. По обеим сторонам возвышались белые здания, все с портиками и колоннами, а в дальнем конце возвышалось что-то похожее на Парфенон, но по размеру никак не уступавшее главному зданию ООН в Нью-Йорке.
Улица бурлила людьми, которые издали казались карликами. Они рассыпались по сторонам, когда по улице стремительно пролетела четырехконная колесница, а затем опять стеклись вместе. Джонни слышно было, как они злобно гудят – будто пчелиный рой. В воздухе витал странный едкий запах.
Джонни озадаченно глянул на Глорма, затем на смуглого.
– Что это? – спросил он, указывая вниз.
Глорм подтолкнул смуглого.
– Рим, – начал смуглый, трясясь, словно от озноба. – Здесь играется представление – в сорок четвертом году до нашей эры. Сейчас перед тобой сцена, в которой Юлий Цезарь сожжет весь город дотла, потому что его не сделают императором.
Едкий запах стал еще резче; снизу начала подниматься тонкая пелена серо-черного дыма…
– Но он не жег Рим, – обиженно запротестовал Джонни. – И вообще это не Рим – Парфенон расположен в Афинах.
– Так было раньше, – стуча зубами, ответил смуглый. – А мы все изменили. Последняя группа, которая делала здесь живучки, сносно играла небольшие сценки, но не тянула до цельного представления. Вот Глорм… – он бросил вороватый взгляд на серебристого мужчину и слегка возвысил голос, – понимает, что такое настоящее представление.
– Погоди-ка, погоди, – с трудом шевеля языком, пробормотал Джонни.
– Значит, вы пустились во все тяжкие, понастроили тут фальшивых декораций – с этим безумным Парфеноном и всем прочим, когда можно просто вернуться в прошлое и снять то, что было на самом деле?
– Bona! – прокричал усиленный голос Глорма. – Gi estu presata!
Сцена под ними бешено закружилась вокруг своей оси и погасла.
Глорм нетерпеливо повернулся к Джонни.
– Ну вот, – произнес он. – Ты не по-ни-май. Который ты тут видишь, и есть, как твой говоришь, "на самом деле". Мы не строй декораций… строй не декораций… не строй… Kiel oni gi diras?
– Мы не строили никаких декораций, – перевел смуглый.
– Putra lingvo! Мы не строили никаких декораций. Наш заставил во-он тех римлян все тут построить. Они тоже не строй никаких декораций – они строй Рим, другой. Твоя понимает? Никто не строй никаких декораций!
Настоящий Рим! Настоящий огонь! Настоящий трупы! Настоящий ис-то-ри-я!
Джонни уставился на него, разинув рот.
– Вы хотите сказать, что изменяете историю – только чтобы делать фильмы?
– Живучки, – поправил смуглый.
– Ну да, живучки. Вы все тут, похоже, чокнутые. А что из-за этого делается с людьми там, в будущем? Слушайте… а где мы сейчас? В каком времени?
– По вашему календарю… мм… 4400 с чем-то. Примерно в двадцати пяти столетиях от твоего времени.
– В двадцати пяти столетиях… Ну ладно, так что же происходит с вами, когда вы изменяете римлян, как вам вздумается?
– Никаких, – выразительно ответил Глорм.
– Никаких? – тупо переспросил Джонни.
– Вообще никаких. Что бывает с собакой, когда твой отрубает хвост ее матери?
Джонни немного подумал.
– Да, действительно "никаких".
– Правильно. Что, большой дело?
Джонни кивнул.
– А вот эта и правда ба-альшой дело. Но нам его делай по двадцать, по сорок раз каждый год. Твоя знай, сколько теперь людей жить на планета? – Не сделав ни малейшей паузы, Глорм сам же и ответил на свой вопрос: – Тридцать миллиард. Знай, сколько народу ходит живучка?
Половина. Пятнадцать миллиард. В семь раз больше, чем на планета в твой время. Старый, молодой. Глупый, умный. Живучка должен всех развлекать.
Не как твоя Голливуд. Там не искусство, не представление. Когда народ думай, там, глубоко… – он похлопал себя по лбу, – какой-то есть правда, тогда я делай этот правда – и этот получается и правда правда!
Это есть искусство! Вот это есть представление!
– Нью-Йорк вы по крайней мере не очень-то изменили, – заметил Джонни себе в защиту.
Выпученные глаза Глорма, казалось, вот-вот вывалятся.
– Не изменили! – Он фыркнул и повернулся. Его усиленный голос снова зазвенел в ушах: – Donu al mi frugantan kvieton de Nov-Jorko natura!
Произошло какое-то коловращение плывущих фигур вокруг висящей металлической груды. Глорм в нетерпении сжал кулаки. Довольно долгое время спустя пол чаши снова расцвел.
Джонни затаил дыхание.
Иллюзия была столь безупречной, что пол, казалось, куда-то выпал: в тысяче футов под ними, освещенный утренним солнцем, лежал остров Манхэттен; Джонни видел стоящие на якоре в заливе суда и ясные отблески Гудзона и Ист-Ривер, убегающие на север в туманы над Бронксом.
Первое, что бросилось ему в глаза, была беспорядочная шахматная доска заполнявших весь остров низеньких строений; густое скопление небоскребов в южной части и разрозненное в средней отсутствовали.
– Угадай, в который год, – послышался голос Глорма. Джонни нахмурился.
– Около 1900-го? – Нет, не может быть, тут же с тревогой подумал он. Слишком много было мостов – даже больше, чем в его время.
Глорм от души рассмеялся.
– То, что твой смотрит, есть Нов-Йорк 1956 года – до тех, как мы его изменить. Твой думай, это ваши изобресть небоскреб? О нет. Это наши их изобресть.
– Для "Рабов бродвейской зарплаты", – почтительно вставил смуглый.
– Первая живучка Глорма. Какое представление!
– Теперь ты понимать? – снисходительно спросил Глорм. – Давным-давным мне хотелось рассказать о том актеру, увидеть его морда.
Ну вот – теперь твой понял. – Его тощая физиономия сияла. – Твой есть актер; мой есть продюсер, режиссер. Продюсер, режиссер есть все. Актер есть дерьмо! Значит, твой отдаст мне инштрумент.
– Дудки, – вяло ответил Джонни.
– Отдаст, – заверил Глорм. – Твой очень скоро его отпустит.
Тут Джонни потрясенно обнаружил, что рука его заметно немеет. Так вот зачем понадобились эти объяснения! А теперь они дождались, чего хотели. Он действительно готов был отпустить кошелек – уже вот-вот.
Значит…
– Послушай! – отчаянно выговорил художник. – А как насчет людей в будущем – я имею в виду ваше будущее? Они тоже делают живучки? А если так, то разве ты для них не актер?
Физиономия Глорма вытянулась от ярости.
– Kracajp! – сказал он. – Ну погоди… – Он взглянул на устройство в руке у Джонни и сжал кулаки.
Хватка Джонни ослабла. Скоро ему придется отпустить кошелек – и что тогда? Обратно в свое время? Опять быть посмешищем, неотвратимо приближаясь к…
Рука страшно устала. Вот-вот кулак разожмется.
…И ничего тут поделать Джонни не мог. Ему предвиделась бесконечная цепочка халтурщиков, где на плечах у каждого стояли Глормы – на всем пути в неведомое будущее, которое было слишком велико, чтобы измениться. Все это, подумалось ему, не более пугало и ужасало, чем другие формы вселенской тирании, уже явленные человеческому разуму; с этим можно было бы жить, не будь его роль столь неприятной…
Кулак разжался.
Улыбаясь, Глорм протянул руку к повисшему в воздухе кошельку.
Пальцы его сделали что-то такое, за чем Джонни уследить не сумел, – и вдруг кошелек опустился прямо Глорму на ладонь.
Там он еще некоторое время трясся и мерцал, будто замедляющийся волчок. Затем внезапно разошелся на коричневую монетку и пенсне. Снова началось мерцание, в какой-то яркой кляксе последовательно появлялись авторучка, записная книжка, часы, зажигалка. Затем оба предмета стабилизировались – металлические, неживые.
Глорм сунул их куда-то в складки своего одеяния.
– Bona, – безразлично бросил он через плечо, – Resen dution al Nov-Jorkon.
Отчаяние развязало Джонни язык. Он заговорил, еще сам толком не понимая, что же, собственно, хочет сказать.
– А что, если я не останусь в Нью-Йорке?
Глорм помедлил и раздраженно повернулся к художнику:
– Kio?
– Вы вернули себе устройство, – начал Джонни, когда идея обрела очертания у него в голове. – Хорошо. Но что вы собираетесь делать, если я решу переехать в Чикаго или еще куда-нибудь? Или если меня арестуют и посадят в тюрьму? Я вот о чем. Вы можете перетасовать все вероятности, но если я хорошенько постараюсь, то могу поставить себя в такое положение, где [невозможно] будет случиться тому, чего бы вам хотелось.
– Он перевел дух. – Понимаете, о чем я говорю?
– Plejmalpuro, – сказал Глорм. Судя по выражению его лица, он понял.
– Вот что, – продолжил Джонни. – Мне надо бы уяснить всю картину.
Герцог, о котором вы говорили как о главном герое, – это тот Герцог, которого я знаю? – Он получил в подтверждение кивок от Глорма. – И когда он помогал мне убраться из города, это была часть сценария?
– Генеральная репетиция, – сказал смуглый. – Ты плюхаешься в болото во Флориде – и выбираешься оттуда по уши в дерьме и в пиявках.
Потрясающая хохма.
Джонни вздрогнул и постарался выбросить из головы пиявок и падения из высотных зданий.
– Я хочу знать вот что: в чем здесь интересы Герцога. Почему он хотел, чтобы я убрался из города?
И ему объяснили. Ответ был дьявольски прост, и Джонни даже показалось, что он знал его заранее.
Художник подождал, пока ногти выйдут у него из ладоней, а затем почувствовал, что снова может говорить разумно. Но тут он вдруг понял, что ему нечего сказать. О чем можно разговаривать с людьми, способными вытворить [такое], а потом назвать это искусством или увеселением?
Логично было предположить, что культура, чьими вкусами диктовались безжалостные представления Глорма, должна иметь именно такое понятие о "герое". И это ужасало.
Снова время поджимало. Но и ключ ко всему был уже у Джонни в руках.
Что на его месте сказал бы Герцог?
– Ладно, послушайте, – быстро начал Джонни, – мне тут, конечно, только жеваной бумагой харкать, а перед вами я бы и крышку со своего чайника снял, но вот какое дело…
Глорм со смуглым подались вперед с заинтересованными, настороженными выражениями на лицах.
– …Но вот как я все это себе представляю. Вместо того клоунского типа для вашей "разрядки смехом" мы вводим обходительный тип "гражданина мира". Такой сюжетный поворот. Вот это смог бы провернуть, гм, по-настоящему великий продюсер-режиссер. Вот это я понимаю. Возьмем, к примеру… да, покажите-ка мне, где там в сценарии говорится о…
Джонни материализовался на тихой улочке в нескольких шагах от двери своего дома. Чувствовал он только тяжесть и усталость. Солнце все еще висело высоко над крышами старых зданий; около 2.30 – через полтора часа после того, как Герцог докинул его в аэропорту.
Джонни прислонился к перилам и стал ждать. Ну конечно – вот улицу переходит Мэри Финиган; волосы ее распущены, а под глазами темные круги.
– Иди домой, Мэри, – сказал ей Джонни.
Девушка изумилась:
– А что случилось – разве его здесь нет? То есть Герцог звонил мне – сказал, что он у тебя.
– Да, и у него там топорик, – заметил Джонни. – Я правду говорю. Он собирался убить тебя в моей квартире моим же туристским топориком. На нем отпечатки моих пальцев.
Когда она ушла, Джонни завернул за угол и вошел в вестибюль. Герцог стоял там, запустив руку в почтовый ящик Джонни. Обернувшись, он выругался, а рука его машинально выдернула из ящика пухлый конверт.
– Джонни, какого черта ты тут делаешь?
– Я раздумал ехать.
Герцог прислонился к стене, ухмыляясь.
– Что ж, каждая новая встреча дает маленькое представление о воскресении. Вот так так! – Он взглянул на конверт у себя в руке, будто только что его заметил. – Так, интересно, и что же тут такое?
– Сам знаешь что, – беззлобно проговорил Джонни. – Пятьдесят баксов, которые мне должен Тед Эдварде. Именно они и навели тебя на мысль, когда Тед сказал тебе, что отправит долг по почте. Затем подкатило то дельце с Мэри, и ты, наверное, подумал, что сам Бог дает тебе такую возможность.
Глаза Герцога сузились, а взгляд его стал жестким.
– Так ты и про это знаешь? Да? И что же ты собирался тут делать? Не скажешь ли старому приятелю?
– Ничего, – ответил Джонни. – Просто отдай мне расписку, и будем считать, что все улажено.
Герцог выудил из кармана сложенный листок бумаги и отдал его
Джонни. Явно не в своей тарелке, он все заглядывал Джонни в глаза.
– Ну-ну. Порядок, да?
Джонни кивнул и направился к лестнице.
– Значит, порядок, – сказал Герцог. Он стоял, подбоченясь, и качал головой. – Да, Джонни, мальчик мой, ну ты и артист! Джонни бросил на него быстрый взгляд.
– Ты тоже, – заверил он.
НОЧЬ ОБМАНА
Пер. с англ. М.К. Кондратьев
Голые холмы мрачно нависли над городом. Был ранний вечер, и ветер вяло пробирался по обширным пустырям. Где-то во тьме застрекотал сверчок, за ним другой. По длинным извилистым улочкам стали загораться фонари, подобные тусклым колдовским огням. Они заливали декоративные фасады волшебным светом, наполняли пустые окна и пыльные безмолвные комнаты. Вывеска над лавкой раскачивалась взад-вперед, жалобно поскрипывая. По улице поплыла еле слышная музыка. Мужской смех ракетой взлетел вверх, радостный и громогласный.
На тротуар, крутя усыпанной блестками юбкой, выбежала женщина.
Стройная фигурка в золотисто-кремовых одеяниях, бледность ее лица и золото волос в точности соответствовали наряду.
– Кен! – позвала она. – Сюда, Кен!
Вдали из-под аркады появился мужчина. Худощавый и гибкий, при ходьбе он раскачивался, как боксер.
– Лорна! Мы живы, а их нет!
Ее смех так и заструился к нему:
– Конечно! Ведь это здорово!
Размашистыми шагами он подошел к ней.
– А где Мюррей? И Луиза?
– Здесь!
– Здесь!
Перед их глазами тут же возник коренастый мужчина, смеющийся и румяный, а затем и женщина в переливающемся небесно-голубом платье. Они встретились в середине длинной улицы, мужчины обменялись рукопожатиями и похлопали друг друга по плечу, а женщины обнялись.
– Мы живы, а захватчиков нет!
– Они отчалили – обратно к Арктуру!
– Забыли про нас!
– Мы живы!
В фиолетовом свете их лица сияли торжеством – блестели глаза и сверкали зубы. Женщина по имени Луиза тряхнула темными волосами, а ноги ее заплясали под музыку.
– Вот здорово… не могу стоять на месте… я должна танцевать!
Она схватила за руки Мюррея и затянула его в искрометную польку – круг за кругом под музыку, а двое других хохотали и под конец завопили в один голос:
– Ох, Мюррей… Посмотрел бы ты на себя!
– Ни разу, – выдохнул коренастый, вытирая лицо пестрым платком, – ни разу в жизни я так не плясал!
Все вдруг умолкли; музыка утонула в безмолвии, и лишь неторопливый ветер одиноко бродил по улицам.
– Вперед! – воскликнул Мюррей. – В эту ночь мы должны веселиться – у нас есть куда пойти и есть чем заняться, друзья мои!
Огонь фонтаном хлестал из шпиля церкви, алые искры разносились по ветру. Каждый залитый светом карниз извивался, точно голубой червь.
Римские свечи с шелестом поднимались над городом. В воздух взлетали ракеты – чтобы взорваться среди безмолвных звезд, падая и пропадая в небе.
– К сторожевой башне! – крикнула Лорна.
– Между прочим, и в винный погребок! – подхватил Мюррей. Смех полетел вдаль по тихому городку.
Они взобрались к лязгающему подъемнику внизу лестницы.
– Я был величайшим в мире ученым, – заявил Мюррей, глядя поверх крыш.
– А я – величайшей певицей, – сказала Лорна.
– А я – лучшим боксером.
– А я – самой дорогой шлюхой.
– И вот мы четверо… – начал Мюррей, и безмолвие окутало их.
Окружавшая весь город пустыня была мрачна и безлюдна.
– За нас! – выкрикнула Луиза, поднимая бокал.
– За нас! – И они выпили, стоя высоко над крышами, а угрюмый ветер ворошил их волосы.
– Почему именно мы, четверо? – шепотом спросила Лорна у Кена. -
Похоже…
– Мы старые друзья, – ответил он. – А кто еще? Можешь ты представить себе мир без старины Мюррея или Лу? Она коснулась его волос.
– Я всегда любила тебя. Правда.
– Знаю, что любила. Теперь знаю, Лорна. И это здорово. Я хочу сказать – теперь это и в самом деле здорово, потому что мы живы!
Слышишь? Эй, вы, звезды! А вы слышите? Мы живы!
Эхо торопливо понеслось над безмолвными крышами и замерло где-то на краю пустыни.
– Четверо из многих миллиардов, – подойдя ближе, сказал Мюррей. – Мы последние.
– Лучше об этом не говорить, – заметила Луиза.
– Но мы же видели, как корабли захватчиков плыли по небу, пылая и пылая… ряд за рядом – будто им больше ничего не оставалось, как только плыть и гореть. Больше никто не смог бы выжить.
– Ну ладно, – согласилась Луиза, глаза ее заблестели, – четверых ведь достаточно, правда?
– Дорогая… – поворачиваясь к ней, произнес Мюррей.
– Теперь давайте танцевать, а потом – петь! – закричала Лорна.
Музыка играла вовсю, а огни над башней взлетали вверх, подобно разбивающимся о скалы гребням призрачных волн.
Над пустынной землей еще громче звенел смех, а не знавшие устали тела закружились в танце. Большими глотками они пили красное вино и не пьянели; пели и даже не останавливались, чтобы глотнуть воздух. Ночь умирала, исчезая за горами; на востоке уже появился самый краешек рассвета.
Музыка прекратилась, и только далекие сверчки стрекотали во тьме.
– Я замерзла, – пожаловалась Лорна, – здесь очень холодно.
Давайте спустимся.
– Четверо из миллиардов, – бормотал Мюррей, пока они спускались с башни. – И как нас умудрились пропустить? Не могу вспомнить… почему мы здесь оказались – все четверо?
– Мы ехали… – сказал Кен.
– Да, ночью, – подтвердила Луиза. – А на горизонте появились захватчики – это я помню. Мы проехали пустыню, а потом… – Голос ее дрогнул.
– Я больше ничего не могу вспомнить, – сказала Лорна.
– Да, ничего. Лишь какой-то сон, мрак, пока мы не проснулись.
– Но мы живы – что это значит? Мы живы…
– Предположим, все умерли, – пробормотал Мюррей. – Все-все – только что вымерла целая планета.
– Не надо об этом.
– Нет, только подумай о мертвецах, лежащих повсюду тысячами и миллионами, – должны ли они видеть сны?
– Не надо об этом.
– Нет, но должны ли они видеть сны? Когда никто из живых не может вмешаться, не может подавить их – такая вот новая ситуация, кругом одни мертвецы. Тысячи и тысячи мертвецов, видящих сны в свою последнюю ночь.
Лорна передернулась:
– Кошмар.
– Ну да, – с жаром кивнул Мюррей. – Жуткое дело – и хорошо, что мы здесь, что пустыня защищает нас. Сразу столько мертвецов, беспрепятственно видящих сны! Один сон накладывается на другой, отдельные фрагменты рвут друг друга в клочья! Жуткая последняя ночь для миллиардов мертвецов.
Они молчали, представляя себе назойливые голоса – там, по ту сторону гор. "Я был величайшим… я мог бы подчинить себе… мужчины боготворили мою красоту… Я, я был властителем… нет, послушайте меня, меня!"
Все они содрогнулись. Лорна сказала:
– А почему мы идем в эту сторону?
Впереди, на городской площади, рядом со старым железным обелиском лежала перевернутая машина. Капот ее был смят, ветровое стекло выдавлено и разбито, из кабины свешивалось тело.
– Я видел ее с башни, – хмуро заметил Мюррей.
– Давайте не будем подходить ближе.
– Но мы должны, как же ты не понимаешь? Ночь почти кончилась.
По всей улице гасли пурпурные колдовские огни. На востоке все ярче разгорался рассвет.
– Кто-то из нас? – прошептал Кен.
Они потеснее сгрудились, ежась на холодной заре.
– Но кто?
Они переглянулись. Лорна заметила, что Кен как-то затуманивается, становится полупрозрачным; утренняя звезда просвечивала сквозь его грудь. Заметив пристальный взгляд Лорны, он сгорбился и яростно выговорил:
– Я реален… это я, я реален! – И он ударил себя в грудь кулаком, но не издал ни звука.
– Все вы мне снитесь, – неуверенно проговорила Лорна. – Я точно знаю. Это наверняка я… Это моя машина, я пыталась скрыться, пересекла пустыню и разбилась здесь. – Но голос ее был тонок, и утренний свет сиял сквозь нее, будто сквозь бумагу.
– Все мертвы? Мертвы? – послышался жалобный голос Мюррея. Как и остальные, он был дымно-серым. Они плыли, их несло к обелиску.
Они слились, окутав тело, распростертое на месте аварии.
– Я был величайшим в мире ученым, – произнес, пропадая, голос
Мюррея.
– Я был величайшим боксером, – тоже пропадая, отозвался Кен.
– Я была самой дорогой проституткой… – Слабый голос, затихающий на ветру.
– Я была величайшей певицей… – Шепот, прошелестевший прочь – в безмолвие.
Пропали все четверо. Осталось одно лишь распростертое тело – изящный мертвый юноша – пиджак залит кровью, тонкое лицо обращено к звездам. Последняя пропадающая мысль: ["А я: я был никем"].