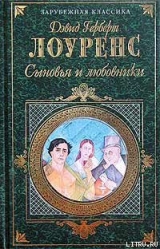
Текст книги "Сыновья и любовники"
Автор книги: Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
14. Освобождение
– Кстати, – сказал доктор Ансел однажды вечером, когда Пол Морел был в Шеффилде, – у нас в больнице в инфекционном отделении лежит человек из Ноттингема… Доус. Похоже, у него нет родных.
– Бакстер Доус! – воскликнул Пол.
– Он самый… Крепкий, видно, был парень, здоровяк. В последнее время у него были какие-то неприятности. Вы его знаете?
– Он одно время работал там же, где я сейчас.
– Вот как? Вы что-нибудь о нем знаете? Он все время мрачно настроен, не то пошел бы уже на поправку.
– О его домашних обстоятельствах знаю только, что он живет отдельно от жены и, по-моему, немного опустился. Но, может быть, вы скажете ему, что я здесь? Скажите, я его навещу.
При следующей встрече с доктором Пол спросил:
– Ну что Доус?
– Я его спросил, знает ли он человека из Ноттингема по имени Морел, – ответил доктор. – А он так на меня посмотрел, будто вот-вот вцепится мне в глотку. Тогда я сказал: «Я вижу, имя вам знакомо. Это Пол Морел». И сказал ему, что вы здесь и хотели бы его навестить. А он буркнул: «Чего ему надо?» – словно вы полицейский.
– Согласен он, чтоб я пришел? – спросил Пол.
– Ничего он не скажет… все равно, согласен он, не согласен, или ему наплевать, – ответил доктор.
– Почему?
– Я и сам хотел бы это понять. Целыми днями лежит мрачный. Слова из него не вытянешь.
– По-вашему, можно мне к нему зайти?
– Можно.
Какую-то связь ощущали между собой эти два соперника, особенно после того, как подрались. Пол отчасти чувствовал себя виноватым перед Бакстером и даже ответственным за него. И в его теперешнем душевном состоянии ощущал почти болезненную близость к Доусу, который ведь тоже страдает и отчаивается. Кроме того, их столкнула безмерная, ничем не прикрытая ненависть, а это тоже какие-никакие, но узы. Во всяком случае, в той первобытной драке встретились два пробудившихся в обоих дикаря.
С запиской от доктора Ансела Пол отправился в инфекционную больницу. Сестра милосердия, молодая крепкая ирландка, провела его в палату.
– К вам посетитель, Ворон, – сказала она.
Доус круто обернулся, испуганно буркнул:
– А?
– Кар-рр! – передразнила сестра. – Только и умеет каркать! Я привела к вам гостя. Скажите-ка «спасибо», покажите, что умеете вести себя прилично.
Темными испуганными глазами Доус быстро глянул на стоящего позади сестры Пола. Взгляд его был полон страха, недоверия, ненависти к страдания. Морел встретил взгляд этих быстрых темных глаз и замешкался. Оба страшились своей сущности, что обнажилась в драке.
– Доктор Ансел сказал мне, вы здесь, – сказал Морел и протянул руку.
Доус машинально обменялся с ним рукопожатием.
– Ну, я и решил зайти, – продолжал Пол.
Никакого ответа. Доус лежал, уставясь в стену напротив.
– Скажите «кар-рр»! – поддразнила сестра. – Скажите «кар-рр», Ворон.
– Как его дела, ничего? – спросил ее Пол.
– А как же! Лежит и воображает, будто сию минуту помрет, – сказала сестра, – вот боится словечко вымолвить.
– Зато вам охота с кем-нибудь поболтать, – засмеялся Пол.
– Вот именно! – засмеялась и она. – Тут всего-то два старика да парнишка, который бесперечь хнычет. И впрямь не везет! До смерти хочу услыхать голос Ворона, а он только и знает, что каркает.
– Плохо ваше дело! – сказал Морел.
– Ведь правда? – сказала сестра.
– Выходит, меня сам Бог послал, – смеялся Пол.
– Ну прямо спустил с небес! – засмеялась сестра.
Скоро она оставила мужчин одних. Доус похудел и опять стал красивый, но словно погас. Как сказал доктор, он пребывал в мрачности и оттого ни на шаг не продвигался к выздоровлению. Словно его бесил каждый удар его сердца.
– Худо вам пришлось? – спросил Пол.
Доус опять быстро на него глянул.
– Что в Шеффилде делаешь? – спросил он.
– У меня мать заболела, она гостит у моей сестры на Терстон-стрит. А вы что тут делаете?
Ответа не последовало.
– Давно вы в больнице? – спросил Морел.
– Сам толком не знаю, – проворчал Доус.
Он лежал, уставясь в стену напротив, будто старался уверить себя, что никакого Морела тут нет. Пол почувствовал, в нем поднимается ожесточение и злость.
– Это доктор Ансел сказал мне, что вы здесь, – сухо проговорил он.
Доус молчал.
– Брюшной тиф скверная штука, я знаю, – настойчиво продолжал Морел.
Вдруг Доус сказал:
– Зачем пожаловал?
– Потому что доктор Ансел сказал, у вас тут никого знакомых нет. Верно это?
– Нигде у меня никого нет, – сказал Доус.
– Очевидно, вы сами никого знать не хотите.
Опять молчание.
– Как только сможем, увезем мать домой, – сказал Пол.
– А чего с ней? – спросил Доус с присущим больному интересом к болезням.
– Рак у нее.
Опять молчание.
– Но мы хотим отвезти ее домой, – сказал Пол. – Придется нанимать автомобиль.
Доус лежал, задумавшись. Потом сказал:
– А попросил бы Томаса Джордана, пускай одолжит тебе свой.
– Места не хватит, – ответил Пол.
Доус подумал, поморгал.
– Тогда Джека Пилкингтона попроси, он одолжит. Ты ж его знаешь.
– Думаю, лучше нанять, – сказал Пол.
– Ну и дурак, если станешь нанимать, – сказал Доус.
Исхудав за время болезни, он опять стал красивым. Полу жаль его было, уж очень измученные у него глаза.
– Вы здесь нашли работу? – спросил он.
– Я только приехал, и сразу меня схватило, – ответил Доус.
– Вы хотите в санаторий? – спросил Пол.
Лицо Доуса опять омрачилось.
– Ни в какой такой санаторий я не поеду, – сказал он.
– Мой отец был в санатории на побережье, и ему понравилось. Доктор Ансел направил бы вас.
Доус задумался. Было ясно, он боится опять выйти в жизнь, на люди.
– У моря сейчас было бы совсем неплохо, – продолжал Морел. – Дюны нагреты солнцем, и прибой не чересчур силен.
Доус не отозвался.
– Господи, да если знаешь, что опять сможешь ходить и плавать, все остальное пустяки! – вырвалось у Пола, слишком он был несчастен, чтобы сдерживаться.
Доус быстро глянул на Пола. Его темные глаза не посмели бы встретиться ни с чьими глазами на свете. Но от неподдельного страдания и беспомощности, прозвучавших в голосе Пола, ему словно полегчало.
– У ней далеко зашло? – спросил он.
– Она тает, как свеча, – ответил Пол. – Но она не унывает… бодрая!
Он закусил губу. И через минуту поднялся.
– Ну, я пойду, – сказал он. – Вот я оставляю вам полкроны.
– Не надо, – пробормотал Доус.
Морел не ответил, просто оставил монету на столе.
– Когда опять буду в Шеффилде, постараюсь забежать, – сказал он. – Может, захотите повидать моего зятя? Он работает у Пайкрофта.
– Не знаю я его, – сказал Доус.
– Он хороший малый. Сказать ему, чтоб зашел? Он принес бы вам газеты, почитаете.
Доус не ответил. Пол ушел. Он подавил глубокое волнение, которое в нем вызвал Доус, и его бросило в дрожь.
Матери он ничего не сказал, но на другой день все рассказал Кларе. Это было в обеденный час. Последнее время они редко вместе гуляли, но в тот день Пол позвал ее в парк при замке. Они сели там, а вокруг сияли под солнцем алые герани и желтые кальцеолярии. Клара держалась настороженно и казалась обиженной.
– Ты знаешь, что Бакстер в больнице в Шеффилде и у него брюшной тиф? – спросил Пол.
Серые глаза поглядели испуганно, Клара побледнела.
– Нет, – со страхом ответила она.
– Он поправляется. Я навестил его вчера… мне сказал доктор Ансел.
Новость ошарашила Клару.
– Он очень плох? – виновато спросила она.
– Был очень плох. Сейчас ему лучше.
– Что он тебе сказал?
– Да ничего! Мрачный такой лежит.
Далеки они сейчас были друг от друга. Пол сообщил ей что знал.
Клара стала замкнутая, молчаливая. В следующий раз, когда они пошли пройтись и он взял ее под руку, она высвободилась и шла чуть поодаль. А он так нуждался в утешении.
– Ну почему ты такая неласковая? – спросил он.
Клара не ответила.
– В чем дело? – спросил Пол, обхватив рукой ее плечи.
– Не надо! – сказала она, высвобождаясь.
Пол оставил ее в покое, отдался своим грустным мыслям.
– Ты расстроилась из-за Бакстера? – спросил он наконец.
– Я с ним вела себя мерзко! – сказала она.
– А сколько раз я тебе говорил, что ты плохо с ним обошлась, – отозвался Пол.
Теперь они были враждебны друг к другу. Каждый думал о своем.
– Я с ним обходилась… да, я плохо с ним обходилась, – сказала Клара. – А теперь ты обходишься плохо со мной. Так мне и надо.
– То есть как это я плохо с тобой обхожусь? – спросил Пол.
– Так мне и надо, – повторила она. – Я никогда им не дорожила, а теперь ты не дорожишь мной. Но так мне и надо. Он любил меня в тысячу раз больше, чем ты.
– Неправда! – вскинулся Пол.
– Правда! По крайней мере, он меня хотя бы уважал, а ты – не уважаешь.
– Уважал он тебя, как же! – сказал Пол.
– Да, уважал! Это я виновата, что он стал такой отвратительный… теперь я понимаю. Понимать ты меня научил. А любил он меня в тысячу раз больше.
– Ну ладно, – сказал Пол.
Только одного он сейчас хотел, пусть его оставят в покое. Он едва справляется и со своим горем, хватит с него. Клара только мучит его, с ней только устаешь. И он распрощался с ней без сожаленья.
При первой же возможности Клара поехала в Шеффилд проведать мужа. Встреча не удалась. Но Клара оставила ему розы, фрукты и деньги. Она хотела к нему вернуться. И не, то чтобы она его любила. Когда она смотрела на него в больнице, ее сердце не согревалось любовью. Ей лишь хотелось смириться, стать перед ним на колени. Хотелось жертвовать собой. Ей ведь не удалось вызвать в Мореле подлинную любовь к себе. Ей стало страшно. Душа жаждала покаяния. И оттого она преклонила колена перед Доусом, и ему это доставило редкостное удовольствие. Но расстояние между ними было еще очень велико, слишком велико. Мужчину это пугало. Женщину скорее радовало. Ей нравилось, что она служит ему через разделяющую их пропасть. И она была теперь горда.
Пол Морел раза два навестил Доуса. Что-то вроде дружбы завязалось у них, хотя они все равно оставались яростными соперниками. Но никогда они не упоминали стоящую между ними женщину.
Миссис Морел становилось все хуже. Поначалу ее сносили вниз, изредка даже в сад. Она сидела в кресле, опираясь спиной о подушку, улыбающаяся и такая милая. На белой руке сияло золотое обручальное кольцо, волосы старательно причесаны. И она смотрела на заросли отцветающих подсолнечников, на распускающиеся хризантемы, на георгины.
Они с Полом боялись друг друга. Он понимал, что мать умирает, и она тоже это понимала. Но оба притворялись, будто сохраняют бодрость. Каждое утро, проснувшись, он в пижаме шел к ней в комнату.
– Ты спала, моя родная? – спрашивал он.
– Да, – отвечала она.
– Не очень хорошо?
– Нет, неплохо!
И сын понимал, что она не сомкнула глаз. Он видел, как под одеялом она прижимает рукой то место, где живет боль.
– Худо было? – спрашивал он.
– Нет. Побаливало, но это пустяки.
И по старой привычке презрительно фыркала. Лежа, она казалась совсем девочкой. И все время не сводила с него голубых-голубых глаз. Но под глазами темнели болезненные круги, и опять Пола пронзала боль.
– День солнечный, – говорил он.
– Прекрасный день.
– Хочешь, я тебя снесу вниз?
– Посмотрим.
И он шел готовить ей завтрак. Весь день напролет только о ней он и думал. От этой нескончаемой боли его лихорадило. Потом, возвращаясь ранним вечером домой, он заглядывал в окно кухни. Матери там не было; значит, она не вставала.
Он взбегал вверх по лестнице и целовал ее. И даже спросить было страшно:
– Ты разве не вставала, голубка?
– Нет, – отвечала мать. – Все из-за этого морфия, я от него такая усталая.
– Наверно, доктор дает тебе слишком много, – говорил Пол.
– Да, наверно, – отвечала она.
Подавленный, он садился у ее постели. По привычке она лежала на боку, свернувшись как ребенок. Каштановые и седые волосы разлохматились над ухом.
– Не щекотно тебе? – спрашивал сын, ласково отводя их в сторону.
– Щекотно, – отвечала она.
Их лица были совсем близко. Ее голубые глаза улыбались его глазам, будто девичьи – теплые, смеющиеся, полные любви и нежности. И Пол задыхался от ужаса, от тоски и любви.
– Надо заплести тебе волосы, – сказал он. – Лежи тихо.
И он стал позади нее, распустил ей волосы, зачесал их назад. Они были точно коричнево-серые длинные, тонкие шелковые нити. Голова уютно примостилась между плеч. Закусив губу, в каком-то забытьи он легко проводил по ее волосам щеткой и заплетал косу. Казалось, все происходит не наяву, не укладывалось это в его сознании.
Вечерами Пол часто работал у нее в комнате, временами поднимал глаза. И неизменно ловил на себе взгляд голубых материнских глаз. И когда их глаза встречались, она улыбалась. И машинально он опять принимался за работу, и из-под его рук выходила красота, но он не отдавал себе в этом отчета.
Случалось, он входил к ней очень бледный, тихий, глаза опасливо и настороженно блуждали, точно он упился до зеленых чертиков. Обоих страшило, что рвутся скрывающие их друг от друга покровы.
Тогда мать притворялась, будто ей лучше, оживленно болтала, с преувеличенным интересом судила и рядила о всяких чепуховых новостях. Все оттого, что оба уже пришли в то состояние, когда вынуждены всерьез заниматься пустяками, чтобы не поддаться главному, страшному, что означало бы конец самой личности каждого. Они боялись и оттого держались легкомысленно и весело.
Иной раз, когда мать лежала, Пол знал, она думает о своем прошлом. Рот ее постепенно крепко сжимался в одну неумолимую линию. Исполненная решимости умереть, так и не издав вопль, что рвался из глубины ее существа, она не давала себе поблажки. Никогда не забыть сыну эту замкнутость, выражение безмерного одиночества в ее неделями упрямо стиснутых губах. Прежде, если ей бывало легче, она говорила о муже. Теперь он ей стал ненавистен. Она его не простила. Не выносила его присутствия. Некоторые воспоминания, самые для нее горькие, с такой силой ожили в ней, что она не сдержалась и рассказала сыну.
Пол чувствовал, его внутренний мир мало-помалу разрушается. Нередко на глаза вдруг навертывались слезы. Он бежал к станции, а слезы скатывались на дорогу. Нередко он не мог продолжать работу. Перо застывало в руке. Он забывался, уставясь в одну точку. А когда приходил в себя, его мутило, руки и ноги дрожали. Он ни разу не задумывался, что же это с ним творится. Разум не пытался ни разобраться в этом, ни понять. Пол просто покорялся и закрывал на все глаза; пусть идет как идет.
Мать вела себя так же. Она думала о боли, о морфии, о завтрашнем дне; но едва ли когда-нибудь о смерти. Она знала, это приближается. Ничего тут не поделаешь. Но не станет она ни унижаться, ни мириться с этим. Как слепую, с крепко сжатыми губами и невидящим взглядом, ее толкали к дверям. Проходили дни, недели, месяцы.
Иногда, в солнечный послеполуденный час, она казалась почти счастливой.
– Я стараюсь думать о славных временах… когда мы ездили в Мейблторп, и в залив Робин Гуда, и в Шэнклин, – сказала она. – Ведь не каждому удалось побывать в этих чудесных местах. Как там чудесно! Об этом я и стараюсь думать, а не о чем другом.
А потом опять за весь вечер не вымолвит ни слова, молчит и Пол. Сидят вдвоем, непреклонные, упрямые, безмолвные. Наконец он шел в свою комнату лечь – и застывал в дверях будто парализованный, не в силах двинуться с места. Сознание выключалось. Казалось, неистовая непостижимая буря опустошает его. Он стоял покорный, не задаваясь никакими вопросами.
Наутро они опять были самими собой, хотя лицо у миссис Морел было серое от морфия, а тело, казалось ей, сожжено дотла. Но все равно и она и сын бодрились. Зачастую, особенно если дома были Артур и Энни, Пол не замечал матери. С Кларой он виделся редко. Проводил время обычно в мужской компании. Бывал при этом находчив, деятелен, оживлен; а потом вдруг бледнел, глаза на испуганном лице казались темней и лихорадочно блестели, и тогда приятели смотрели на него опасливо и недоверчиво. Иногда он шел к Кларе, но она была с ним холодна.
– Прими меня! – говорил он просто.
Изредка она соглашалась. Но ее одолевал страх. Что-то бывало тогда в их близости, отчего она отдалялась от него, что-то противоестественное. Она стала его пугаться. Он был такой тихий и, однако, такой странный. Она боялась того мужчины, который не был в эти минуты с нею, того, которого ощущала за этим мнимым возлюбленным; то был кто-то зловещий, и он вселял в нее ужас. Теперь он ужасал ее. Словно ею овладевает преступник. Он хотел ее, был с нею, а ей казалось, она попала в лапы самой смерти. И лежала в ужасе. С ней был отнюдь не возлюбленный. И она почти ненавидела его. Потом ненадолго в ней просыпалась нежность… Но жалеть его она не осмеливалась.
Доус теперь был в санатории полковника Сили неподалеку от Ноттингема. Пол навещал его там иногда, Клара очень редко. Между мужчинами завязалась своеобразная дружба. Доус поправлялся очень медленно, казалось, он очень слаб, казалось, окончательно вверился Морелу.
В начале ноября Клара напомнила Полу, что сегодня день ее рождения.
– Я чуть не забыл, – сказал он.
– По-моему, совсем забыл, – отозвалась она.
– Нет. Может, поедем на субботу-воскресенье к морю?
Поехали. Было холодно и довольно уныло. Клара ждала от него тепла и нежности, а Пол едва помнил, что она рядом. В вагоне он смотрел в окно и, когда Клара с ним заговорила, вздрогнул. Ни о чем определенном он не-думал. Просто казалось, ничто для него не существует.
Она попыталась пробиться к нему.
– Что с тобой, милый? – спросила она.
– Ничего! – сказал Пол. – Правда, эти крылья ветряных мельниц какие-то однообразные?
Он сидел и держал ее за руку. Не мог он ни разговаривать, ни думать. Однако сидеть вот так, держа ее за руку, все же утешение. Клара была недовольна и несчастна. Пол не с нею, она для него ничто.
Позже, вечером, они сидели в песчаных дюнах и смотрели на черное мрачное море.
– Она ни за что не сдастся, – спокойно сказал он.
У Клары упало сердце.
– Да, – согласилась она.
– Умирать можно по-разному. Отцовская родня пугается, и их приходится гнать из жизни на смерть, точно скот на бойню, тащить за шиворот. А материнскую родню подталкивают сзади шаг за шагом. Они упрямое племя и не хотят умирать.
– Да, верно, – сказала Клара.
– И она не хочет умирать. Не может. На днях приходил мистер Рэншо, священник. «Подумайте! – сказал он ей. – В ином мире с вами будут ваши родители, и сестры, и сын». А она говорит: «Я давно живу без них и могу без них обойтись. Мне живые нужны, не мертвые». Она даже и теперь хочет жить.
– Вот ужас! – сказала Клара, слишком испуганная, чтобы найти еще какие-то слова.
– Она смотрит на меня и хочет со мной остаться, – безо всякого выражения продолжал Пол. – Такая сильная у нее воля, и кажется, она никогда не уйдет… никогда!
– Не думай об этом! – вырвалось у Клары.
– А ведь она была верующая… она и сейчас верующая… но что толку. Она просто не хочет сдаваться. И знаешь, в четверг я сказал: «Если бы мне суждено было умереть, мама, я бы умер. Я бы тогда захотел умереть». А она резко так говорит» «А я, думаешь, не хочу? Думаешь, когда захочешь, тогда и умрешь?»
Голос ему изменил. Но он не заплакал, опять заговорил, только теперь уже совсем без выражения. Кларе хотелось убежать. Она огляделась. Увидела черный, отзывающийся на удары волн берег, и темное небо придавило ее. В ужасе она вскочила. Хотелось туда, где свет, где люди. Хотелось быть подальше от Пола. Он сидел, понурясь, застыл неподвижно.
– И я не хочу, чтоб она ела, – сказал Пол. – И она это знает. Когда я ее спрашиваю: «Тебе поесть дать?», она прямо боится сказать «да». «Я бы выпила чашечку молока с пилюлей», – говорит она. «Но ведь это только придаст тебе сил», – говорю. «Да, – чуть не кричит в ответ. – Но когда я ничего не ем, меня гложет боль. Это невыносимо». И я иду и готовлю ей какую-нибудь еду. Это ее гложет рак. Хоть бы она умерла.
– Пойдем! – грубо прервала Клара. – Я ухожу.
Он пошел за ней в песчаной тьме. Он не владел ею в тот вечер. Казалось, она для него и не существует. И Клара боялась его, и он был ей неприятен.
В том же болезненном оцепенении вернулись они в Ноттингем. Пол был постоянно занят, постоянно что-то делал либо ходил по приятелям.
В понедельник он отправился проведать Бакстера Доуса. Вялый, бледный, тот поднялся навстречу и, протянув руку, поздоровался, другою ухватился за стул.
– Напрасно вы встали, – сказал Пол.
Доус тяжело опустился на кровать, почти подозрительно уставился на Пола.
– Чего зря тратить на меня время, – сказал он. – Делать тебе, что ли, больше нечего.
– Мне хотелось прийти, – сказал Пол. – Нате-ка! Я принес вам конфет.
Больной отодвинул их.
– Суббота-воскресенье были не самые удачные, – сказал Морел.
– А мамаша как? – спросил Доус.
– Да все так же.
– Я подумал, может, ей хуже, в воскресенье-то ты не пришел.
– Я в Скегнессе был, – сказал Пол. – Хотел немного отвлечься.
Темные глаза посмотрели на него испытующе. Казалось, Доус ждет, не решается спросить, в надежде, что ему скажут.
– Я ездил с Кларой, – сказал Пол.
– Так я и знал, – спокойно отозвался Доус.
– Я ей давно обещал, – сказал Пол.
– Живите как хотите, – сказал Доус.
Это впервые между ними было открыто названо имя Клары.
– Нет, – медленно отозвался Морел, – я ей надоел.
Доус опять на него посмотрел.
– С августа чувствую, она стала от меня уставать, – повторил Морел.
Теперь обоим стало очень покойно друг с другом. Пол предложил сыграть в шашки. Играли молча.
– Когда мать умрет, я поеду за границу, – сказал Пол.
– За границу! – повторил Доус.
– Да. Мне моя работа не по душе.
Игра продолжалась. Доус выигрывал.
– В каком-то смысле мне надо будет начать сначала, – сказал Пол. – И вам, по-моему, тоже.
Он съел одну из шашек Доуса.
– Не знаю, где начинать, – сказал Доус.
– Все само образуется, – сказал Морел. – Делать ничего не надо… во всяком случае… нет, не знаю. Дайте-ка мне тянучку.
Мужчины сосали тянучки и начали вторую партию в шашки.
– Отчего у тебя шрам на губе? – спросил Доус.
Пол поспешно прикрыл губы ладонью, посмотрел в сад.
– Свалился с велосипеда, – ответил он.
Трясущейся рукой Доус передвинул шашку.
– Не надо тебе было надо мной насмехаться, – сказал он совсем тихо.
– Когда?
– Тогда ночью на Вудбороуской дороге, когда вы с ней мимо прошли… ты еще обнимал ее за плечи.
– Я вовсе над вами не смеялся, – сказал Пол.
Доус не отрывал пальцев от шашки.
– До той минуты, пока вы не прошли, я понятия не имел, что вы там, – сказал Морел.
– На этом я и завелся, – очень тихо сказал Доус.
Пол взял еще конфету.
– Вовсе я не насмехался, – сказал он. – Разве что просто смеялся.
Они кончили партию.
В тот вечер Морел возвращался из Ноттингема пешком, просто чтоб убить время. Над Булуэллом ярко-красными неровными пятнами обозначались горящие печи; черные тучи нависали, словно низкий потолок. Десять миль он шагал по шоссе, меж двух темных плоскостей – неба и земли, и ему казалось, он уходит из жизни. Но в конце пути ждала лишь комната больной. Сколько бы он ни шел, хоть вечность, все равно только туда он и придет.
Подходя к дому, он не чувствовал усталости, или не понял, что устал. Через луг он увидел в окне ее спальни пляшущий красный свет камина.
Когда она умрет, сказал он себе, этот камин погаснет.
Он тихонько снял башмаки и прокрался наверх. Дверь в комнату матери была открыта настежь, на ночь мать все еще оставалась одна. Пламя камина отбрасывало красные отблески на лестничную площадку. Неслышно, как тень. Пол заглянул в дверной проем.
– Пол! – прошептала мать.
Казалось, опять у него оборвалось сердце. Он вошел, подсел к постели.
– Как ты поздно! – прошептала она.
– Не очень, – сказал Пол.
– Что ты, который час? – голос ее прозвучал печально, беспомощно.
– Еще только начало одиннадцатого.
Он солгал, было около часу.
– Ох! – сказала мать. – Я думала, позднее.
И он понял невысказанное мученье ее нескончаемых ночей.
– Не можешь уснуть, голубка? – спросил он.
– Нет, никак, – простонала она.
– Ничего, малышка! – нежно пробормотал он. – Ничего, моя хорошая. Я полчасика побуду с тобой, голубка. Может, тебе полегчает.
И он сидел у ее постели, медленно, размеренно кончиками пальцев поглаживал ее лоб, закрытые глаза, утешал ее, в свободной руке держал ее пальцы. Им слышно было дыхание тех, кто спал в соседних комнатах.
– Теперь иди спать, – прошептала мать, успокоенная его руками, его любовью.
– Уснешь? – спросил он.
– Да, наверно.
– Тебе полегче, малышка, правда?
– Да, – ответила она, словно капризный, уже почти успокоенный ребенок.
И опять тянулись дни, недели. С Кларой Пол теперь виделся совсем редко. Но беспокойно искал помощи то у одного, то у другого и не находил. Мириам написала ему нежное письмо. Он пошел с ней повидаться. Когда она увидела его, бледного, исхудавшего, с растерянными темными глазами, ей стало бесконечно больно за него. Пронзила острая, нестерпимая жалость.
– Как она? – спросила Мириам.
– Все так же… так же! – ответил Пол. – Доктор говорит, она долго не протянет, а я знаю, протянет. Она и до Рождества доживет.
Мириам вздрогнула. Притянула его к себе, прижала к груди и целовала, целовала. Пол подчинился, но это была пытка. Не могла Мириам зацеловать его боль. Боль оставалась сама по себе, в одиночестве. Мириам целовала его лицо, и кровь в нем забурлила, но душа оставалась сама по себе, корчилась в муках надвигающейся на мать смерти. А Мириам целовала его, и ласкала, и наконец невмоготу ему стало, он оторвался от нее. Не это ему сейчас было нужно… совсем не это. А она подумала, что утешила его, помогла.
Наступил декабрь, выпал снежок. Пол теперь все время был дома. Сиделка была им не по средствам. Ухаживать за матерью приехала Энни. Здешняя сестра милосердия, которую все они любили, бывала по утрам и по вечерам. Пол делил с Энни все заботы по уходу за матерью. Часто вечерами, когда в кухне с ними сидели друзья, они все вместе начинали хохотать. То была реакция. Пол был такой смешной. Энни – такая забавная. Все смеялись до слез и при этом старались приглушить смех. А миссис Морел, одиноко лежа в темноте, слышала их, и горечь перебивалась чувством облегчения.
Потом, бывало, Пол робко, виновато поднимется к ней, хочет понять, слышала ли она.
– Дать тебе молока? – спросит он.
– Чуточку, – жалобно ответит мать.
И он подбавит в стакан воды, чтоб питье не придавало ей сил. И однако, он любил ее больше жизни.
На ночь больной давали морфий, и в сердце начинались перебои. Энни спала с ней рядом. Пол заходил ранним утром, когда сестра уже встала. Из-за морфия мать по утрам бывала изнуренная, мертвенно-бледная. От мучительной боли все сильней темнели глаза – так расширялись зрачки. Утром боль и усталость были нестерпимы… Но не могла она и не хотела плакать, и даже не очень жаловалась.
– Ты сегодня спала чуть подольше, малышка, – говорил ей сын.
– Разве? – беспокойно и устало отзывалась она.
– Да, уже почти восемь.
Он постоит, глядя в окно. Под снегом все такое унылое, бесцветное. Потом он нащупает у матери пульс. Сильный удар, за ним – слабый, точно звук и отзвук. Как известно, это предвестье конца. Мать позволяла ему считать пульс, знала, чего он хочет.
Иной раз их взгляды встречались. И тогда казалось, будто они сговорились. Словно он тоже соглашался умереть. Зато она умереть не соглашалась, не хотела. Тело ее сгорело чуть не дотла. Глаза темные, невыразимо страдальческие.
– Дайте же ей что-нибудь, чтоб положить этому конец, – сказал наконец Пол доктору.
Но доктор покачал головой.
– Ей теперь осталось недолго, мистер Морел, – сказал он.
Пол вошел в дом.
– Я больше не могу, мы все сойдем с ума, – сказала Энни.
Они сидели с Полом за завтраком.
– Пойди посиди с ней, Минни, пока мы завтракаем, – распорядилась Энни. Но девчонка боялась.
Пол пошел по снегу, через луга, через леса. На белом снегу он видел заячьи следы и птичьи. Он брел и брел, миля за милей. Медленно, болезненно, нехотя в красном мареве садилось солнце. Наверно, она умрет сегодня, думалось Полу. У опушки леса к нему по снегу подошел ослик, и ткнулся в него мордой, и пошел рядом. Пол обхватил его за шею и гладил его щеки от носа к ушам.
Мать все еще жила, безмолвная, с горько сжатым ртом, жили только полные темной муки глаза.
Близилось Рождество; больше стало снегу. И Энни и Пол чувствовали, у них больше нет сил это выносить. Темные глаза матери все жили. Морел, безгласный, испуганный, стал совсем незаметным. Зайдет иногда в комнату больной, глянет на нее. Потом, растерянный, попятится вон.
Она все цепко держалась за жизнь. Углекопы долго бастовали, и недели за две до Рождества вернулись на работу. Минни поднялась к миссис Морел с едой. Это было два дня спустя после конца забастовки.
– Минни, мужчины говорят, что у них руки болят? – спросила больная ворчливо, слабым голосом, который не желал сдаваться. Минни удивилась.
– Нет, миссис Морел, по крайности, я такого не слыхала, – ответила она.
– А вот поспорим, болят руки, – сказала умирающая, с усталым вздохом повернув голову. – Но по крайней мере на этой неделе можно будет кое-что купить.
Ничто от нее не ускользало.
– Одежду, в которой отец ходит в шахту, надо проветрить, Энни, – сказала она, когда углекопы собрались возвратиться на работу.
– Да ты не беспокойся об этом, родная, – сказала Энни.
Как-то вечером Пол и Энни сидели одни. Сестра милосердия была наверху.
– Она и Рождество переживет, – сказала Энни. Обоих охватил ужас.
– Не переживет, – угрюмо отозвался Пол. – Я дам ей морфий.
– Откуда? – спросила Энни.
– Возьму все, что мы привезли из Шеффилда, – сказал Пол.
– А-а… дай! – сказала Энни.
На другой день Пол рисовал в спальне матери. Она, казалось, уснула. Он тихонько ходил взад-вперед перед мольбертом. Вдруг прозвучал еле слышный, жалобный голос:
– Не ходи по комнате, Пол.
Он оглянулся. Глаза матери, точно темные пузырьки на лице, были устремлены на него.
– Не буду, родная, – ласково сказал он. И в сердце, казалось, оборвалась еще одна струна.
В тот вечер он взял с собой вниз все оставшиеся таблетки морфия. Тщательно растер их в порошок.
– Ты что делаешь? – спросила Энни.
– Я их всыплю в молоко, которое она пьет на ночь.
И оба засмеялись, словно двое сговорившихся нашкодить ребятишек. Среди этого ужаса замерцал проблеск здравомыслия.
В тот вечер сестра милосердия не пришла подготовить миссис Морел ко сну. Пол поднялся к матери с горячим молоком в поильнике. Было девять часов.
Пол приподнял ее на постели и вставил носик поильника между губами, которые ценой собственной жизни рад был бы уберечь от всякой боли. Мать глотнула, отодвинула носик поильника и удивленно посмотрела на сына темными глазами. Он не отвел глаз.
– До чего же горько, Пол! – чуть сморщившись, сказала она.
– Это новое снотворное, мне дал для тебя доктор, – сказал сын. – Он надеется, при этом питье тебе утром не будет так плохо.








