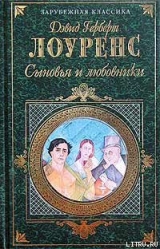
Текст книги "Сыновья и любовники"
Автор книги: Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Малыш был еще крохой, а отец стал совсем неуправляем, ненадежен. Стоило ребенку чуть провиниться, и отец накидывался на него с бранью. И чуть что давал волю своим шахтерским ручищам. В такие минуты миссис Морел начинала ненавидеть мужа, ненавидела не день и не два, и он уходил из дому и напивался, только ее это уже не трогало. Но, когда он возвращался, она безжалостно его язвила.
Из-за этой их отчужденности он иной раз, сознательно или бессознательно, грубо ее оскорблял, чего прежде не сделал бы.
Уильяму был всего год, и такой он стал хорошенький, что мать им гордилась. Жила она теперь в скудости, но ее сестры наряжали мальчика. И с густыми кудрями, в белой шапочке с развевающимся страусовым пером и в белом пальтишке он был ее утехой. Однажды воскресным утром миссис Морел лежала и прислушивалась – внизу отец болтал с малышом. Потом задремала. Когда она сошла вниз, в камине пылал огонь, было жарко, кое-как накрыт стол к завтраку, у камина в своем кресле сидел Морел, несколько смущенный, а между его колен стоял малыш, остриженный как овца – головенка такая смешная, круглая, – и озадаченно смотрел на нее, а газета, расстеленная на каминном коврике, усыпана была мириадами завитков, пламенеющих в отблесках пламени точно лепестки бархатцев.
Миссис Морел замерла. То было ее первое дитя. Она побелела, не в силах вымолвить ни слова.
– Как он тебе нравится? – с неловким смешком спросил Морел.
Она сжала кулаки, подняла и пошла на него. Морел отшатнулся.
– Убить тебя мало, убить! – сказала она. И поперхнулась от ярости, все еще с поднятыми кулаками.
– Нечего девчонку из него делать, – испуганно сказал Морел, пригнув голову, чтоб не встретиться с ней взглядом. Ему было уже не до смеха.
Мать смотрела, как он обкорнал ее малыша. Она обняла наголо обстриженную головенку и стала гладить и ласкать ее.
– Ох, мой маленький! – голос изменял ей. Губы задрожали, лицо исказилось, она обхватила мальчика, спрятала лицо у него на плече и мучительно зарыдала. Она была из тех женщин, которые не способны плакать, которым это так же нестерпимо, как мужчине. Каждое рыдание будто с трудом вырывали у нее из груди.
Морел сидел, уперев локти в колени, так стиснул руки, даже костяшки побелели. Чуть ли не оглушенный, кажется, не в силах перевести дух, он безотрывно смотрел в огонь.
Но вот рыдания стихли, мать успокоила малыша и убрала со стола. Газету, усыпанную кудряшками, она оставила на каминном коврике. Муж наконец поднял ее и сунул поглубже в огонь. Миссис Морел хозяйничала, сжав губы, молча. Морел был подавлен. С несчастным видом слонялся по дому, и каждая трапеза была для него в этот день пыткой. Жена разговаривала с ним вежливо, ни словом не помянула, что он натворил. Но он чувствовал, что-то между ними решилось окончательно.
Позже она сказала, что вела себя глупо, рано или поздно мальчика все равно надо было постричь. В конце концов даже заставила себя сказать мужу, мол, вполне можно было это сделать и тогда, когда ему вздумалось разыграть парикмахера. Но и она, и Морел знали, из-за его поступка что-то в ней круто изменилось. Случай этот она помнила до конца своих дней, – никогда еще ничто не причинило ей такой душевной боли.
Это проявление мужской грубости пробило брешь в ее любви к Морелу. Прежде, яростно сражаясь с ним, она волновалась, уж не теряет ли она его. Теперь ее не волновало больше, любит он ее, нет ли – он стал ей чужим. И жить стало легче.
Однако миссис Морел по-прежнему воевала с мужем. По-прежнему в ней силен был высоко нравственный дух добродетели, унаследованный от нескольких поколений пуритан. Теперь в ней говорила впитанная с молоком матери набожность, и в отношениях с мужем она доходила чуть ли не до фанатизма, потому что любила его, по крайней мере любила прежде. Если он грешил, она терзала его. Если лил, лгал, нередко вел себя как отъявленный трус, а случалось, и плутовал, она безжалостно его бичевала.
На беду, она слишком была с ним несхожа. Не могла она удовольствоваться тем малым, что было ему дано; он нужен был ей таким, каким по ее понятиям следовало быть. И вот, стремясь сделать его благороднее, чем он способен был быть, она губила его. Себя она ранила, бичевала до рубцов и шрамов, но все ее достоинства оставались при ней. К тому же у нее были дети.
Морел пил, и немало, хотя не больше многих других углекопов, притом только пиво, так что, хотя это и отражалось на его здоровье, особого вреда ему не причиняло. Конец недели был у него любимое время для загула. Каждую пятницу, субботу и воскресенье он весь вечер, до самого закрытия, сидел в «Гербе углекопа». В понедельник и вторник он с большой неохотой уходил из пивной не позднее десяти. В среду и четверг иногда проводил вечера дома, а если уходил, то всего на часок. Работу же из-за выпивки никогда не пропускал.
Но хотя работник он был на редкость надежный, платили ему все меньше и меньше. Он болтал лишнее, давал волю языку. Начальство было ему ненавистно, и он вовсю честил штейгеров.
– Нынче утром приходит к нам в забой десятник и говорит, – рассказывал он в пивной Палмерстона. – «Нет, говорит, Уолтер, так не годится. Это разве стойки?» А я ему, мол: «Чего зря болтать? Чем тебе стойки не поглянулись?» А он: «Так не пойдет, говорит, у тебя свод не сегодня завтра рухнет». А я ему: «Так ты стань вон на глыбу да своей головой и подопри». Ну, он взбеленился, озлел, ругается, а ребята гогочут. – У Морела явно была актерская жилка. Он отлично изображал самодовольного десятника, который пытался скрипуче выговаривать слова по всем правилам, а не на местный лад. «Я, говорит, этого не потерплю, Уолтер. Кто в деле разбирается лучше, я или ты?» А я ему: «Почем мне знать, Элфрид, много ли ты смыслишь. Только и умеешь, что в постель да из постели».
Так Морел без конца развлекал своих собутыльников. И кое-что из его рассказов было правдой. Штейгер мало в чем разбирался. Мальчишками они с Морелом росли рядом и, хоть недолюбливали друг друга, давно так или иначе друг с другом свыклись. Но вот россказней в пивной Элфрид Чарлзуорт своему сверстнику не прощал. И хоть тот был умелый углекоп и когда женился, иной раз получал добрых пять фунтов в неделю, со временем забои, в которые его ставили, оказывались все хуже и хуже, уголь в них залегал тонким слоем, вырубать его было трудно и неденежно.
К тому же летом на шахтах наступает затишье. В яркие солнечные дни мужчины часто разбредаются по домам уже в десять, одиннадцать, двенадцать часов. У устья выработки не видно пустых вагонеток. И женщины, по утрам выбивая о забор каминные коврики, смотрят с окрестных холмов вниз, считают, сколько платформ тащит по долине паровоз. А дети, возвращаясь в обед из школы, глядят на шахты, видят, что колесо на главном стволе не крутится, и говорят:
– На Минтоне пошабашили. Отец, должно, дома.
И на все лица будто тень ложится – на женские, на детские и на мужские, ведь в конце недели получка будет жалкая.
Морел обычно давал жене тридцать шиллингов в неделю на все про все: на арендную плату, еду, одежду, на взносы в общество взаимопомощи, на страховку и на докторов. Иногда, расщедрившись, давал тридцать пять. Но куда чаще, напротив, ограничивался двадцатью пятью. Зимой, если углекопу доставался хороший забой, он мог заработать пятьдесят, а то и пятьдесят пять шиллингов в неделю. Тогда он бывал рад и счастлив. Вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье давал себе волю, спускал порой и целый соверен. И из таких деньжищ едва ли уделял детям лишний пенни, фунта яблок и то им не покупал. Все шло на выпивку. В плохие времена он зарабатывал меньше, зато не так часто напивался, и миссис Морел, бывало, говорила:
– Пожалуй, даже лучше, когда денег в обрез, ведь когда он при деньгах, нет у меня ни минуты покоя.
Если он получал сорок шиллингов, он оставлял себе десять, из тридцати пяти оставлял себе пять, из тридцати двух – четыре, из двадцати восьми – три, из двадцати четырех – два, из двадцати – полтора, из восемнадцати – один шиллинг, из шестнадцати – шестипенсовик. Он никогда не отложил ни гроша, и жене тоже не давал такой возможности; больше того, ей даже иногда приходилось платить его долги; не за выпитое пиво – эти долги с женщин никогда не спрашивали, – но за канарейку, которую ему вздумалось купить, или за щегольскую трость.
Во время ярмарки Морел работал плохо, и миссис Морел выбивалась из сил, чтобы отложить на роды. Горько ей было думать, что она, измученная, сидит дома, а он меж тем развлекается и сорит деньгами. Праздничных дней было два. Во вторник Морел поднялся чуть свет. Настроение у него было отличное. Спозаранку, еще и шести не было, она услыхала, как он, насвистывая, спускается по лестнице. Насвистывал он всегда премило, весело и мелодично. И чаще всего церковные гимны. Мальчиком он пел в церковном хоре, голос у него был очень хорош, и он исполнял сольные партии в Саутуэллском соборе. Только по его утреннему свисту и можно было это представить.
Лежа в постели, жена прислушивалась, как он на скорую руку что-то мастерит в огороде, пилит, прибивает, и звенит, переливается его свист. И всякий раз, когда ранним ярким утром он вот так радовался на свой мужской лад, а дети еще спали и сама она еще лежала в постели, на душе у нее становилось тепло и покойно.
В девять, когда дети, еще босые, играли на диване, а мать умывалась, Морел, кончив плотничать, вошел в дом, рукава сорочки закатаны, жилет нараспашку. С черной волнистой шевелюрой и пышными черными усами он был еще очень недурен. Лицо, пожалуй, чересчур румяное и чуть ли не капризное. Но сейчас он был весел. И пошел прямо к раковине, где умывалась жена.
– Вот ты где! – раскатился по дому его голос. – Поди отсюда, дай мне сполоснуться.
– Можешь и подождать, пока я кончу, – сказала жена.
– Вот еще! А если не погожу?
Благодушная угроза эта позабавила миссис Морел.
– Тогда поди умойся в лохани с теплой водой.
– Чего ж, это можно, чумичка ты моя.
Говоря так, он постоял, поглядел на нее, потом отошел, чтоб дать ей домыться.
При желании он и теперь еще мог выглядеть хоть куда. Обычно, выходя из дому, он обертывал шею шарфом. А вот сейчас принялся всерьез наводить глянец. Со вкусом отдувался и полоскался, потом поспешно кинулся к зеркалу в кухне и, склонясь, – уж очень низко оно висело, – так старательно расчесал на пробор влажные черные волосы, что миссис Морел даже досада взяла. Он пристегнул отложной воротничок, надел черный галстук-бабочку и парадный костюм. Теперь он глядел щеголем, не столько оттого, что прифрантился, сколько благодаря бессознательному умению блеснуть своей внешностью.
В половине десятого за ним зашел его приятель Джерри Порди. Джерри был закадычный друг Морела, а миссис Морел его недолюбливала. Был он высокий, тощий, с лисьей физиономией, и глаза, казалось, совсем без ресниц. Он гордо выступал, осторожно неся голову, будто она держалась на ломкой деревянной пружине. По натуре он был человек холодный и расчетливый. Само великодушие, когда уж хотел быть великодушным, он, казалось, души не чаял в Мореле и на свой лад опекал его.
Миссис Морел терпеть его не могла. Она помнила его жену – та умерла от чахотки и под конец так яростно возненавидела мужа, что, если он входил к ней в комнату, у нее начинала идти кровь горлом. Но, похоже, ни то, ни другое Джерри не смущало. И теперь старшая, пятнадцатилетняя дочь хозяйничала в его нищем доме и заботилась о двух младших детях.
– Бессердечный скряга! – говорила о нем миссис Морел.
– Отродясь не видал, чтоб Джерри скряжничал, – возражал Морел. – Широкий парень, отродясь щедрей человека не видал, – вот он, по-моему, какой.
– Это он с тобой щедрый, а своим детям, бедняжкам, каждый грош жалеет, – не соглашалась миссис Морел.
– Бедняжкам! Это почему ж такое они бедняжки» интересно?
Но когда речь заходила о Джерри, миссис Морел оставалась непреклонной.
А предмет их спора был уже тут как тут – его голова на тощей шее показалась над кухонной занавеской. Он поймал взгляд миссис Морел.
– Доброго утречка, хозяйка! Сам дома?
– Да… дома.
Не дожидаясь приглашения, Джерри вошел и остановился у порога. Сесть она ему не предложила, и он так и стоял, невозмутимо утверждая права мужчин и мужей.
– Денек что надо, – сказал он миссис Морел.
– Да.
– На дворе красота… – прогуляться сейчас красота.
– Собираетесь прогуляться? – спросила миссис Морел.
– Да. Хотим прогуляться в Ноттингем, – был ответ.
– Хм!
Мужчины поздоровались, оба с явным удовольствием, однако Джерри держался свободно и уверенно, Морел же довольно скованно – в присутствии жены боялся слишком явно выказывать радость. Но резво, мигом зашнуровал башмаки. Им предстояло пройти пешком, полями десять миль до Ноттингема. Поднявшись из Низинного на холм, они весело вступили в утро. В «Луне и звездах» выпили по первому стаканчику и двинулись дальше, к «Старому местечку». Потом долгие пять миль предстояло терпеть жажду до «Бычьего источника», до желанной пинты доброго горького пива. Но по дороге они еще посидели с косарями, у которых бутыль была полна, так что, когда завиднелся город, у Морела слипались глаза. Город раскинулся перед ними, дымясь в полдневном мареве, он поднимался по холму, и шпили, громады фабричных корпусов, трубы скрывали с юга его вершину. На последнем лужке Морел улегся под дубом и крепко проспал больше часу. А когда проснулся и они двинулись дальше, почувствовал, что хмель еще не выветрился.
Они пообедали в «Луговине» у сестры Джерри, потом отправились в «Пирушку», где так и бурлили всевозможные азартные игры. Морел никогда не играл в карты, ему казалось, они обладают какой-то таинственной злой силой, – «бесовские картинки» называл он их! Но он знал толк в кеглях и в домино. И принял вызов одного ньюаркца, пожелавшего сразиться в кегли. Все, кто был в длинном зале старой пивной, тут же разделились, одни ставили на Морела, другие на его противника. Морел скинул сюртук. Джерри держал шапку с деньгами. За столами с них не спускали глаз. Кое-кто поднялся с кружкой в руках. Морел хорошенько примерился к большому деревянному шару, метнул. Кегли развалились, он выиграл полкроны и теперь оказался при деньгах.
К семи часам два приятеля порядком нагрузились. Поездом 7:30 они покатили домой.
Во второй половине дня в Низинном стало невыносимо. Все, кто был в это время в поселке, высыпали из домов. Женщины, с непокрытыми головами, в белых фартуках, собравшись по две-по три, судачили в проулках. Мужчины, отдыхая между выпивками, сидели на корточках и толковали о своем. Воздух был спертый, в сухом зное ослепительно блестели шиферные крыши.
Миссис Морел пошла с маленькой дочкой на луг, к речушке, всего в каких-нибудь двухстах ярдах от дома. Вода живо бежала по камням и черепкам. Мать и малышка облокотились о перила старого мостика для овец и смотрели, что делается вокруг. Вверх по течению, у глубокой заводи на другом конце луга, подле желтой воды мелькали голые мальчишечьи тела, изредка освещенная солнцем фигурка, блестя, стремглав проносилась над темнеющими неподвижными травами. Миссис Морел знала, Уильям тоже у заводи, и ее не отпускал страх – как бы не утонул. Энни играла у высокой живой изгороди, подбирала ольховые шишки, она их называла черной смородиной. С малышки ни на минуту нельзя было спускать глаз, да еще и мухи одолевали.
В семь миссис Морел уложила детей. И некоторое время сидела и шила.
Когда Уолтер Морел и Джерри вернулись в Бествуд, оба сразу повеселели: уже не грозила поездка по железной дороге и теперь можно было достойным образом закончить этот замечательный день. Они зашли в пивную Нелсона с чувством удовлетворения, какое испытываешь после долгих странствий.
Назавтра предстоял рабочий день, и мысль об этом омрачала настроение мужчин. К тому же у большинства уже кончились деньги. Кое-кто, покачиваясь, уныло брел домой, выспаться перед завтрашней работой. Под их заунывное пение миссис Морел вошла в дом. Вот уже девять часов, десять, а дружков все нет. Слышно было, поодаль на крылечке, какой-то гуляка громко тянет «Веди нас, путеводный свет». Миссис Морел неизменно возмущалась, что пьяным, когда расчувствуются, приходит охота петь этот гимн.
– Мог бы и «Женевьевой» обойтись, – сказала она.
Кухню наполнял запах кипящих трав и шишек хмеля. На подставке в камине в большой черной кастрюле что-то неторопливо булькало. Миссис Морел взяла большую глиняную миску, щедро насыпала в нее рафинаду и, поднатужившись, перелила туда кипящую жидкость из кастрюли.
В эту минуту вошел Морел. У Нелсона он был на зависть весел, но по дороге домой помрачнел. Он не вовсе преодолел досаду и огорчение, оттого что, напившись, заснул на лугу; и на пути к дому его стала мучить нечистая совесть. Он сам не понимал, что зол. Но едва ощутил, что садовая калитка не поддается, пнул ее ногой и сломал щеколду. Когда он вошел, миссис Морел как раз выливала из кастрюли настой трав. Качнувшись, Морел задел стол. Чаша с горячей смесью накренилась. Миссис Морел отскочила.
– Боже милостивый! – воскликнула она. – Прийти домой пьяным!
Она вдруг вышла из себя.
– Может, скажешь, ты не пьян! – в сердцах бросила она.
Она поставила кастрюлю и стала размешивать сахар в пиве. Морел тяжело опустил руки на стол, свирепо выпятил челюсть.
– Может, скажешь, ты не пьяный, – повторил он. – Ишь чего выдумала, сучка паршивая.
И он опять вздернул подбородок, свирепо глядя на жену.
– На что другое денег нету, а на выпивку нашлись.
– Я нынче, считай, сущие гроши потратил, – сказал Морел.
– На гроши так не напьешься, – возразила она. И вдруг придя в ярость, закричала: – А если тебя угощал твой любезный Джерри, так лучше б он о своих детях подумал, им деньги нужней.
– Вранье, вранье. Заткнись, баба.
Они разругались не на шутку. В пылу схватки каждый забыл про все на свете, кроме ненависти к другому. Миссис Морел разгорячилась, была взбешена не меньше мужа. И так шло, пока он не назвал ее лгуньей.
– Нет! – крикнула она, выпрямившись, у нее перехватило дыхание. – Ты не смеешь так меня называть… да такого презренного лгуна, как ты, свет не видал. – Она чуть не задохнулась, с трудом выговорила последние слова.
– Это ты лгунья! – заорал он, стуча кулаком по столу. – Ты, ты лгунья!
Она сжала кулаки, вся напряглась. И крикнула:
– Из-за тебя в доме мерзко!
– Тогда убирайся… это мой дом! Убирайся! – завопил Морел. – Это я приношу в дом деньги, не ты. Мой это дом, не твой. Убирайся вон… убирайся!
– Я бы рада, – воскликнула она, вдруг разрыдавшись от собственного бессилия. – Да если б не дети, я бы и ушла, ушла бы давным-давно, пока был еще только один ребенок. – И так же вдруг осушив слезы, яростно крикнула: – Думаешь, это я из-за тебя остаюсь… думаешь, из-за тебя я осталась бы хоть на минуту?
– Так убирайся вон! – вне себя заорал Морел. – Вон!
– Нет! – она взглянула ему прямо в лицо. – Нет, – громко сказала она. – Не бывать по-твоему, не все будет по-твоему. У меня на руках дети. Право слово, – она засмеялась, – хороша я буду, если доверю их тебе.
– Вон! – хрипло выкрикнул он, подняв кулак. Он боялся ее. – Вон!
– Я бы с радостью. Господи, да если б я могла уйти от тебя, я бы только веселилась, да, веселилась, – сказала она в ответ.
Он метнулся к ней, выпятив челюсть, лицо воспаленное, глаза налиты кровью, схватил за плечи. Она в страхе закричала, попыталась вырваться. Чуть опомнясь, тяжело дыша, он грубо пихнул ее к двери, вытолкнул за порог на улицу, рывком, с грохотом запер дверь на засов. Потом вернулся в кухню, рухнул в кресло, голова, лопаясь от прихлынувшей крови, повисла меж колен. Усталый, пьяный, он постепенно погрузился в оцепенение.
В эту августовскую ночь высоко в небе стояла великолепная луна. Под ее ярким белым светом разгоряченную гневом миссис Морел обдало холодом, страх охватил ее взволнованную душу. Несколько минут потрясенная женщина беспомощно глядела на крупные сверкающие листья ревеня подле двери. Потом тяжело перевела дух. И, дрожа всем телом, пошла по дорожке, а под сердцем шевельнулось потревоженное дитя. Она все не могла прийти в себя; машинально перебрала в уме только что разыгравшуюся сцепу, опять к ней вернулась; иные фразы, иные мгновенья каленым железом обжигали душу; и всякий раз, как она снопа представляла себе этот последний час, каленым железом било по тому же месту, навек выжигая клеймо, к наконец боль выгорела дотла и миссис Морел опомнилась. Должно быть, прошло с полчаса. Теперь она вновь осознала, что ее окружает ночь. В страхе огляделась по сторонам. Оказалось, она забрела в сад за домом и бродит взад и вперед по дорожке мимо кустов черной смородины, растущих вдоль длинной ограды. Сад был узкой полоской земли, и колючая живая изгородь отделяла его от пересекающей улицу дороги.
Миссис Морел торопливо прошла в палисадник, что был теперь словно огромный залив белого света, прямо в лицо ей с высоты светила луна, лунный свет низвергался с высящихся перед нею холмов, заливал долину, в которой примостился поселок Низинный, и едва ее не ослепил. Тяжело дыша и всхлипывая после перенесенного напряжения, она вновь и вновь бормотала про себя:
– Надоело! Надоело!
Что-то она ощутила рядом. С трудом встряхнулась и посмотрела, что же это коснулось ее сознания. В лунном свете покачивались высокие белые лилии, и воздух полон был их ароматом, будто чьим-то присутствием. Миссис Морел судорожно вздохнула. Потрогала лепестки больших бледных цветов и вздрогнула. Казалось, они вытягиваются в лунном свете. Она осторожно сунула руку в белую чашечку и в лунном свете едва разглядела на пальцах золотой след. Она наклонилась, хотела рассмотреть желтую пыльцу, но все было смутно. Тогда она глубоко вдохнула аромат. И ей чуть не сделалось дурно.
Миссис Морел оперлась о садовую калитку и, глядя на улицу, глубоко задумалась. Она не знала, о чем думает. Чувствовала лишь, что ее подташнивает, и помнила про свое дитя, и, подобно аромату лилии, сама растворялась в сверкающем бледном воздухе. Немного погодя и дитя вместе с ней растворилось в этой чаше лунного света, и она покоилась там заодно с холмами, и лилиями, и домами, и они плыли все вместе будто в забытьи.
Очнувшись, она почувствовала, что устала и хочет спать. Вяло огляделась; купы белых флоксов походили на кусты, покрытые беленым холстом; ночной мотылек ударился о них и отлетел в другой конец садика. Следя за ним взглядом, миссис Морел стряхнула с себя сон. Струи влажного, острого аромата флоксов взбодрили ее. Она прошла по дорожке, помедлила у куста белых роз. Они пахли нежно и бесхитростно. Она потрогала белые сборки цветов. Свежий запах и мягкая прохлада листьев напомнили о раннем утре, о солнечном свете. Она так их любила. Но сейчас она устала и хотелось спать. В этом таинственном мире вне стен дома она чувствовала себя потерянной.
Не слышно было ни звука. Видно, детей ссора не разбудила, или они успели снова уснуть. С грохотом пересек долину поезд в трех милях отсюда. Ночь такая огромная, незнакомая, и нет ей, извечной, ни конца, ни края. Из серебристо-серой сумрачной мглы доносятся слабые, хриплые звуки: неподалеку скрип коростеля, шум поезда, будто вздох, в отдалении возгласы мужчин.
Унявшееся было сердце опять забилось чаще, миссис Морел торопливо пошла по дорожке к черному ходу. Тихонько подняла щеколду, оказалось, дверь еще на засове, заперта, чтоб она не могла войти. Она негромко постучала, подождала, опять постучала. Как бы не разбудить детей или соседей. Он, должно быть, спит и проснется не вдруг. Огнем жгло – скорей бы попасть в дом. Она уцепилась за ручку двери. Как холодно стало, можно ведь простыть, и это в ее теперешнем-то положении!
Она покрыла голову и плечи фартуком и опять торопливо пошла в сад, к окну кухни. Облокотясь на подоконник, она только и сумела увидать из-под шторы раскинутые на столе руки мужа и между ними черную голову. Он спал, уткнувшись лицом в стол. Что-то в его позе заставило жену ощутить, как она от всего устала. Свет в кухне медно-красный, значит, лампа коптит. Миссис Морел забарабанила в окно, громче, громче. Того и гляди разобьется стекло. А муж не просыпался.
После этих напрасных попыток миссис Морел бросило в дрожь – слишком был холоден камень, да и усталость навалилась. В вечном страхе из-за еще не рожденного ребенка она гадала, как бы согреться. Прошла к сараю, там лежал старый половик, позавчера она снесла его туда, чтоб отдать старьевщику. Она накинула половик на плечи. Был он теплый, хотя и перепачканный. И она стала ходить взад-вперед по садовой дорожке, время от времени заглядывала под штору, стучала в окно и уговаривала себя, что в конце концов он проснется, уж слишком у него неудобная поза.
Но вот спустя час она опять негромко застучала в окно, стучала долго. Постепенно звук этот дошел до Морела. Когда, отчаявшись, она перестала барабанить по стеклу, она увидела, что муж шевельнулся, потом, не открывая глаз, поднял голову. Сильно бьющееся сердце пробудило его сознание. Миссис Морел требовательно застучала в окно. Он проснулся. Мигом сжал кулаки, глаза яростно сверкнули. Он ничуть не испугался. Окажись тут хоть двадцать грабителей, он не рассуждая сразился бы с ними. Он в ярости огляделся, недоуменно, но готовый к схватке.
– Отвори, Уолтер, холодно, – сказала жена.
Кулаки его разжались. До него дошло, что он натворил. Голова опустилась, лицо стало угрюмое, замкнутое. Она увидела, как он заторопился к двери, услышала, как лязгнул засов. Морел дернул задвижку. Дверь отворилась – и вот вместо тускло-желтого света лампы перед ним серебристо-серая ночь. Он поспешно отступил.
Когда миссис Морел вошла в дом, он уже почти бежал к лестнице. Торопясь скрыться прежде чем войдет жена, он наскоро содрал с шеи пристежной воротничок, и тот валялся на полу с лопнувшими петлями. Ее это рассердило.
Согревшись, она успокоилась. От усталости обо всем позабыла, бродила по дому, делала те нехитрые дела, с которыми прежде не успела управиться, собрала мужу завтрак, сполоснула бутылку, которую он брал с собой в шахту, положила рабочую одежду к огню, чтоб согрелась, поставила к ней рабочие башмаки, достала чистый шарф, сумку для еды, два яблока, пошуровала в очаге и поднялась в спальню. Морел уже крепко спал. Тонкие черные брови его были подняты в горестном недоумении, щеки запали, уголки рта угрюмо опущены, он словно говорил: «Плевать мне, кто ты и что ты, все равно сделаю по-своему».
Миссис Морел и смотреть на него не надо было, все слишком хорошо знакомо. Расстегивая перед зеркалом брошь, она слабо улыбнулась – оказалось, все лицо у нее в желтой пыльце лилий. Она смахнула пыльцу и наконец легла. Некоторое время в мозгу что-то вспыхивало, мерцало, но она уснула еще до того, как муж наконец проспался.








