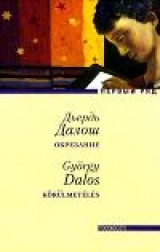
Текст книги "Обрезание"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Спустя примерно четверть часа заскрежетал ключ в замке. Первым, улыбаясь, вышел дядя Мориц; затем, смущенно опустив глаза, выскочила мать с полотенцем на локте. Хафнер был одет, он только поправлял часы на руке; дружелюбно потрепав по плечу сидевшего на тахте Роби Зингера, он сказал одобрительно: «Умный ты парень, братец». Слыша это, Роби Зингер чувствовал, как у него что-то ползет от желудка к горлу, потом опускается обратно. Он понял, что начинает ненавидеть этих двух лицемеров; втайне ему хотелось, чтобы бабушка, по какой-нибудь фатальной случайности, прервав заслуженный отдых, вдруг вернулась домой. Вернулась и застала их на месте преступления.
«Он уже там, на небесах, – прошептала меж всхлипами мать; и, как бы обретя в своих словах какое-то утешение, принялась излагать события этого дня: – Я была на дежурстве с утра. Дай, думаю, позвоню в „Прогресс“, вдруг у него найдется немного времени. Мы так давно уже с ним не гуляли. Мне товарища Хафнера, говорю в трубку. А мне женский голос отвечает сквозь слезы: только что жена его звонила, завтра утром похороны, на кладбище, что на улице Козма. Я думала, ну все, так и останусь, не смогу с места встать. И надо же, идиотка, еще и спросила у той женщины: а он что, умер? И только тут положила трубку».
С Хафнером они уже не виделись полтора месяца. «Теперь мы будем реже встречаться», – сказал он ей на последнем свидании, когда они прощались на обычном месте, на остановке трамвая у моста Маргит, на будайской стороне. «Почему? Разлюбили?» – спросила мать; в душе у нее шевелились мрачные подозрения. «Нет, вовсе не потому, – прозвучал ответ, и Мор Хафнер приложил руку к сердцу. – Мотор вот забарахлил». И сел на подошедший шестой номер. Мать же дождалась следующего трамвая: Хафнер всегда опасался, как бы у острова, среди севших в переполненный трамвай пассажиров, не оказались знакомые.
Как раз после того свидания произошел случай, который вызвал у них страшный испуг. Мать Роби Зингера обнаружила, что давно ожидаемые месячные все не приходят и не приходят. «Господи Боже! – сказала она Роби (было это четыре недели назад). – Если я подзалетела, мне этого не пережить». Выражение это, «подзалетела», Роби Зингеру показалось несколько туманным. Он в общем-то знал, что, если у женщины прекратились месячные, значит, она в положении, то есть у нее будет ребенок. Что правда, то правда: скандал был бы большой. Хафнера от бабушки еще можно было бы скрыть, а вот беременность – вряд ли. Ведь у матери тогда вырастет большой живот, еще больше, чем теперь. Конечно, сначала, может, бабушка ничего бы не заподозрила, а просто, скажем, еще старательнее следила, чтобы дочь не ела так много, потому что уж очень быстро она поправляется. Но на девятом месяце шило все равно бы вылезло из мешка: матери пришлось бы отправиться в больницу, ночевать там ночь или две, а потом бы она вернулась домой с младенцем.
Как бы отнеслась бабушка к ребенку, у которого отца нет и даже не пахнет? И вообще, этому ребенку и места-то в квартире бы не нашлось. А что, если бы родились сразу двое? Одно ясно, думал Роби Зингер с некоторым злорадством, Хафнеру в любом случае пришлось бы платить алименты. А его родня! То-то скорчили бы они рожи! Вот это уж был бы настоящий скандал!
«А ведь он обещал, что осторожным будет», – переживала мать. «Осторожным», – думал Роби Зингер; конечно, мать имеет в виду ту мерзкую резиновую штуковину. Восьмиклассник Амбруш в прошлый раз показывал такую в душевой. Сначала он попробовал этот мешочек надуть, как воздушный шарик, потом налил в него воду, потом натянул на свой вставший член и сказал, что в следующие выходные обязательно проверит его в деле. Но тут в душевую неожиданно вошел Балла, и Амбруш быстро скомкал мешочек и сунул его себе в рот.
Роби Зингер спросил мать: не нужно ли сообщить радостную весть Хафнеру? В конце концов, старику ведь, кажется, удалось то, чего ни разу не удавалось за несколько десятилетий супружеской жизни: стать отцом. Хотя в его-то возрасте ему бы скорее дедом стать… «Да ты что! – застонала мать. – Чтобы он совсем перестал со мной знаться?»
Конечно, от бабушкиного внимания не ускользнуло странное обстоятельство, что в этом месяце обычных запахов и пятен замечено не было. Однако она ничего не сказала, лишь на неделю отложила замачивание белья. Мать же в конце концов, вся изнервничавшись, решила пойти к гинекологу. Бабушке она соврала, что ей надо к невропатологу: беллоид у нее кончился. «Сходи, дочка, сходи, – одобрила бабушка. – Да загляни, für alle Felle [5]5
На всякий случай (нем., идиш).
[Закрыть]и в гинекологию тоже: пусть проверят лишний раз, не случилось ли чего?»
Мать потом рассказывала Роби: врач-гинеколог спросил ее, ведет ли она регулярную половую жизнь? «Я три раза была с мужчиной, – смущенно ответила мать. – Но ему уже больше шестидесяти». – «Ого! – высоко поднял бровь врач. – Человеку за шестьдесят, а он такую цыпочку себе заполучил. Вот что значит старый конь! – Но потом добавил: – Ступайте домой, мадам Зингер, все с вами в порядке». И в самом деле, долгожданная менструация через несколько дней пришла. Матери хотелось, пускай задним числом, рассказать про свои волнения и тревоги Хафнеру. Вот зачем она звонила ему сегодня.
«Знала я, что это рано или поздно кончится. Но чтобы так!.. – горько вздохнула мать. – Хоть ребенка бы, что ли, оставил мне». Она явно стала успокаиваться; а Роби Зингер ломал голову над тем, что бы такое сделать, чтобы хрупкое это спокойствие сохранилось и за пределами маленькой комнаты, чтобы тайна этого траура не открылась для бабушки. Роби терзала совесть: ведь он два года помогал матери врать и таиться, и, если сейчас, из-за неожиданной смерти Хафнера, тайна откроется, бабушка справедливо будет обижаться и на него, Роби. Словом, надо придумать что-то такое, чтобы мать могла удерживаться от слез какое-то время, лучше всего, если до завтрашнего вечера, – тогда Роби сядет на свой тридцать третий трамвай, а они тут, дома, сами пускай разбираются.
От мучительных раздумий у него чуть не заболела голова; и тут он вдруг вспомнил, что говорил однажды на своем психотерапевтическом приеме, на котором несколько минут присутствовал и Роби, профессор Надаи. Для людей такого душевного склада, как мать, сказал старый профессор, иногда весьма полезна, скажем, смена обстановки, необходимость отвлечься на что-нибудь постороннее, а то даже и некоторое потрясение, которое заставит забыть об актуальной беде. Да, да, в отличие от больных со слабым сердцем, которых даже радостное событие может свести в могилу, человека с неустойчивой психикой и очень скверная весть способна поставить на ноги. «Иногда вообще не важно, что происходит, – сказал профессор Надаи, – лишь бы вообще что-то происходило».
Да, но о каком еще потрясении можно думать сейчас, сразу после такой скорбной вести? Какая нужна смена обстановки, чтобы мать отвлеклась, забыла тот телефонный разговор? Может, позвать мать в кино, посмотреть какой-нибудь веселый фильм? Конечно, только не про войну – какую-нибудь французскую комедию; таких нынче много показывают, жаль только, детям до шестнадцати их смотреть нельзя. Только вот бабушка: вряд ли она поймет, чего это дочь плакала, плакала – и вдруг побежала в кино на французскую комедию; тем более что вообще-то ее, как бабушка выражается, на веревке в кино не затащишь, каким бы интересным ни был фильм: говорит, не может сосредоточиться. Можно, конечно, еще пойти в кондитерскую, скажем в соседнюю «Британию», которая в последнее время носит гордое имя «Мир». Миньон или французская трубочка с кремом, пожалуй, смягчили бы материно горе, а заодно и ее постоянную тоску по сладкому. Смягчили бы – но надолго ли? Нет, тут надо придумать что-нибудь посерьезнее. Может, испробовать рецепт учителя Баллы? «У нас, у евреев, – произнес однажды Балла с философской углубленностью на лице, – горе и утешение рука об руку ходят». Понимать это следовало так: глубоко пережитое горе несет в себе собственное исцеление. И Роби Зингеру пришла в голову странная мысль; сначала она его самого испугала – такой показалась безумной. Но потом он решился: взял мать за руку и, глядя ей в глаза, сказал: «Возьми себя в руки, мама! Завтра утром мы пойдем не в молельню, а на похороны. Но только если ты в самом деле возьмешь себя в руки!»
Это было рискованное предложение: оно вполне могло бы вызвать новую истерику. Мать, однако, приняла его на удивление хорошо. «Ладно, – сказала она, – я ведь умею себя в руках держать, вот увидишь, вот увидишь». И, встав с постели, оправила на себе одежду и решительными шагами пошла на кухню. Там она выпила стакан воды и, поскольку было уже шесть часов, как ни в чем не бывало стала допытываться у бабушки, что будет на ужин. Та поразилась такой стремительной смене настроения, потом, удивленно качая головой, заметила: «Нет, вы смотрите, только сына и слушается, бедненькая».
Вечер, можно сказать, прошел в полной идиллии. Бабушка пожарила на ужин кусочки вареной колбасы в панировке, одно из тех простых и дешевых чудо-блюд, один аромат которых уже радует душу. В горячем масле кружочки колбасы слегка покоробились, и панировку с них легко было соскоблить. Роби Зингер больше всего любил в этом блюде именно панировку, хрустящий слой из яйца, муки и сухарей; его он и выпросил у матери, взамен отдав ей часть своей колбасы, розовой и горячей. Совершая этот обмен, они хитро, заговорщически улыбнулись друг другу; видно было, что мать уже думает о завтрашнем дне, о похоронах, которые, каким бы печальным они ни являлись обрядом, сейчас для нее – единственный способ уцелеть. Поскольку гостей нынче не было, они, забыв обо всем, чавкая и облизываясь, съели целую сковородку жирного жарева, потом, на десерт, по блюдечку яблочного компота. Бабушка, правда, компот не ела, удовлетворившись чаем с сухариками, но с удовольствием созерцала семейную гармонию, средством для восстановления которой послужил отменный аппетит дочери и внука. Потом мать и Роби почти одновременно втянули остатки компота из блюдец, и мать приступила к принятию своих ежедневных обязательных лекарств. А несколько минут спустя тихо удалилась в маленькую комнату. «Вот и этот день прошел», – сказала бабушка с видимым облегчением, когда они остались вдвоем с внуком.
Спать Роби Зингеру еще не хотелось, не было у него и охоты слушать обычное субботнее радиокабаре. Он смутно помнил, что в комоде, в самом низу, среди отцовских конспектов по истории искусства и всяких семейных бумаг, лежала какая-то книга Гейне – того обрезанного немецкого поэта, который, по словам Баллы, поступил крайне предосудительно, отрекшись от веры отцов. Покопавшись в комоде, Роби Зингер в самом деле нашел большой том в парадном переплете. Как свидетельствовала надпись на титульном листе, пятьдесят лет тому назад покойная тетя Ютка подарила ее бабушке в связи со знаменательным событием: бабушка в том году успешно закончила курсы кройки и шитья.
«Книга песен» – стояло на твердой обложке, украшенной позолоченными завитушками. Из названия можно было сделать и такой вывод, что в книге содержатся духовные песнопения, какие Роби Зингер слышал по воскресным утрам, провожая мать в Братство евреев, верующих в Христа; тем более что и сам Гейне был вроде как из евреев, которые верят в Христа.
Однако немецкий поэт, по всему судя, и как христианин был не слишком набожным: песнопений вроде, скажем, «Агнца Божия» Роби Зингеру в книге так и не удалось отыскать. А вот стихов про любовь там было полным-полно. Роби Зингеру особенно понравилась баллада о каком-то несчастном гребце, который увидел на прибрежной скале прекрасную девушку: она пела и расчесывала свои золотые волосы, и звали ее Лорелея, и она так очаровала юношу, что тот на своей лодке разбился о скалу и погиб.
Классная история, думал Роби Зингер; хотя куда лучше было бы, если бы тот гребец осторожно причалил к утесу, взобрался наверх и познакомился с Лорелеей. В конце концов, если он не женат, они могли бы любить друг друга не таясь, с чистой совестью; а то, что Лорелея – женщина нормальная, не чувственная, это в стихотворении Гейне ясно видно.
Дева, расчесывающая золотые волосы на берегу Рейна, была последним смутным образом, который витал перед Роби Зингером, когда он уснул рядом с бабушкой на тахте. Он всегда спал у стены, чтобы бабушка могла в любой момент встать, услышав из маленькой комнаты крик дочери. И бабушка вставала покорно, без единой жалобы, иногда по три-четыре раза за ночь: то потому, что дочери снились кошмары, то потому, что она не могла заснуть. Роби уже привык, что время от времени мать устраивает ночью переполох, и как бы приспособил ритм своего сна к вынужденным побудкам. В эту ночь, однако, случилось нечто совсем невиданное. Дверь маленькой комнаты вдруг с грохотом распахнулась. Мать вырвалась оттуда, словно из тюрьмы, с громким воплем, полураздетая, содрогаясь всем телом; сквозь рыдания можно было разобрать лишь ритмично повторяющиеся слова: «Не могу больше! Не могу больше! Не могу больше!»
Роби Зингер, проснувшись в ужасе, конечно, в первый же момент догадался, почему мать больше не может. Бабушка вскочила, зажгла свет, беспомощно огляделась. «Что с тобой?» – спросила она дочь. Та, не отвечая, продолжала рыдать, да так оглушительно, что соседи принялись стучать в стену. Тут бабушка, совсем сбитая с толку, подбежала к буфету и включила приемник. Возможно, этим она хотела лишь заглушить материн истерический вопль, от которого у соседей наверняка уже лопались барабанные перепонки; а может, пыталась найти какую-нибудь успокаивающую классическую музыку. Но вот беда: «Кошут» уже молчал, а «Петефи» передавал нескончаемую сводку уровня воды во всех реках Венгрии.
«Да что с тобой такое?» – повторила бабушка, уже с раздражением. Мать вдруг перестала рыдать и с деланным спокойствием ответила: «Ничего. Просто сон приснился плохой». – «Врешь! – с несвойственной ей резкостью крикнула бабушка. – Сейчас же рассказывай, что случилось!»
Роби Зингер вдруг почувствовал, как его охватывает злость. Что же это такое: совсем мать распустилась! Напрасно он, выходит, придумывал, чем ее завтра отвлечь, чтобы хоть воскресенье прожить спокойно? И как раз теперь должна выйти наружу вся подноготная? Он посмотрел на мать и холодно, жестко сказал: «Мама, я спать хочу. Если не прекратишь этот цирк, никуда с тобой не пойду завтра. Понятно тебе? Никуда. Даже в молитвенный дом».
Мать поняла намек. «Я вправду плохой сон видела», – жалобно сказала она, бросая на бабушку умоляющий взгляд, чтобы та больше не спрашивала ее ни о чем. Бабушка и не спрашивала. Бросив взгляд на сердитое и испуганное лицо Роби, на круги у него под глазами, она сказала: «Мне-то уж все равно, а вот бедному ребенку спать надо. Ступай, Робика, в маленькую комнату, а мама на эту ночь сюда переберется. Как-нибудь уместимся с ней вдвоем».
Мать, конечно, опять не удержалась, чтобы не разреветься, но теперь рыдания ее были более сдержанны. Теперь она плакала потому, что лишила родных покоя; поворачивая то к одному, то к другому заплаканное лицо, она сквозь всхлипы просила: «Простите меня! Простите…» Роби только рукой сердито махнул и, волоча за собой одеяло и подушку, побрел в маленькую комнату, на широкую деревянную кровать. Бабушка тем временем перенесла оттуда материно белье, стакан с зубным протезом, книгу «Бегущие души» известного гипнотизера, доктора Вёльдеши, духовные стихи Эржебет Турмезеи – словом, все, что ее Эржике постоянно держала на тумбочке и с чем не хотела расставаться даже в эту бурную ночь.
Странно чувствовал себя Роби Зингер на материной кровати: сон никак не хотел приходить к нему, хотя из большой комнаты не доносилось ни звука. Он лежал на своем белье, но, видимо, запахи, застоявшиеся в комнатенке, запахи лекарств, чая, ромашки, въевшегося в матрац пота, гниющих досок, на которых этот матрац лежал, стискивали ему горло, мешая дышать. Он вспомнил, что на этой самой кровати в тот раз, закрывшись на ключ, мать лежала с Мором Хафнером. Выходит, на этой кровати лежал покойник, подумалось Роби Зингеру, и ему совсем стало не по себе. По своему обыкновению, он должен был покрутиться перед сном; но если массивная тахта сносила такие движения с немым достоинством, то это ветхое ложе даже на вздох отзывалось жалобным скрипом. Роби Зингер считал до ста, повторял про себя стихотворение Гейне, старался вспомнить полный список воспитанников интерната – все было напрасно: сон не приходил. Уже светало, когда ему удалось наконец задремать – с надеждой, что утро, может быть, принесет покой; ведь глубокая скорбь должна приносить утешение.
«Но мы будем помнить Мора Хафнера не только как образцового портного, – воздавал усопшему хвалу рабби, вознося к небесам звенящий металлом голос. – Хотя Творец не дал ему детей, он и в семейной жизни служит нам образцом. Вернувшись с полей всемирного пожара, он прожил остаток жизни в любви и верности, рядом с избранницей своего сердца, обожая ее больше всех прочих людей».
Ну, об этом-то я бы мог вам кое-что рассказать, ухмылялся в душе у Роби Зингера какой-то бесенок. Тихий солнечный свет раннего утра лился на могильные холмики еврейского кладбища. Выразить скорбь по дяде Морицу пришло на удивление много народа; тут были и его товарищи по Дахау, и коллеги по портновскому делу. Так что на них с матерью никто не обратил внимания; правда, из осторожности они все-таки встали возле соседней могилы, где спал вечным сном некий правительственный советник, тоже, конечно, еврей.
Роби Зингер думал, как бы увести мать с кладбища как можно скорее: он опасался, что у нее в любой момент могут прорваться эмоции. Мать, однако, сейчас была спокойна; более того, ею даже овладело любопытство. У нее и в мыслях не было уходить, пока собравшиеся не двинутся к воротам кладбища. И когда вдова Мора Хафнера, поддерживаемая под руки двумя пожилыми мужчинами, проходила мимо, мать храбро протиснулась через толпу, чтобы рассмотреть ее поближе. Ну, сейчас начнется; Роби Зингер даже зажмурился, но мать не сказала ни слова – лишь с вызовом посмотрела в лицо вдовы. Та удивленно покосилась на незнакомую женщину – и продолжила свой путь. Мать же взяла сына под руку и тоном глубокого удовлетворения, какого Роби Зингер еще никогда за ней не замечал, сказала, глядя вслед ничего не подозревающей сопернице: «Старуха».
Похороны на самом деле дали матери заряд бодрости; хорошее настроение она сохраняла даже за обедом. Правда, и бабушка отличилась: она приготовила цыпленка, а на десерт – шарлотку, любимое блюдо и дочери, и внука. Роби с матерью переглянулись и улыбнулись: ведь бабушка, ни о чем не подозревая, устроила настоящие поминки по Мору Хафнеру, и это очень подходило к той игре, которую они вели, к их маленькому заговору. Жаль только, говорить о покойном было нельзя.
После обеда бабушка предложила всем вместе пойти погулять на остров Маргит. Потом, видимо, ей тоже пришла в голову мысль о смене обстановки, и она поправила себя: «А то пойдемте сегодня еще куда-нибудь, скажем, в Буду, на набережную… Там в какую-нибудь кондитерскую можно зайти, посидеть…» Но тут Роби Зингер так яростно запротестовал (мать же, на удивление, сохранила хладнокровие), что бабушка сразу отступила. «Я ведь так, просто там меньше знакомых. А вообще-то мне и остров годится».
Собирались они не спеша. Сборы заключались в том, что бабушка и мать принесли из прихожей и положили на тахту, согреваться, свои зимние пальто, а также демисезонное, Роби. Когда вдруг раздался звонок в дверь, они досадливо переглянулись и решили: кто бы это ни был, они его вежливо выпроводят, а планы свои менять не станут. «Ребенку ведь тоже двигаться нужно», – раздраженно сказала бабушка, отправляясь открывать дверь. Через минуту в комнату ввалился Марци с женой.
Марци был портным, как и Мор Хафнер; правда, своего ателье у него не было, не работал он и в кооперативе. Будучи человеком гражданским, Марци тем не менее много лет состоял на службе в Венгерской народной армии: шил униформу. Он был влюблен в свою профессию и, кроме нее, ни о чем больше разговаривать не желал.
Человек он был бесхитростный и всегда что думал, то и говорил. По этой причине многие считали его бестактным. Марци этот грех за собой знал, а потому в речь свою то и дело, в самые неожиданные моменты, вставлял на всякий случай обороты вроде: «простите за выражение» или «хотя бывают и исключения». Если же бестактность все же происходила, он с искренним раскаянием говорил: «Пардон, я ни слова не сказал».
«Тысячу лет не виделись!» – восторженно заорал он еще в дверях и кинулся целовать бабушке руку. Мать он расцеловал в обе щеки, а Роби Зингеру крепко, по-мужски пожал руку. Жена его, Ханна, преданно повторяла каждое слово и каждое движение мужа. Оба они сразу заметили, что хозяева готовятся уходить куда-то. «Да мы, собственно, к вам вовсе и не собирались», – оправдывался Марци. «Чего уж теперь, парень, – ответила ему с той же долей тактичности бабушка. – Раз пришли, посидите пару минуток». Бабушка звала Марци по-свойски, «парнем», и обращалась к нему на «ты», потому что он считался старым другом дома. История знакомства уходила еще в довоенные времена, когда Марци дважды – безуспешно – просил руки матери Роби. Несмотря на двукратный отказ, Марци никогда не переставал восторгаться достоинствами Эржике; он и сегодня говорил о ней исключительно в превосходных степенях, нисколько не смущаясь присутствием жены; более того, именно жене он и адресовал свои восторги: «Смотри-ка, Ханеле, ну разве она не удивительная, наша Эржике? Ей-богу, если б не ты, я бы тут же на ней, извините за выражение, женился». Ханеле с энтузиазмом кивала.
После этого Марци повернулся к бабушке и стал рассказывать ей о том, как много у него всяких проблем на работе. «Вы уж не говорите никому, сударыня, но мы в скором времени должны изготовить огромную партию форменной одежды. Настоящий аврал. Ничего не поделаешь, немцы вооружаются – хотя исключения и тут бывают, – и солдаты сейчас ох как нужны».
Роби Зингер подумал, что было бы лучше, если бы разговор немного отклонился от портновской темы. И он (лучшей темы ему в голову не пришло) стал подробно рассказывать, что римляне в свое время тоже много воевали – например, против евреев, но Бар-Кохба наносил им очень даже чувствительные удары; жаль, что потом он погиб в сражении.
«Какой умный мальчик, umberufen!» – с искренним восхищением воскликнул Марци. Потом спросил Роби Зингера: «Ты кем хочешь стать, сынок?» – «Искусствоведом!» – с воодушевлением ответил Роби Зингер, радуясь, что уж теперь-то ему точно удастся увести разговор от опасной профессии Марци. «Вот это профессия так профессия! – восторгался Марци; потом добавил: – Твой покойный отец тоже ведь искусствоведом хотел стать; такая жалость, что не повезло ему. Ну что ж, о мертвых – или хорошо, или ничего».
На минуту-другую воцарилась тишина; но потом сам же Марци ее и нарушил: «Бедный Бар-Кохба! Тоже ведь – каким невезучим оказался!» Затем, почувствовав, вероятно, что почва истории для него – топкое болото, снова перевел разговор на современность. «Ой, сколько же нынче народу умирает!» – сказал он, меняя тему, и с многозначительным видом посмотрел на присутствующих. Роби Зингер тревожно покосился на мать и торопливо стал допытываться у Марци: а что у них в армии говорят, будет война или нет? Ему казалось, более безобидной темы, сколько ни ищи, все равно не найдешь. «Ишь, какой любопытный! – погрозил ему пальцем Марци. – Во-первых, это военная тайна, Роби. А во-вторых, насчет войны никто ничего не знает. – И он еще упорнее стал продолжать то, что начал говорить две минуты назад. – У нас и без войны вон сколько людей мрет! – заявил он решительно и повернулся к жене, чтобы она подтвердила его правоту. – Правда, Ханеле? Вот, например, тот же Хафнер…» Ханеле согласно закивала: «Да уж… Сегодня хоронили бедного… Мы тоже чуть было не пошли».
Мать на мгновение потеряла самообладание. «Вы что, знали его?» – почти выкрикнула она. «Конечно, – ответил Марци. – Мы, портные, все друг друга знаем. – И потом удивленно спросил: – А что, Эржике, вы с ним тоже были знакомы?» – «А, откуда!» – спохватилась мать, судорожно стиснув подлокотники кресла.
В наступившей тишине бабушка, по всей видимости, копалась в памяти, отыскивая причину: почему это фамилия «Хафнер» звучит для нее как-то знакомо? «Слушай-ка, – вдруг обернулась она к дочери, – это не тот ли Хафнер, на которого ты столько работала, а он, говнюк, двадцать один форинт тебе отвалил?» Мать сидела, не в состоянии даже слово произнести. Бабушка, видно, почувствовала что-то и быстро затолкала Мора Хафнера назад, в тот же тайный угол своего сознания, откуда она его перед этим вытащила.
Даже неизлечимо бестактный Марци сообразил наконец, что по какой-то неясной причине в этом доме сегодня ни о портновском деле, ни о смерти не рекомендуется разговаривать. «Можете себе представить, на прошлой неделе я один фильм видел, с Фернанделем, – сообщил он радостно и стал подробно пересказывать пикантную французскую историю: – Стало быть, какой-то молодой человек влезает ночью в окно к своей любовнице, в темноте они делают ребенка…» – «Ай-яй-яй, Марци, nicht vor dem Kind! [6]6
Не при ребенке! (нем.).
[Закрыть]», – качала бабушка головой, однако с явным удовольствием слушала рассказ о том, как Фернандель, который играет отца этого молодого человека, никак не может взять в толк, что ему делать со свалившимся ему на шею внуком. Так что Марци пересказал весь фильм от начала до конца, и не только пересказал, но и изобразил массу комических ситуаций, подражая Фернанделю так здорово, что и слушатели, и сам он чуть не по полу катались со смеху.
Мать тоже смеялась, да так громко и весело, что у нее слезы на глазах выступили, и присутствующие даже не заметили, в какой момент звонкий, самозабвенный смех перешел в рыдания.
«Шма Исраэль! – простонал Марци с искренним раскаянием. – Какой же я бестактный! Пардон, пардон, я ни слова не сказал!» Ханеле испуганно озиралась по сторонам, словно искала в комнате что-нибудь, за что можно уцепиться. Взгляд ее в конце концов остановился на окне, выходящем на улицу. «Ой, скоро уже стемнеет», – пролепетала она и, многозначительно посмотрев на Марци, вскочила, схватила мужа за руку и в панической спешке потащила его в прихожую.
«Ну, эти теперь не скоро к нам снова придут», – сказала бабушка, закрыв дверь за перепуганной до смерти парой. И потом обернулась к дочери и внуку: «А ну, выкладывайте, что вы там скрываете от меня!» Все молчали. Роби Зингер старался не смотреть на мать, которая все еще сидела, уцепившись за подлокотники кресла; по лицу ее неостановимо текли слезы. «Уж мне-то все можно рассказать, – продолжала бабушка; и потом вытащила из рукава своего козырного туза. – Сознавайтесь: не были вы сегодня ни на какой церковной службе. Откуда у вас на обуви земля и трава?»
Казалось, еще мгновение, и лопнет тонкий, как дыхание, радужный мыльный пузырь, в котором пряталась непомерно тяжелая, многолетняя тайна; еще мгновение, и из груди матери Роби Зингера вырвется мучительное признание.
«Дело в том… что…» – заговорила мать; и Роби Зингер без труда продолжил про себя начатый ею монолог. «Дело в том, что, – почти слышал он слова матери, – что умер мой любовник. Ему шестьдесят три года было. Он был женат, а сегодня мы ходили на его похороны, я по нему скорблю… Да, по кому хочу, по тому и скорблю!» Да, именно так должны были прозвучать те несколько фраз, после которых оставалось лишь умереть – или, наоборот, жить снова, без лжи, радуясь прекрасному миру, сотворенному еврейским ли, христианским ли Богом, жить, как живут все люди. Да, прозвучи эти несколько фраз – и Роби Зингер бросился бы на шею матери.
«Дело в том…» – начала было мать; но дальше этих двух слов ей не дано было продвинуться. Она вдруг принялась икать, да так отчаянно, что едва успевала набрать воздух в грудь. Бабушка встревоженно наклонилась над ней, уговаривая успокоиться: «Ничего не говори, не говори пока ничего!..» Только мать, если бы и хотела, все равно не смогла бы сейчас произнести ни звука. Словно этот судорожный, захлебывающийся хрип, ежеминутно рвущийся у нее из груди, был последним поводом, чтобы удержать в себе, не произнести вслух известное всем троим имя. Мать просто обязана была удержать его в себе: ведь теперь только оно, это имя, осталось ей от последнего мужчины, ради которого она иной раз еще заставляла себя делать завивку, ради которого, отправляясь на тайные, запретные прогулки по набережной Дуная, еще надевала белое платье с яркими красными бабочками.
«Сбегай-ка за врачом, Роби», – спокойным, рассудительным тоном сказала бабушка после того, как и третий стакан воды не смог остановить икоту.
В поликлинике на улице Сонди в этот день дежурил старик астматик доктор Шиграи. «Что там у вас опять?» – досадливо спросил он у мальчика. «С матерью беда, господин доктор. Икает и не может воздух вдохнуть». – «Я тоже вот не могу», – ответил доктор. Потом все же встал, положил в саквояж шприц с иглой, какие-то ампулы, поднял на Роби Зингера усталый взгляд и сказал: «Ну, пошли». Увидев мать, доктор Шиграи не сказал ни слова, ничего не спросил, лишь показал жестом, чтобы она легла ничком на рекамье. Бабушка пошла на кухню и приготовила таз с водой и мыло, чтобы доктор мог помыть руки. Икота прошла у матери мгновенно. Роби с бабушкой отвели ее в маленькую комнату, уложили; пока они накрывали ее одеялом, она уже заснула.
«До утра должно хватить, – сказал врач. – А утром отведите ее к невропатологу. Я не специалист по нервным болезням, но чувствую, тут дело опять пахнет курсом гипнотерапии». От денег, которые совала ему бабушка, он отказался. «Тут не деньги нужны, – сердито буркнул он, – а здоровье. Вот что обеспечьте ей, если можете!»
Было пять часов пополудни. В шесть, самое позднее, Роби Зингер должен был сесть на тридцать третий трамвай, чтобы к семи оказаться на улице Зичи. Теперь, когда дома наконец воцарился долгожданный покой, бабушка села за швейную машину, полученную напрокат от общины: надо было срочно перелицевать совсем обветшавший воротник на синей рубашке Роби, а также поставить заплатку на его же штаны из чертовой кожи, прохудившиеся на заду. В искусстве починки бабушка была настоящим виртуозом. Она спасала такие рубашки, штаны, свитера, которые другой давно бы выкинул на помойку. «Нет плохой одежды, есть плохие хозяйки», – в такой косвенной форме признавала она свои выдающиеся способности в этой сфере. Непревзойденной мастерицей была она и в штопке носков.






