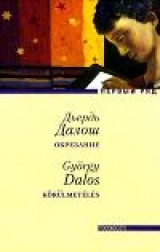
Текст книги "Обрезание"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Дьердь Далош
Обрезание
Катинке Мезеи и Михаэлю Кихеру (Вена), Каталин Кац (Иерусалим) и Мариусу Табаку (Коложвар) посвящается
1
Шел к концу месяц тевет пять тысяч шестнадцатого года. Через мост имени Сталина, битком набитый, с грохотом катился тридцать третий трамвай. В толпе пассажиров, притиснутый в угол, находился и Роби Зингер; он ехал домой, в голове у него бродили довольно мрачные мысли. Шабес уже завершился, или, как говорили у них в интернате, истек, так что на трамвае Роби ехал с чистой совестью. И все же на душе у него было бы куда веселее, если бы сейчас была весна, месяц ияр или хотя бы нисан: ведь весной в это время – а было часов пять пополудни – еще совсем светло. Правда, это значило бы, что до первых звезд, то есть до завершения шабеса, еще ждать и ждать… Ну и что? Роби с радостью перешел бы мост имени Сталина на своих двоих, да и дальше, по проспекту Ваци, хоть до самой площади Маркса пошагал бы пешком.
С приближением весны учитель Балла особенно настойчиво напоминал своим воспитанникам – точнее, тем из них, кто был полусиротой или пусть круглым сиротой, но по выходным уходил к дедушке или бабушке, – что шабес они должны блюсти неукоснительно. Нет, конечно, если ты, в свои двенадцать лет, в запретное время сядешь на трамвай, это грех не такой уж большой – только ведь из малых грехов складываются грехи большие, из простительных – смертные. «Шабес еврею положено соблюдать даже на необитаемом острове», – говорил, подняв палец, учитель Балла. Если бы, скажем, Робинзон Крузо тоже был unsereiner [1]1
Один из наших (идиш).
[Закрыть]и если бы тот достославный дикарь попал к нему в пятницу после восхода луны, то Робинзон, пожалуй, назвал бы горемыку не Пятницей, а Субботой и непременно использовал бы его в качестве шабес-гоя, ибо человек никогда и нигде не остается совсем один, без благотворного промысла Божьего.
Шабес-гой был даже у них в интернате, пусть и в облике тети Мари, беженки из Секлерского края; в пятницу вечером, когда воспитанники ложились спать, она приходила гасить лампы. Правда, едва она закрывала за собой дверь, ребята вскакивали и развлекались тем, что щелкали туда-сюда выключателем – будто специально хотели проверить, накажет ли их за такое кощунство Бог.
Всеблагой никак на это не реагировал. Если, конечно, не считать наказанием то обстоятельство, что однажды, вскоре после ухода тети Мари, сорокаваттовая лампочка, которую то и дело включали и выключали, не выдержала и с громким хлопком перегорела. Учитель Балла, конечно, и в этом увидел промысел Божий. «Видите? – сказал он на следующее утро, когда Габор Блюм храбро признался ему в содеянном. – Так Всевышний карает ослов, которые столь дешевыми способами испытывают Его терпение, вообще-то бесконечное».
Этим ранним, чуть ли не сразу после полудня начавшимся зимним вечером Роби Зингер, к счастью, мог ехать на трамвае совершенно спокойно. К счастью – потому что холод на улице пронизывал до костей. Тщетно Роби поплотнее запахивал надетое поверх синего тренировочного костюма короткое тоненькое пальтишко, которое бабушка тактично называла демисезонным. В этом выражении таилось как бы некое неопределенное обещание; иной раз, в выходные, когда маленькая семья собиралась вместе, обещание обретало и более конкретную форму: «Погоди, вот купим тебе зимнее пальто…»; или в более осторожном варианте: «Пора бы купить тебе настоящее зимнее пальто». Сделать это бабушка собиралась, как только ей дадут премию на работе: должен же кто-то заметить, с каким рвением выполняет она свои обязанности подсобного рабочего. Увы, из-за всяких реорганизаций, объединений и сокращений, которые в то время вошли в моду, предприятия, где работала бабушка, слишком часто менялись. Не освоившись ни на одном из них сколько-нибудь основательно, она переходила с места на место, пока не оказалась в кооперативе по пошиву плащей и дождевиков.
Роби Зингер все же очень надеялся, что премию бабушке в конце концов дадут и что в один прекрасный день она возьмет его за руку и поведет в Государственный универмаг и тогда наступит конец затянувшемуся демисезонью. Пусть тогда приходят лютые холода и снежные метели, спасаясь от которых такие вот двенадцатилетние пацаны убегают, дрожа, в промозглые обудайские подворотни, – злобная жестокость зимы разобьется о надежный, неприступный бастион настоящего зимнего пальто.
Эта зима в самом деле была необычно студеной, самой студеной из всех, какие помнил в своей жизни Роби. В школе из-за морозов были объявлены двухнедельные каникулы; в интернате, в связи с хроническим дефицитом топлива, тоже еле топили. С утра воспитанников собирали в двух комнатах, придумывая им какие-нибудь общие занятия. На растопку печей пустили даже столы для пинг-понга. Балла пытался утешить своих подопечных тем, что в такие морозы и гоям холодно, зато в Эреце красота, тепло, светит солнышко, народ гуляет в легких штанах и рубашках с короткими рукавами.
Нам-то с этого что, думал Роби Зингер. К тому же снабжение приюта продуктами тоже с каждым днем становилось все более скудным. В этом плане у гоев было явное преимущество: ведь они могли есть сало, свиной зельц, а по воскресеньям – даже жареную свинину, в то время как интернатским приходилось довольствоваться скудными порциями говядины в разных видах, из которых самой лакомой выглядела кошерная колбаса – жаль только, выдавали ее такими крохотными ломтиками, что ради этого и застольное благословение-то неохота было произносить. В чоленте было все больше и больше ячневой крупы, в курином перкельте кусочки курицы едва выглядывали из лукового соуса, а ячменный кофе по утрам был скорее теплый, чем вкусный.
Балла, когда его спрашивали, почему это так, с готовностью объяснял любому и каждому, что виноваты тут, во-первых, Гитлер с его проклятой войной, а во-вторых, международное положение, которое касается нас потому, что границы сейчас на замке, а значит, Джойнт не может оказывать интернату помощь в той мере, в какой следовало бы. «При всем том, – со значением добавлял он, – трефное мы есть не будем, до этого дело еще не дошло. Народ Израиля и в худшие времена выстоял, сохранил единство, и все благодаря тому, что был верен своим обычаям. Кому бы пришло в голову, странствуя по пустыне, утолять голод каким-нибудь перкельтом из нечистой свинины? И вообще думать о том, чтобы наесться досыта, когда речь шла о выживании?»
Роби Зингер соглашался с доводами учителя, хотя и находил их не вполне исчерпывающими. В Праздник фруктовых деревьев, скажем, на длинном обеденном столе в приютской столовой насчитывалось хорошо если пять видов плодов – из обязательных семи, – да и из этих пяти три представляли собой консервированные компоты «Глобус». Конечно, фиги, финики, апельсины вбирают в себя сладость солнечных лучей только под небом Эреца; но куда деваются яблоки, груши, грецкие орехи?
Однако сейчас, по дороге домой, Роби Зингер раздумывал не над аргументами Баллы, порой не совсем убедительными. По субботам, когда он ехал из интерната, голова его занята была скорее такими вещами, как теплая кафельная печка и более или менее сытная домашняя пища. Манила его и возможность сменить обстановку: нечто подобное он испытывал в Молодежном театре – билеты туда им давали в школе, в награду за хорошие отметки. В театре случались чудеса: рыцарский замок в таинственном полумраке сценической паузы вдруг сменяется лесом, хотя сцена оставалась сценой. Вот так же с завершением шабеса меняются кулисы его жизни, в то время как сама жизнь остается прежней и неизменной. На место Обуды приходит Пешт, на место тесного дортуара – двухкомнатная, с высокими потолками квартира в Терезвароше, на место приютской койки с пружинной сеткой – большая тахта, на которой он спал вместе с бабушкой, на место белой тумбочки возле койки – огромный старый буфет с ящиками и ящичками. А еще дома, в ящике швейной машины, полученной в пользование от еврейской общины, его ждет сборная – кучка пуговиц для настольного футбола; из этой сборной бабушка иной раз умыкала одного-двух игроков для своих хозяйственных целей. А окружающий мир! Большое Кольцо с его пахнущими кофе и карамелью кондитерскими, в которых продают миньоны по форинту тридцать за штуку и кремовые пирожные по форинту сорок! И кино «Факел», где идут советские фильмы о войне и продаются хрустящие крендели! Субботними вечерами дома включают купленный несколько месяцев назад радиоприемник, чтобы послушать эстрадный концерт, где ты будешь гарантированно смеяться от первой до последней минуты. В такие моменты бабушка даже выключает свет, отчасти из экономии, отчасти же для того, чтобы – как она говорит шутливо – свет культурного мероприятия горел еще ярче.
Вот только очень Роби не любит, когда дверь ему открывает мать. Уж чересчур бурно она радуется, встречая его: обнимает так, что у сына кости хрустят, и осыпает влажными поцелуями. Да при этом еще называет его самыми невероятными именами, не стесняясь даже совсем посторонних людей. В поисках новых и новых нежных имен она уже всех известных животных перебрала, так что даже бабушка иной раз не может удержаться и не одернуть ее. «Он же тебе не собачонка какая-нибудь, а человек! – возмущается она. – Что бы тебе не звать его просто по имени?» Но все равно Роби Зингеру с субботнего вечера и до воскресного вечера вновь и вновь приходится уклоняться от материных объятий и поцелуев. Бабушка, та никогда не позволяет себе таких слюнявых нежностей. Она умеет любить и одними глазами: Роби часто ловит на себе ее взгляд, падающий немного сбоку и сверху. Редко-редко она выражает любовь к внуку словами: например, похвалит его высокий лоб, чистый взгляд, а в минуты самого большого восторга говорит лишь: «Вылитый отец». И похвалы эти Роби способен принять не краснея.
С бабушкой и гулять хорошо, и ходить за покупками: на людей, как и на товары, она умеет смотреть объективно. Знакомые, встречающиеся на улице, сразу видно, считают за честь, когда она останавливается перекинуться с ними парой слов. Ходит она мелкими шагами, но быстро и решительно; иногда Роби едва за ней поспевает.
Мать, та со своим врожденным вывихом тазобедренного сустава передвигается, наоборот, медленно и неуверенно: иной раз два зеленых сигнала пропустит, прежде чем отважится улицу перейти.
В последние годы она растолстела; идя по улице, она прижимает к левой груди, словно щит, громадный свой ридикюль. Так, хромая, со щитом-ридикюлем перед грудью, она ходит каждое воскресенье в Общество братьев-евреев, верующих во Христа. А Роби Зингер без всякой охоты, уступая лишь просьбам бабушки, провожает ее туда. Провожать ее приходится потому, что мать, сверх всех своих бесчисленных болезней, страдает еще и тяжелой формой агорафобии: не решается в одиночку спускаться и подниматься по лестнице, боится упасть. А квартира у них на втором этаже, и выйти оттуда на улицу или попасть туда с улицы можно не иначе как по лестнице; да и в молельню Христова братства ведут какие-никакие несколько ступенек. Между уходом матери из дому и ее возвращением проходят как минимум полтора часа. За это время Роби, проводив мать на богослужение, вполне мог бы уйти домой и там дожидаться, пока она, неуверенно приковыляв назад, позовет его с улицы. Вот только он был почти уверен, что она и тут будет выкрикивать под окном не имя его, а какую-нибудь из придуманных ею звериных кличек, и, чтобы этого избежать, предпочитал сидеть в теплой молельне, читая Новый Завет или песенник и с подозрением косясь на мать, которая во время проповеди клевала носом и вскидывалась, лишь когда звучали первые аккорды фисгармонии и паства хором затягивала: «Агнец Божий, ты на Голгофе…» – или когда церковный староста Исидор Рейтер, протискиваясь между рядами стульев, начинал раздавать облатки и вино, вопрошающим взглядом выискивая верующих, которые выказывали склонность прилюдно продемонстрировать свою приверженность вере Христовой.
«Ступай, ступай, дочка, – говорила бабушка воскресными утрами, где-нибудь в половине десятого, – ступай, если чувствуешь такую необходимость. А я обед пока приготовлю. Помолись там хорошенько – глядишь, и аппетит себе нагуляешь». Правда, аппетит у матери и без того не нуждался в том, чтобы укреплять его с помощью каких-то еврейско-христианских молитв. При ее бесчисленных (точнее, как однажды подсчитал Роби, шестнадцати) болезнях, среди которых, кроме вывиха тазобедренного сустава и агорафобии, наличествовали – в порядке их возникновения – нелады с легкими, печенью, желчным пузырем, навязчивые идеи, хроническая бессонница, ну и прочее, – словом, при всех ее болезнях остатки здоровья словно бы сконцентрировались у нее в желании поесть. Начиная день с четырех ломтей хлеба, густо намазанных маслом и джемом, затем, на второй завтрак, выпивая какао, потом, в обед, поглощая обильные порции картошки и макарон, а в промежутках жуя печенье и погачи, запас которых у нее всегда был под рукой, – она ела, ела и ела, пренебрегая советами врачей, призывавших ее к умеренности. Неотделимым от этого удовольствия был суеверный, почти ритуальный прием бесчисленных лекарств. А поскольку она боялась, что всеми этими беллоидами, бене– и/или неукарбонами, билагитами, ношпами, фенолфталеинами, барбамидами и, время от времени, гермицидами и иштопиринами она еще, не дай Бог, отравится, то лекарства она принимала не иначе как в присутствии свидетелей.
По утрам, когда мать выползала из своего тесного логова, из маленькой комнаты, следом за ней выплывало облако тошнотворных запахов – запахов лекарств и тяжелого ночного пота. Лицо матери, распухшее то ли от снотворных, то ли от бессонницы, выглядело так, словно над ним основательно поработали кулаками. Жидкие, с проседью волосы жалкими прядями липли к черепу, глаза смотрели тускло, безжизненно, ничего не видя вокруг; да она словно бы и не на зрение ориентировалась, а на ощупь искала дорогу к уборной. И все-таки Роби Зингера больше всего ужасала ее толщина – потому что она напоминала ему о толщине собственной.
А ведь бабушка его вес считала чуть ли не одним из чудес света. Стимулом для беспримерного разрастания вширь послужили в свое время щедрые инъекции витаминов – дар американского народа. Это благодаря им недоношенный, хилый младенец стал в Зуглигетском детском доме, принадлежавшем Всемирному еврейскому конгрессу, абсолютным чемпионом по набиранию веса. О достопамятном соревновании даже написали в одном лондонском сионистском журнале; статейку с фотографиями и наскоро сделанным переводом кто-то прислал бабушке из Лондона. Согласно восторженному отчету, четырехлетний Роби Зингер (в английском тексте: «the little Bob») с его килограммами являл собой яркое доказательство жизнелюбия и жизнеспособности богоизбранного народа.
Самому Роби Зингеру этот всемирный успех, остающийся пока что непревзойденным, доставлял куда меньший восторг. Он стыдился своего мягкого тела, пухлых, с кулак, грудей, вислых ягодиц и прилипшей к нему с детдомовских времен клички Жирный. Он казался себе каким-то ходячим мешком с жиром, а потому и мать свою, толстую и хромую, с радостью бы убрал куда-нибудь с глаз долой. Иногда у него было такое чувство, что в его бесформенном, неповоротливом теле живет кто-то другой, стройный, подвижный и мускулистый, и этот кто-то гуляет по будапештским улицам с молодой красавицей матерью, и оба они гордятся друг другом, хотя и не показывают этого, ведь это так естественно, когда человек красив: не слишком толстый, не слишком тощий, а как раз такой, каким должен быть. И так горько было пробуждаться от тщеславных мечтаний, возвращаться к действительности, вспоминая о реальных пропорциях своего тела, представляя то жалкое зрелище, которое ты как бы созерцаешь сразу и изнутри, и извне. Вот он с неуклюже ковыляющей матерью предпринимает уже третью попытку перейти на зеленый свет светофора площадь Октогон. Что с того, что он знает: один, без матери, он давно был бы на той стороне? Ведь прохожие видят лишь двух безобразно толстых, бестолковых людей, которые никак не могут справиться с движением на площади, совсем не таким уж и интенсивным. Наконец тот, кто поменьше, берет под руку другого, побольше, и они, мать и сын, неуклюже бегут, словно залитые светом прожектора общего позора.
Так что когда бабушка восхищается высоким лбом и чистым взглядом внука или утверждает, что тот «ну просто вылитый отец», это для Роби – всего лишь слабое утешение, которое забывается в ту же минуту.
Что факт, то факт: отец Роби, Андор Зингер, был человеком незаурядным, кучу языков знал и по настоящему своему призванию должен был бы стать искусствоведом. Почему только «должен был бы стать», а не стал? Потому что до войны евреям не разрешалось учиться в университете, рассказывала бабушка. Так что не совсем понятно, где и как отец учил искусствознание, в котором достиг такой осведомленности, что все знакомые и друзья только дивились. Это слово, «искусствознание», бабушка произносила вполголоса, с благоговением, как молитву, и не скрывала, что самая ее большая мечта – это чтобы внук ее, когда вырастет, поступил в университет и тоже искусствознанию научился. «Пусть хоть у тебя получится то, что не получилось у нашего бедного Банди». «Бедный Банди», несмотря на все его таланты, был чистой воды неудачником, и это становилось ясным даже из весьма снисходительных бабушкиных рассказов.
Самая большая, а вместе с тем и последняя неудача постигла его после освобождения, в месяце элуле пять тысяч семьсот шестого года, когда коварная болезнь, угнездившаяся в его легких, покончила с ним. «Бедный зятюшка, – завершала бабушка свой рассказ. – Быстротечная чахотка его унесла». Если же Роби Зингер не отступал, требуя подробностей, она называла и место трагедии: «В больнице Святого Яноша»; но, видимо считая эту информацию недостаточно точной, она добавляла загадочно: «Бедный Банди умер в Ореховом рву». А в разного рода заявлениях и прошениях, в составлении которых бабушка собаку съела, она давала совсем другую формулировку, утверждая, что зять ее «стал жертвой фашизма».
Невезучесть отца в этой истории, по мнению бабушки, заключалась в том, что вскоре после его смерти в Европу, а следовательно, и в Венгрию пришло спасительное чудо-изобретение доктора Флеминга – лекарство под названием пенициллин. «Бедный зятюшка, потерпи он еще месяц-другой, так и по сей день был бы жив», – часто говорила бабушка, и непонятно было, кому адресован был спрятанный в этой фразе упрек: покойному зятю ли, который не смог потерпеть какой-нибудь месяц, доктору Флемингу ли, который мог бы изобретать пенициллин и порасторопнее, фашизму ли – или стоящему за всем этим Господу Богу, допустившему, чтобы все это случилось. Роби Зингер не знал, что Ореховый ров – это название улицы, а потому часто представлял отца, как тот, в первое лето после войны, лежит во рву и ждет, ждет доктора Флеминга, который уже плывет со своим шприцем на корабле через океан. И Роби Зингер приходил к выводу, что, хотя промедления, допущенного доктором Флемингом, уже не поправишь, бабушка все же, видимо, права: он, Роби, обязательно должен будет выучиться на искусствоведа; чтобы доказать безжалостной судьбе, что есть еще, есть в мире справедливость.
Итак, Роби Зингер мечтал о поприще специалиста по истории искусства; но одновременно в нем все более креп интерес к другой истории – историческому прошлому евреев, которое вряд ли можно назвать искусством, если только, конечно, не иметь в виду часто поминаемое учителем Баллой искусство выживания. Именно он, учитель Балла, пробудил в мальчике эту необычную жажду; а началось все с того, что иногда, между уроками закона Божьего, он рассказывал ученикам, причем исключительно добровольцам, о не столь древних периодах истории евреев, периодах, про которые ничего не написано в библейских легендах. В его устных рассказах оживали величайшие герои древности: Иуда Маккавей, Бен-Акиба, Бар-Кохба, а также совсем недавние: повстанцы варшавского гетто, первопроходцы земли Эреца. Были они людьми смелыми и сильными, на теле у них, надо думать, не было ни единого лишнего килограмма; если же они гибли – а гибли из них очень многие, – то причиной тому была не какая-то там невезучесть, а твердое желание собственной кровью смыть с еврейской нации позорное клеймо трусости. Да, они умерли, говорил Балла, тела их давно покоятся в сырой земле, но души их реют над нами, бдят над тем, что осталось от богоизбранного народа. Мы же должны быть достойны их.
О том, что это значит, быть достойным кого-либо, Роби Зингер не очень-то имел представление. Но слова учителя Баллы, имена, даты, события, о которых он говорил, строки стихов налипали на его мозг, притягивались к нему, как железные опилки к магниту, – прочно и навсегда. В самом начале месяца тевета, когда в школе объявлены были каникулы из-за нехватки угля, а в чугунной печурке, стоящей в интернате, в комнате приюта, мягко загудел огонь, пожирая расколотый на дрова стол для пинг-понга, учитель Балла затеял с воспитанниками необычную игру. А ну-ка, говорил он, пусть каждый выберет себе кого-нибудь из великих сынов еврейского народа, по возможности такого героя, на кого он больше всего хотел бы походить. В ответ звучали библейские имена: Авраам, Моисей, Иаков, Мордехай, – известные всем по урокам закона Божьего. Однако сейчас Балле хотелось знать, остались ли в головах его воспитанников имена тех, с кем именно он познакомил их первым. Например, в последний раз он рассказывал им про Бар-Кохбу, Сына Звезды, который долгие годы геройски – и успешно! – сражался против римлян, пока не пал в одной из стычек.
Роби Зингер испытал настоящий триумф: он догадался, что Балла хочет услышать сейчас именно это имя. И когда учитель, уже потеряв надежду, разочарованно оглядывал воспитанников: что ж, выходит, семя упало на бесплодную почву, – тут-то Роби Зингер поднял руку и, краснея, объявил: он хотел бы, чтобы его звали Бар-Кохба. Учитель с облегчением перевел дух, откинул со лба свои темно-каштановые волосы; в глазах у него светилась радость. «Я давно к тебе присматриваюсь, Зингер, – сказал он. – Ты настоящий историк, сынок». И с тех пор постоянно, пусть хотя бы по полчаса в день, занимался с ним: вызвав его в комнату дежурного воспитателя, рассказывал что-нибудь, потом выяснял, все ли, правильно ли он понял. А главное, в беседах этих, то ли в шутку, то ли всерьез, называл его Бен-Бар-Кохба, то есть: сын Сына Звезды. И Роби Зингер, слыша это, трепетал от счастья.
И все же сейчас, когда Роби Зингер ехал на тридцать третьем трамвае домой, на душе у него было неспокойно. Причиной этого был вчерашний разговор с учителем Баллой. Странным был уже сам момент, который Балла выбрал для этой беседы: по пятницам, в час, как в приюте готовятся зажечь свечи шабеса, дел у Баллы невпроворот, в такое время ему не до бесед об истории. Да речь об истории и не шла. Учитель сидел за письменным столом, воспитаннику же указал место напротив, на диване, под портретом Мозеса Мендельсона. «Сынок… – начал он. Потом помолчал, словно собираясь с духом, и снова сказал: – Сынок…» Тут он откашлялся; времени между двумя этими обращениями Роби Зингеру как раз хватило, чтобы вспотеть от волнения. «Роби, милый мой, – начал учитель в третий раз, на сей раз, видимо, набравшись решимости высказать то, что начал. – На следующий год тебе исполнится тринадцать. Думаешь ли ты о бармицве?» – «Думаю», – ответил Роби Зингер, бледнея. «Тогда думай об этом еще больше! – сказал Балла с едва заметной, разве что уголки глаз тронувшей улыбкой. – Кстати, – продолжил он чуть громче, давая понять, что за этим „кстати“ последует то, ради чего он и вызвал к себе Роби Зингера, – пора тебе, сынок, сделать обрезание».
Роби Зингер напрасно боялся, что дверь ему откроет мать. Еще на лестничной площадке он заметил, что стекло в кухонном окне, выходящем на галерею, густо запотело. Стало быть, это был один из тех субботних вечеров, когда бабушка замачивает белье. Прежде чем отнести белье в прачечную – а она это делала по понедельникам, с утра, – бабушка тщательно проверяла, достаточно ли оно чистое, нет ли на нем, не дай Бог, каких-нибудь подозрительных пятен. Вещи, которые казались ей особенно грязными, она складывала в таз, заливала горячей водой, потом выкручивала и развешивала сушиться. В прачечной бабушкину любовь к чистоте давно заметили и оценили. Однажды дежурная приемщица, выписывая бабушке квитанцию, даже сказала вслух – так, чтобы слышно было и следующему клиенту: «У всех бы такое грязное белье было!»
В такие вечера бабушка отсылала дочь из дому. «Поди, милая, погуляй, подыши воздухом», – говорила она, хотя на самом деле всего лишь хотела, чтобы та не путалась под ногами. Правда, на сей раз отсылать дочь ей не пришлось. Та, придя из «Ватекса», только проглотила подогретый обед – и тут же двинулась в свой обычный поход по врачам.
С медициной у матери вообще были тесные, почти задушевные отношения. А теперь, когда ее перевели на инвалидность и на службе, в «Ватексе», ей можно было проводить всего четыре часа в день, в поликлинику она ходила чуть ли не ежедневно. В таких случаях она, как выражалась бабушка, «скакала» на улицу Ченгери, сдавала в раздевалку зимнее пальто, брала в регистратуре пачку талонов и отправлялась по кабинетам. Начинала она чаще всего с нервного отделения, потом шла в стоматологию, в ревматологию, посещала дерматолога, терапевта, а в последнее время – еще и глазного врача. Врачи и медсестры приветствовали ее как старую знакомую, и, если иной раз, придя в поликлинику с какой-нибудь небольшой простудой, она пропускала визиты к другим специалистам, те, увидев ее в коридоре, шутливо грозили пальцем: «Вот как, мадам Зингер, изменяете, значит, изменяете нам?» Так что она без единого стона терпела и очереди, и процедуры, часто довольно неприятные, а то и мучительные, – ведь тут, в царстве белых халатов, люди вокруг подолгу, иной раз часами, занимались только ею, только ее самочувствием, только ее болезнями, и ради этого она готова была переносить что угодно.
В поликлинике на улице Ченгери были свои завсегдатаи, которые приходили туда как в клуб, – даже Роби Зингер чувствовал это: ведь он часто провожал туда мать. На белых скамьях меняли хозяев длинные истории болезни, а в периоды эпидемий гриппа, когда регистратуру заполняла кашляющая, чихающая, закутанная в шарфы и платки толпа, атмосфера напоминала какое-нибудь народное гулянье. За окошечками, к которым тянулись очереди, мелькали листки с анализами, бланки рецептов, больничные бюллетени; из приоткрытой двери рентгеновского кабинета сочился загадочный синеватый свет; двое санитаров расталкивали людей, пробиваясь в хирургическое отделение с каталкой, на которой лежала старуха с пергаментной кожей… Это был мир, где мать чувствовала себя своей и где царили обожаемые ею богоподобные существа, из которых не в одного и не в двух – иногда сразу в нескольких – она какое-то время была влюблена.
Раз в неделю медицинские походы матери заканчивались в кабинете с табличкой «Психотерапия» – там принимал свою клиентуру (вернее, то, что осталось от нее с добрых довоенных времен) профессор Надаи. Профессор был стар, туг на ухо, и в поликлинике его держали скорее из жалости, чем из уважения к нему, когда-то признанному авторитету в той области медицины, которая в последнее время стала подозрительной. Жалобы матери он слушал с выработанной за полстолетия привычкой всепонимания, не перебивая ее вопросами или репликами, разве что кивая иногда. Однако матери, видимо, вполне хватало этих кивков, и она преданно посещала профессора Надаи в его крохотном кабинетике, зажатом в закутке между ЭКГ и ухо-горло-носом.
Правда, кроме кивков, она обрела здесь еще кое-что: несколько лет назад старик психиатр выдал ей заверенную печатью справку, в которой значилось, что вдова Андорне Зингер страдает тяжелой формой неврастении, состоит у него, профессора Надаи, на учете и «нуждается в полном покое». Роби Зингер ни разу не видел, чтобы мать эту справку где-нибудь предъявляла, но знал, что мать хранит ее вместе с самыми дорогими своими реликвиями – его, Роби, фотографиями, и иногда сама достает и с очевидным удовлетворением разбирает написанные неразборчивым почерком строки.
Неврастения – это было достойное обрамление всех тех болезней, которые без остатка заполняли материны будни. Слово это не требовало объяснения, оно обладало убедительной самодостаточностью, оно было проще пареной репы и все же имело какой-то мистический смысл. Иногда мать дополняла его эпитетом «тяжелая», а то и – гораздо реже – латинским соответствием «gravis»; а уж совсем редко, в исключительных случаях, отваживалась повторять услышанный от профессора Надаи диагноз целиком: «Neurastenia anancastica gravis». Второе, греческое, слово внушало ей едва ли не гордость: ведь оно напоминало о роковом, непоправимом характере ее болезни, о том, что кого-кого, а уж ее-то за все это винить ну никак нельзя.
В самом деле, момент, который профессор Надаи попытался смягчить, выдав эту справку, был для матери Роби Зингера едва ли не роковым. Она служила в торговой конторе по продаже пишущих машинок; в один прекрасный день ее уволили. В качестве основания в приказе указывалась какая-то очередная рационализация. И руководство конторы поступило еще весьма благородно, не сообщив о настоящей, довольно скандальной, причине: дело в том, что за несколько месяцев, что мать проработала там, она почти напрочь забыла свою профессию – машинопись. В извещении, которое было вручено матери, об этом тактично умалчивалось, но сути дела это обстоятельство не меняло: мать решила, что он нее просто хотят избавиться. Выйдя из отдела кадров с трудовой книжкой в руках на лестничную клетку, она вдруг почувствовала, что у нее кружится голова и что еще немного – и она покатится вниз по ступенькам. Какое-то время она топталась на площадке, не зная, что делать, потом вернулась в отдел кадров и, вся в слезах, взмолилась: уж если ее так безжалостно выкинули на улицу, пускай хотя бы проводят до выхода. А через несколько дней ее положили в психиатрическую клинику им. Аттилы Йожефа на шестинедельный курс гипнотерапии.
Бабушка первое время надеялась, что, как только дочь найдет себе новую работу, способность ходить по лестницам к ней тут же вернется: как известно, клин клином вышибают. И искренне радовалась, когда та, выписавшись из клиники, довольно быстро устроилась на новое место. Беда только в том, что в «Ватексе», куда мать приняли на работу в статусе младшего обслуживающего персонала, на должность курьера с зарплатой восемьсот форинтов в месяц, и думать, конечно, не думали, что новая курьерша, добравшись до учреждения-партнера, своими силами способна попасть разве что только на первый этаж, а там, где нет лифта, так и будет стоять беспомощно, прижав к груди огромный ридикюль, а в другой руке держа портфель с важными документами.






