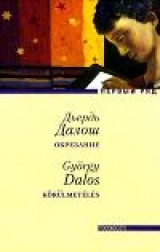
Текст книги "Обрезание"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Хозяева «Ватекса» быстро поняли, что использование такой рабочей силы чревато немалым риском для нормального процесса делопроизводства. В то же время они не могли не принять во внимание социальную неустроенность своей служащей и бесконечную услужливость, которая всегда светилась в ее глазах; поэтому при очередной реорганизации ей доверили пост вахтера, с внештатным статусом и половинным окладом.
Хотя матери и пришлось поплатиться за свою агорафобию половиной зарплаты, тем не менее именно там, в пронизанном сквозняками вестибюле, который теперь получил ранг проходной, где бегали туда-сюда инженеры и секретарши, она обрела наконец покой. Входя ли, выходя ли, служащие доброжелательно приветствовали ее, иной раз спрашивали о самочувствии, она же, принимая вежливое «как поживаете?» всерьез, давала им полный отчет о своем самочувствии: иногда с тихой, терпеливой улыбкой – дескать, ах, ну что тут поделаешь? – иногда с набегающими на глаза слезами. Агорафобия, однако, и не думала проходить, хотя против нее были пущены в ход уже не только средства современной психотерапии, но и такое серьезное оружие, как молитва. В Обществе братьев-евреев, верующих в Христа, за нее молился сам Исидор Рейтер. «Помоги сестре нашей Эржике!» – взывал он к Спасителю, хорошо зная, с какой легкостью тот решал подобные или даже куда более сложные задачи. «Встань и ходи!» – так мог бы прозвучать избавительный приказ; но, увы, где было чудесное касание, исцелявшее даже прокаженных, и вообще, какая польза была от смерти на кресте, если страдающий человек, вот, и ныне стоит, не в силах ступить даже на нижнюю ступеньку ведущей на второй этаж лестницы, стоит перед ежедневной Голгофой своего бессилия? Такой вопрос задавал себе Роби Зингер каждый раз, проходя мимо креста с буквами INRI, висящего в молитвенном зале евреев, верующих во Христа, и укоризненно смотрел на Иисуса, словно гипнотизируя его и ожидая, чтобы тот заговорил. Однако царь иудеев, покорно понурив голову, казалось, внимал лишь собственному смертельному забытью и, по-видимому, понятия не имел об агорафобии какой-то еврейки-курьерши, разжалованной в вахтерши; как, впрочем, избегал принимать к сведению и все прочие фобии. «Истинно говорю вам, – должно было бы, наверное, прозвучать из уст Исидора Рейтера, – процедура искупления не проста и не кратка, и нет такого земного несчастья, для которого можно было бы найти целительное средство лучше терпения».
Вскоре после того, как Роби Зингер прибыл домой, раздался звонок в дверь: пришла Гизика, неграмотная уборщица, которая от случая к случаю наводила порядок и у них в квартире. Гизика осталась у них от старых, довоенных времен, когда, по рассказам бабушки, семья еще могла позволить себе содержать приходящую прислугу. Доброжелательную, прилежную девушку порекомендовала им в те давние времена биржа труда, и с тех самых пор Гизика сохраняла им верность. Когда им пришлось перебираться в гетто, она со слезами простилась с ними, а после освобождения, как только они вернулись в прежнюю квартиру, Гизика тут же явилась, чтобы посредством щеток и тряпок помочь удалить следы вселившейся было туда семьи какого-то мелкого нилашиста. С тех пор она не бросает их, словно все еще чувствуя себя прислугой. Бабушку Гизика величает барыней, мать – барышней, а Роби – барчуком; и ко всем обращается на «вы». Роби Зингеру нравится ее почтительный тон; все-таки мы тоже кое-кто, думает он. Когда он говорит об этом бабушке, та, конечно, пускается в длинные объяснения, мол, никакие мы не баре, просто так сложилось в старые времена, и Гизика никак не может отвыкнуть от этого.
Однако Гизика знает, что на бабушкино сочувствие и помощь она всегда может рассчитывать.
Нынче она, например, пришла потому, что ей надо написать заявление в райсовет, чтобы вместо подсобной каморки, где она сейчас обитает, ей выделили хотя бы однокомнатную квартирку с кухней. Подобные бумаги всегда писала для нее бабушка, у которой очень даже развито правовое чутье; да и вообще Гизика смотрела на бабушку как на оракула. Единственным серьезным аргументом, с помощью которого они с бабушкой надеялись (правда, до сих пор без каких-то особых успехов) растопить равнодушие власти, было то обстоятельство, что отец Гизики в свое время, в дни Венгерской коммуны, сражался в рядах Красной армии против румын и за это был потом интернирован. С того момента, как они писали такое прошение в последний раз, ситуация изменилась в том смысле, что отец Гизики – у которого, кстати, интернирование на всю жизнь отбило охоту заниматься политикой – пару месяцев назад тихо и мирно приказал долго жить, из той самой каморки переселившись на тот свет. «Ой, барыня, а знали бы вы, как уж я судно ему таскала!» – с укоризной в голосе объясняла бабушке Гизика.
Бабушка полагала, что факт смерти отца нисколько не умаляет исконных прав Гизики. Заслуги все равно остаются заслугами, жилье же требуется не покойникам, а живым. С тем она достала отцовскую пишущую машинку и за каких-нибудь полчаса изобразила такое прошение, что любой адвокат позавидовал бы. «По вине проклятого старого строя я так и осталась неграмотной», – сообщала бабушка от имени Гизики, потом описывала во всех подробностях, как геройски вел себя отец уборщицы во времена славной Советской республики и с какой трогательной преданностью, до последнего вздоха, хранил у себя под подушкой удостоверение красного воина.
Когда бабушка прочитала Гизике выдержанное в поэтическом духе прошение, та расплакалась, а потом решительным тоном заявила: «Барыня, я сейчас маленькую комнату вам натру!» И, не дожидаясь ответа, пошла в прихожую и в одной из своих бесчисленных сумок нашла банку с мастикой. Банку эту она всегда таскала с собой, и запах мастики сопровождал ее невидимым облаком, вроде запаха пота или чеснока, который она поедала в больших количествах. «Нет-нет, – запротестовала вдогонку бабушка, – я ведь это из хорошего отношения писала, а полы натирать – работа, за нее плата положена».
В общем-то, если Гизика немного приберется в квартире, бабушка вовсе не возражала бы; но ей не хотелось, чтобы та встретилась с дочерью, которая вот-вот должна была вернуться из поликлиники. Дело в том, что в прошлый раз Гизика невольно допустила бестактное замечание в адрес барышни. Протирая пол в маленькой комнате, она вдруг взяла и сказала: «Эржике, вы ведь женщина красивая! Вон и личико у вас какое свежее. И чего это вы мужа себе никак не найдете?» Мать Роби выскочила в кухню и разрыдалась, а когда маленькая комната была готова, демонстративно заперлась там и весь вечер проплакала. А если иногда выходила, чтобы выпить глоток воды, то бросала на Гизику такой укоризненный взгляд, словно та была главной причиной ее загубленной жизни. «Ну вот, ночь мне сегодня обеспечена та еще», – сказала она бабушке, но так, чтобы и Гизика ее слышала. Та, совсем сбитая с толку, не могла понять, почему ее безобидное замечание вызвало такую бурю, и под конец, тоже расплакавшись, принялась просить у барышни прощения, в то время как бабушка делала ей отчаянные знаки, что уж теперь-то она лучше бы помолчала.
Это было время, когда бабушка с матерью не ходили в гости ни к кому из знакомых, да и те без особой нужды старались с ними не встречаться. Ведь никогда нельзя было знать, какая из оброненных фраз выведет мать из равновесия, в каких словах она будет маниакально искать намерение оскорбить, унизить, уничтожить ее. Эти фразы, эти слова вырывались у родственников или знакомых случайно: чаще всего это были доброжелательные советы вроде: «А ты попробуй как-нибудь заснуть без снотворного» или: «Сходила бы ты в кино, что ли». Но мать, слыша это, просто из себя выходила: и чего они лезут ей в душу, ребенок она, что ли, она вот никому не навязывается, она сама знает, что ей делать, куда ходить, куда не ходить. А когда не оказывалось под рукой чужих людей, поводы для обид можно было найти и в бабушкиных словах. Да, мать Роби Зингера прямо-таки ждала тех реплик, тех советов, которые прежде часто слышала от бабушки и которые та теперь предпочитала держать при себе, вроде: «Дочка, ты бы следила все-таки за собой!»; или в более мягком варианте: «Немножко думай и о себе!»
Неграмотную Гизику такая чрезмерная чувствительность, всегда готовая прорваться слезами, совершенно ставила в тупик; как поставил бы ее в тупик – вздумай кто-нибудь показать его ей – диагноз, поставленный «барышне» профессором Надаи. Гизика была человек абсолютно здоровый; хотя работала она по десять-двенадцать часов в день, ни бедность, ни одиночество были ей словно нипочем. С детских лет она работала на других: гладила, готовила, прибиралась, таская с собой из дома в дом, по бесконечным трамвайным маршрутам, сумки с тряпками и мастикой и крепкий кисловатый запах физического труда.
Вот почему бабушка опасалась новой встречи уборщицы с дочерью. Смирившись с тем, что Гизика взялась натирать полы, она то и дело поглядывала на стенные часы, ожидая, когда Эржике закричит с улицы, чтобы кто-нибудь спустился за ней и проводил по лестнице до квартиры. На сей раз, однако, произошло что-то невероятное: мать Роби Зингера вдруг сама появилась в дверях. Она просто-таки впорхнула в комнату, что при ее комплекции было достижением не пустячным. И, словно напрочь позабыв о недавнем инциденте, именно Гизике стала с воодушевлением рассказывать, что с ней нынче случилось. Возвращается это она домой, после визита к профессору Надаи, раздумывая о том, кто проводит ее до квартиры, – и тут видит на улице перед домом консьержа, господина Романа. «Вы не могли бы со мной подняться, господин Роман?» – спрашивает она робко, на что старик подает ей руку и, молодцевато сверкнув глазами, отвечает: «С вами, милая Эржике, хоть под венец!» Фраза эта матери так понравилась, что она повторила ее три раза подряд, с каждым разом все громче и восторженнее.
Бабушке, правда, событие это особой радости не доставило. Чему тут радоваться-то: консьержу сильно за шестьдесят, он женат, и вообще ухаживание его – чисто платоническое. Но она рада была, что дочь в хорошем настроении, и воспользовалась случаем, чтобы закрепить успех подходящим нравоучением: «Вот, дочка, я ведь тебе не зря говорю, что нельзя опускаться. За тобой еще мужчины на улице оборачиваются. Многие прыгали бы от радости, заполучи они такую жену». Тут бабушка испугалась и какое-то мгновение раздумывала, не сказала ли она что-нибудь такое, что дочь может воспринять как покушение на ее личность. Однако душевную гармонию матери сегодня, видимо, ничем нельзя было разрушить, так что и Гизика, облегченно переведя дух, осмелилась в конце концов внести свою лепту и, следом за бабушкой, тоже подбодрила молодую хозяйку: «Уж это точно, барышня. Вы вон и нынче такая аппетитная, будто вам всего-навсего сорок пять». Но на всякий случай все же спросила: «А сколько вам уже?» И «барышня» сама больше всех поразилась собственному ответу: «Летом сорок два стукнуло, Гизика». Над этим они, все трое, от души посмеялись. У бабушки даже слезы на глазах выступили.
Когда пол в обеих комнатах блестел, как зеркало, женщины решили завершить приятный вечер сытным ужином. Бабушка в эту субботу и так осталась почти довольна результатами своего похода за продуктами. «Знаете, девушки, – с гордостью рассказывала она, – захожу я в круглосуточный гастроном, и чего там только нет! Порошок яичный, масло, какао, и лимонная кислота, и русский хлеб, и даже колбаса по два форинта. Только за яблоками очень уж длинная была очередь. Ну ничего, куплю завтра на площади Хуняди, у мужиков».
От внезапно обрушившегося на них изобилия они слегка растерялись. К счастью, матери пришла в голову спасительная идея. «Давайте наварим макарон, – предложила она. – И Гизику угостим». Уборщица поначалу отнекивалась, дескать, ей до Пештэржебета далеко добираться. Сперва на «шестерке» до площади Борарош, оттуда ходит – когда ходит – автобус, на нем до конечной, а там еще минут двадцать пешком, по такой стуже-то. Но в конце концов она дала себя уговорить, и вскоре из кухни донеслось бульканье воды в кастрюле, а бабушка занялась подготовкой ингредиентов, которые должны были превратить серые, неопределенной консистенции макароны, слегка напоминающие клейстер, в праздничное блюдо. Роби Зингер вместе с бабушкой совершил экспедицию в кладовку – и там, к великому своему восторгу, в самом дальнем углу, в жестяной банке с надписью «Цикорий», обнаружил напрочь забытое, сказочное лакомство – горстку дробленых грецких орехов. Бабушка быстренько перемешала их с прошлогодним абрикосовым вареньем, и спустя каких-нибудь полчаса на столе в большой комнате стояло в красной кастрюле блюдо из блюд – сладкий лапшевник с орехами, поджаренный, в специально для этого случая разогретой духовке, до хрустящей корочки. Все, чего в лапшевнике, если подходить к нему с позиций максимализма, не хватало: мак, творог, ну, и немножко ванильного сахара, – бабушка перед тем, как подавать блюдо на стол, торжественно перечислила – таким тоном она обычно вспоминала дорогих покойников или уехавших за тридевять земель родственников. Вечер был чудесный. Роби Зингер вначале ревниво следил, достаточно ли в кастрюле лапшевника, хватит ли ему; да и мать с другого края стола бросала недоверчивые взгляды на большую, с верхом, порцию, которую бабушка первой подала – как-никак гостья – Гизике. Но вскоре оба: и мать, и сын – успокоились: бабушкина поварешка вывалила им на тарелки щедрые горки райского лакомства. Только сама бабушка от лапшевника отказалась: «У меня селезенка, мне нельзя» – и попила лишь чаю с печеньем.
После ужина мать, в соблюдение обычного ритуала, приняла свои лекарства: прежде всего, с учетом обильного ужина, две разных таблетки активированного угля – насчет которых у бабушки было сильное подозрение, что они нейтрализуют друг друга, – затем по таблетке беллоида и ношпы, после чего легла на диван, чтобы бабушка закапала ей в глаза капли, которыми она лечила свою самую свежую, семнадцатую по счету, болезнь, хронический конъюнктивит. Этот акт был уже своего рода намеком, адресованным Гизике, и бабушка тут же, для пущей ясности, тактично сформулировала намек и в словах: дескать, пусть никто не подумает, будто она хочет выпроводить Гизику, но эти окраинные автобусы – такие ненадежные… Гизика намек поняла и на прощанье рассыпалась в благодарностях сразу и за ужин, и за написанное прошение, и за десять форинтов гонорара за работу, которые бабушка, проводив ее в прихожую, с ласковой настойчивостью сунула ей в карман, так что уборщица, уже выйдя на лестничную площадку, все еще посылала хозяевам воздушные поцелуи.
Потом дверь была закрыта на ключ, на задвижку, и все пошли спать. Роби Зингер и бабушка на своей тахте еще прислушивались какое-то время, не донесутся ли из маленькой комнаты звуки, свидетельствующие о нервном перевозбуждении, о бессоннице. Но мать сегодня спала без задних ног, словно именно в этот вечер к ней, в душу ее пришел тот самый покой, право на который она, благодаря господину профессору Надаи, могла в любой момент удостоверить бумагой с печатью.
2
«И чего ты так любишь из всего делать проблему?» – сказал, качая головой, Габор Блюм, выходя вместе с Роби Зингером из кондитерской «Винце», что на площади Флориан. Карманы у обоих были набиты медвежьим сахаром, сладким ломом, обрезками сочней для торта и печенья, а в руках они держали по «зимнему мороженому», то есть по вафельному стаканчику, куда кондитер накладывал, в зависимости от настроения, побольше или поменьше сливок. «Сразу делаешь из всего проблему», – повторил Габор Блюм, и его миндалевидные глаза с подозрением обратились на лучшего друга. Габор Блюм был по крайней мере на голову выше Роби Зингера. Его продолговатое лицо, мясистый нос, смуглая креольская кожа и зачесанные назад волосы уже позволяли угадывать в нем, под обликом мальчика, будущего мужчину – красивого, уверенного в себе молодого человека, каким Роби Зингер стать даже и не мечтал.
Габор Блюм, конечно, был прав: он, Роби Зингер, любой вопрос готов раздуть и запутать до того, что и не разберешься. Ему покоя не дает даже такая простая на первый взгляд ситуация, что в понедельник, средь бела дня, он ходит по улицам с карманами, полными сладостей. Правда, бабушка рассматривает карманные деньги как право, освященное обычаем, и вечером каждого воскресенья добросовестно отстегивает внуку по пять форинтов: на всю будущую неделю. Но никогда не забывает при этом заметить, что для нее даже эта пустяковая сумма – серьезная трата, особенно в такие дни, как этот, когда от зарплаты осталось одно воспоминание и непонятно, откуда она возьмет денег, чтобы внести плату за интернат. Ей и так придется нести деньги лично, потому что, если по почте посылать, наверняка перевод придет позже срока. Она никогда не упускала случая сказать внуку: деньги следует тратить на что-нибудь стоящее и разумное, и если можно, постараться хоть что-нибудь сэкономить.
В понедельник, выйдя из школы, Роби Зингер с Габором Блюмом первым делом всегда отправлялись в кондитерскую «Винце», чтобы там за пару минут разбарабанить полученную дома дотацию. Правда, Роби Зингер делал это с тяжкими угрызениями совести, Габор Блюм же – играючи.
Каждый понедельник Роби ломал голову, можно ли считать медвежий сахар и «зимнее мороженое» вещами стоящими и разумными. До сих пор ему удавалось как-то утихомирить свою совесть – особенно когда он вспоминал о том, что интернатская кухня, существующая на сильно урезанные средства, по понедельникам обычно встречает воспитанников пустым тминным супчиком да макаронами с манкой, так что немножечко разнообразить меню сам Бог велел. Что же до Габора Блюма, он и не думал искать каких-либо оправданий для траты карманных денег; у него на этот счет и сомнений не возникало: деньги, они на то и деньги, чтобы их тратить.
Неодобрительное замечание, которое только что прозвучало из уст Габора Блюма, относилось не к привычным терзаниям, которые его друг испытывал, тратя свой капитал. Относилось оно к вопросу, который не переставал мучить Роби Зингера, пока они проделали путь от школы на Больничной улице до кондитерской «Винце» на площади Флориан. Вопрос этот можно было сформулировать так: прежде чем ответить согласием на прозвучавшее в пятницу вечером из уст учителя Баллы предложение сделать обрезание, не следовало бы повиниться перед ним, что по воскресеньям он, Роби, вместе с матерью ходит молиться в Общество братьев-евреев, верующих во Христа. «Да ты что? – воззрился на него Габор Блюм. – Балла нас с понедельника до субботы воспитывает, а чем мы занимаемся в воскресенье, на футбол ходим или на христианское богослужение, до этого ему никакого дела!»
Не все так просто, возразил ему Роби. Про футбол Моисей ничего не говорил, а вот чужим богам поклоняться запретил строго-настрого. Кто знает, может, и существует такая заповедь, по которой человеку, который хоть раз переступил порог христианской церкви, делать обрезание ни за что нельзя. «Это для меня слишком умно, – ответил Габор. – Какое тебе дело до заповеди, про которую ты даже не знаешь, есть она или нет? Если Балла считает, что тебе пора делать обрезание, то и делай, что он говорит. Если мне велит, я тоже сделаю».
Габор Блюм сказал это не просто так. Среди воспитанников Баллы он был вторым, кому не сделали обрезание в свое время, когда положено. Габор был моложе Роби Зингера всего на два месяца, так что у него тоже приближался срок бармицвы, а значит, можно было предположить, что скоро учитель и его позовет на дружескую беседу в дежурную комнату. Габор Блюм полагал, что случится это в ближайшие дни.
«И что ты скажешь Балле?» – поинтересовался Роби. «Как что скажу?» – недоуменно переспросил его Габор. «Согласишься?» – «А что же еще? – ошеломленно воскликнул Габор. – Ты-то, что ли, не согласишься?» – «Соглашусь! – испуганно ответил Роби. – Но все равно проблема». – «Проблема… – передразнил его Габор Блюм. – Тебе что, кусочка кожи жалко?»
В еврейских детских домах и приютах, куда Роби Зингера отдавали раз за разом с четырехлетнего возраста, требовался, кроме метрического свидетельства и справок о прививках, еще один документ. В нем должно было быть указано, что ребенок, принимаемый в детское учреждение, прошел обрезание на восьмой день от рождения. Бабушка, записывая Роби Зингера в очередной приют, вела себя странно. Неспешно и обстоятельно выложив на стол все имеющиеся документы, она вдруг принималась суетиться и краснеть, как безбилетник, которого поймали в трамвае. И потом путано лепетала что-то про воздушные налеты, про то, какой холодной была та зима, зима пять тысяч семьсот пятого года, и долго объясняла, что внук ее, родившись недоношенным, был слишком уж слаб для операции, которую Моисей объявил обязательной для каждого еврейского мальчика.
В приемной канцелярии Зуглигетского детского дома, содержащегося на средства Всемирного еврейского конгресса, у бабушки не спросили о причине, по которой семья не выполнила необходимый обряд. Наверное, никому в голову не пришло, что бабушка норовит протащить в общество еврейских детей маленького гоя. Но тогда же ее предупредили, что упущение нужно будет исправить, и не позднее чем перед бармицвой Роби Зингера.
До этого момента история Роби Зингера – вернее, история его необрезанности – не отличается от такой же истории Габора Блюма. Мать Габора в свое время несколько раз уже было выходила из своей квартиры на площади Клаузаль, чтобы отнести новорожденного сына на обрезание, но все время что-то происходило. То воздушную тревогу объявят, то опять же мороз случится: на дворе стояла та достопамятная зима пять тысяч семьсот пятого года. Короче говоря, мать Габора как-то забыла то, что она клятвенно пообещала мужу, когда его забирали в трудовые команды, откуда он так и не вернулся, – забыла, что должна была как можно скорее сделать обрезание их единственному ребенку. Словом, причины, на которые ссылалась вдова Блюм, мало чем отличались от доводов бабушки Роби Зингера; вот только у бабушки они звучали куда эффектнее. Чтобы не повторять свою историю каждый раз с начала и до конца, она объединила все тогдашние помехи и препятствия емким и изысканным выражением «vis major» [2]2
Здесь: непреодолимые обстоятельства (лат.).
[Закрыть]. И если мать Габора Блюма каждый раз завершала щекотливую тему словами: «Вот придет время, тогда и сделаем», то бабушка снова и снова возвращалась к своему «vis major».
А вообще-то она еще говорила, что в те времена – во времена, когда Роби родился, – необрезанность можно даже было считать везением.
Встретив на улице мужчину с еврейской внешностью, нилашисты заставляли его спускать штаны: проверяли, не еврей ли это и не нарушает ли он закон, разгуливая по городу без желтой звезды. И горе тому, кто оказывался обрезанным: его тут же вели к Дунаю, расстреливали и сбрасывали в ледяную воду. Словом, бабушка не хотела, чтобы с ее единственным внуком тоже когда-нибудь случилось подобное.
Странно, но бабушка, вопреки всякой логике, упорно считала, что война по-настоящему еще не закончилась. Да, конечно, русские побили немцев и в последнюю минуту сорвали план взрыва гетто; но дело все-таки до конца еще не улажено. Германия-то осталась, и даже, как говорила бабушка, «теперь этих Германий уже две»; правда, одна, говорят, демократическая, да что с этого толку: «знаем мы ихнего брата». Бабушка ни капли не удивилась бы, проснись она однажды утром от воя сирены воздушной тревоги, и привычно побежала бы не в кооператив по пошиву плащей и дождевиков, а в бомбоубежище.
При всем том бабушка никогда не заявляла категорически: дескать, как хотите, а делать ее внуку обрезание она не позволит. Даже наоборот, часто успокаивала Роби, говоря, что операция эта – сущий пустяк, «чиркнут скальпелем разик – и готово», всего пара минут, ну, еще недельку чуть-чуть поболит, а потом все забудется. И вообще обрезание – вещь полезная для здоровья, добавляла она, да еще и аристократическая. Скажем, даже в английской королевской мишпохе – а там-то уж все настоящие дворяне – новорожденных мужского пола обязательно обрезают. «Так что ты окажешься в очень даже хорошей компании», – утешала Роби Зингера бабушка.
Такая многообещающая перспектива, однако, ничуть не смягчала ужас Роби Зингера перед тем мгновением, когда врач в белом халате занесет скальпель над его беззащитным членом. В душевой или в спальне, когда воспитанники раздевались, готовясь ко сну, он украдкой поглядывал на органы своих однокашников. Смотри-ка, они давным-давно прошли через это – и ничего! Вон, например, восьмиклассник Амбруш, самый взрослый из них: его в свое время обрезали просто артистически. Он имеет полное право гордиться своим, внушительных размеров – и в длину, и в толщину – членом; и он таки да, гордится. Моясь, он то угрожающе помахивает им, демонстрируя остальным этот внушительный инструмент, исчерченный венами и украшенный, словно короной, темно-коричневой, дубленой головкой, то нежно намыливает и заботливо ополаскивает его.
Такого у меня никогда не будет, горько размышлял Роби, стоя под душем. Каждый раз, когда он пытался сдвинуть крайнюю плоть назад, он чуть не вскрикивал от боли. Чувствительная головка не выносила даже прикосновения кончиком пальца. А ведь мальчик должен заботиться о гигиене, особенно в этом месте, не уставал твердить им учитель Балла. «Держите ваш прибор в чистоте, – поучал он воспитанников, затем добавлял с лукавой улыбкой: – Он еще может понадобиться дамам».
Символ своего мужского достоинства Роби Зингер созерцал разочарованно. Даже по утрам, перед подъемом, когда член был напряжен, Роби он казался слишком уж коротеньким. Сморщенный, бледный, он вяло свисал на малопривлекательную мошонку. К тому же стоило Роби сжать свои округлые ляжки, весь прибор просто-напросто исчезал. В таких случаях из высокого зеркала, висящего на стене возле двери душевой, на него смотрел кто-то бесполый. С самоубийственной насмешкой Роби Зингер говорил себе: если от этого да еще и отнять что-нибудь, тогда уж точно хоть ни перед кем не показывайся раздетым. Габору Блюму хорошо, ему есть от чего отрезать, у него все равно еще останется.
И если бы он боялся только укорочения! Но в душе у него жил один куда более давний, куда более цепкий страх. В пуганых снах ему вновь и вновь являлся ужас, пережитый в раннем детстве: запах эфира и карболки, шелест температурных листков, ощущение близкой смерти, затаившейся в безмолвии больничных палат. Да ему и сон для этого видеть было не нужно. Достаточно было поднять левую руку и увидеть на ней три изуродованных пальца. Когда он родился, три эти пальца соединяла тонкая, как перепонка, кожа. «После как-нибудь придется прооперировать, – заметил врач, принимавший роды, и, чтобы успокоить встревоженную мать, добавил: – Ничего страшного, до свадьбы заживет».
Когда Роби Зингеру было четыре года, его прооперировали; было много крови, и в результате на левой руке у него появились три негнущиеся обрубка. Бабушка, сокрушенно качая головой, говорила о врачебной ошибке и утешала внука рассуждениями о виртуозной пластической операции, которая когда-нибудь даст возможность восстановить увечную руку. Однако Роби Зингеру чудес врачебной науки хватило по горло. Он молчал, когда сверстники дразнили его «колчеруким», и левую руку почти всегда держал сжатой в кулак. «Еще повезло, что не правая», – думал он.
А теперь его точила мысль: а вдруг врач, которому поручено будет сделать ему обрезание, тоже совершит врачебную ошибку? Ведь речь-то идет о такой части тела, у которой нет пары. Что, если скальпель сорвется и не ограничится крайней плотью? Как он тогда появится перед однокашниками в душевой? Сможет ли тогда жениться? И существует ли пластическая операция, которая способна исправить такое увечье?
У Роби Зингера и в мыслях, конечно, не было рассказывать учителю Балле о том, что он ходит на христианское богослужение, которое Габор Блюм так запросто приравнял к футболу. Нет, ни за что в мире нельзя этого говорить: учителя это очень огорчит; не говоря уж о том, что тогда наверняка придет конец увлекательным беседам о еврейской истории. А Роби так много хотелось бы еще узнать всего, особенно же услышать побольше добрых советов.
Например, он давно собирался расспросить Баллу о том, как защищаться от антисемитизма. Например, кто-нибудь остановит тебя во дворе школы и спросит: «Ты еврей?» То же самое может произойти и на улице: скажем, если ты вышел со двора синагоги. Ясно, тот, кто спрашивает, уже знает что-то или догадывается. Что в такой ситуации самое правильное: сказать «да», сказать «нет», возмутиться – или просто взять и убежать?
Габор Блюм, с которым они эту тему тоже обсуждали, был сторонником простых решений. «Если мне кто-нибудь задаст такой вопрос, – сказал он, – я сначала посмотрю, что это за человек. Сильнее меня или слабее? Если слабее, спрошу, мол, а тебе какое дело, и если он дальше будет хамить, дам ему по морде. Если сильнее, я опять же спрошу, какое ему до этого дело, потому что убежать я и тут успею».
Роби Зингер заведомо исходил из того, что слабее окажется он; к тому же из-за своего веса он и убежать-то не сможет достаточно быстро. К счастью, непосредственно сталкиваться с антисемитами ему пока не приходилось, так что дилемма, которую он хотел бы обсудить с учителем, была скорее теоретической. Балла, впрочем, уже дал некоторые подсказки насчет того, как воспитанникам вести себя, попадая в нееврейскую среду. В школе, объяснял он, они должны выделяться прежде всего хорошими отметками и примерным поведением, потому что, нравится это вам или нет, по одному еврею судят обо всех евреях в целом. «Мы должны знать больше и уметь лучше, чем все остальные», – со значением сказал он.
У Роби Зингера, правда, сложилось мнение, что этот совет оправдывается не во всех случаях. Ясно, например, что учительница Освальд, преподававшая в государственной школе венгерскую литературу и историю, любит интернатских, которые хорошо успевают по ее предметам. Когда она задает какой-нибудь вопрос и не видит поднятых рук, она с надеждой поворачивается к той части класса, где преобладают темные прически. «Ну, еврейчики, – ласково говорит она, – неужто и вы не знаете? А ведь вы-то всегда знаете все!»
Вот только не всем в классе нравилось это всезнайство. Многие считали интернатских выскочками; особенно отличались этим обитатели последних парт; они, кстати, составляли сплоченную группу, которая называлась «Клуб плохих парней»; главарем у них был долговязый Оцель.






