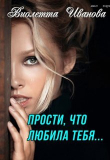Текст книги "Больше чем любовь"
Автор книги: Дениз Робинс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
6
В марте следующего года, через две недели после того, как мне исполнилось семнадцать лет, я навсегда покинула монастырь Святого Вознесения.
Это был один из самых замечательных дней в моей жизни. Я сидела в приемной с матерью-настоятельницей, которая давала мне последние наставления, необходимые, по ее мнению, для жизни в «большом мире».
Я никогда не забуду тот день. Всю ночь шел снег. На улице было белым-бело, и наши уродливые игровые площадки превратились в сияющие белые поляны. Даже промерзшие голые деревья и кусты казались прекрасными, когда их припорошил снег.
Я оглядела приемную, вдыхая знакомый запах пчелиного воска и скипидара. Вот большая пальма у окна, за которой ухаживают сестры-послушницы; жесткая полированная мебель; привычные изображения святых на стенах и маленькая скульптура святого Иосифа над дверью. Неужели это последний раз, когда мать-настоятельница говорит со мной как с ученицей? Теперь, даже если я и захочу прийти сюда снова, я буду только посетительницей. Но вряд ли мне этого захочется. Слишком печальным было здесь мое существование.
С радостью я подумала, что в последний раз поднялась с постели в шесть утра, разбила тонкую корочку льда в кувшине для умывания, съела скудный завтрак, состоящий из сваренной на воде каши, маргарина и черствого хлеба с крошечным кусочком мармелада, выпила кружку жидкого кофе, сидя за столом на длинной деревянной лавке рядом с десятками других постоянно недоедавших, промерзших девочек.
Мне ни с кем не было жаль расставаться. Моя подруга Руфь уехала из монастыря месяц назад, жила у Энсонов и, как она мечтала, стала портнихой.
Как приятно было сложить мое синее платье и знать, что мне больше не придется надевать его. Впервые за два года я была без уродливой монастырской формы. Мне выдали вещи, которые, по понятиям монахинь, подходили для «мирской» жизни.
Когда утром, прежде чем спуститься к матери-настоятельнице, я взглянула в единственное зеркало нашей спальни, перед которым мы причесывались, я увидела в нем новую, незнакомую Розелинду. Я уже давно отвыкла видеть хорошо одетых женщин и почти забыла, как выглядела моя мать или как она меня одевала, но изысканным вкусом я обладала, видимо, от природы. Я посмотрела на себя в зеркало, и у меня упало сердце: я выглядела просто пугалом. У монахини, которая отвечала за гардероб, всегда была какая-нибудь поношенная одежда, регулярно поступающая из благотворительных организаций или богатых католических школ, где обычно собирали поношенные вещи для «бедных сирот». Мне выдали жакет и юбку противного тускло-коричневого цвета и голубую вязаную кофточку, аккуратно заштопанную в нескольких местах. (Эти вещи были мне немного широки, потому что, несмотря на свои семнадцать лет, я была все такой же маленькой и хрупкой.) Коричневая фетровая шляпа еле держалась на моей голове. Завершали весь мой наряд сильно поношенные коричневые матерчатые перчатки и маленькая египетская кожаная сумочка с кисточками (я уверена, что монахини сочли эту сумочку особенно шикарной).
В этой сумочке лежала новенькая однофунтовая бумажка и немного серебра (все это выделил мне монастырь Святого Вознесения). Рядом стоял ветхий небольшой чемодан, в котором находились мои личные сокровища: смена белья, домашние тапочки, темно-синее кашемировое платье (для обедов и вечерних выходов) и еще один шерстяной джемпер мерзкого ярко-розового цвета (который я втайне решила никогда не надевать!).
Все это, да еще коричневое твидовое пальто, которое я несла в руке, и составило гардероб мисс Розелинды Браун.
Я выглядела так, как и должна была выглядеть девочка из монастырского приюта без гроша за душой. Но все эти вещи являлись для меня как бы символом свободы. Теперь меня должны называть «мисс Браун» и у меня будет работа, которую монахини нашли для меня. Предполагалось, что я начну карьеру младшей машинистки в конторе одной крупной страховой компании на Феррингтон-стрит и мне будут платить тридцать шиллингов в неделю. Монахини подыскали эту работу через известное им агентство. Это была надежная, хорошая работа в фирме с высокой репутацией. Мне предстояло жить в Эрлз-Корте, в доме вдовы, которая в свое время была пансионеркой монастыря и поэтому, как утверждала мать-настоятельница, была очень порядочным человеком и как никто другой могла присматривать за девушкой в моем нежном возрасте.
Все это прозвучало довольно сурово, и я признаюсь, что меня вдруг одолел некоторый страх. Но тем не менее я не заглядывала далеко вперед.
Я узнала, что старый друг моего отца и его поверенный писал матери-настоятельнице и просил передать мне, чтобы я обязательно обратилась к нему, если мне будет нужна помощь, и – щедрая добрая душа – он послал ей чек на двадцать фунтов и просил выдавать мне эти деньги по мере необходимости. Она сказала, что будет высылать мне по одному фунту в неделю, потому что, по ее мнению, молодой девушке нельзя давать в руки такую большую сумму сразу. Я кротко поблагодарила ее. В любом случае фунт в неделю был для меня целым состоянием. Из своего жалованья мне предстояло платить будущей квартирной хозяйке миссис Коулз целый фунт, значит, на еду и проезд у меня оставалось десять шиллингов. А всего я могла тратить тридцать шиллингов в неделю, по крайней мере до тех пор, пока не израсходую двадцать фунтов мистера Хилтона.
В то утро я узнала, что только благодаря доброте мистера Хилтона и миссис Делмер мне удалось получить специальность в монастырской школе.
Тронутая до глубины души и смущенная всем этим, я сказала преподобной матери, что буду изо всех сил стараться вернуть им свой долг.
Она улыбнулась, и ее аскетическое лицо в обрамлении монашеского убора немного смягчилось такой редкой для нее улыбкой.
– Может быть, ты не сможешь отплатить им золотом или серебром, Розелинда. Но ты вернешь им свой долг, если будешь хорошей девочкой, будешь старательно работать и помнить все, чему тебя здесь научили.
Я пообещала, что постараюсь.
Она как-то встревоженно посмотрела на меня, кашлянула и спросила, нет ли у меня к ней вопросов. Я, потупясь, совсем по-детски спросила: «Каких вопросов?»
Она вспыхнула и, казалось, не знала, что ответить.
Верная себе, она пыталась выполнить свой долг и подготовить меня к тому «безнравственному» миру, в который я вскоре должна была вступить, но она никак не могла заставить себя заговорить со мною откровенно. Она пробормотала что-то насчет мужчин и моей невинности и что я должна строго блюсти свою честь, ибо в один прекрасный день я встречу «хорошего человека», который женится на мне, и т. д. и т. п. Я выслушала ее очень внимательно, но не поняла и половины из того, что она имела в виду.
(За исключением того пустякового случая с Гарри Энсоном, который произошел прошлым летом, я ничего не знала об отношениях мужчин и женщин, о любви.) Мне было семнадцать лет, и я с гордостью считала себя хорошей машинисткой и стенографисткой, но в остальном оставалась все тем же не знающим жизнь ребенком, который два года назад поселился в монастыре Святого Вознесения, – ребенком, которого ограждала от всех тягот и трудностей родная мать, а затем монастырская жизнь. От других лелеемых детей этот ребенок отличался лишь тем, что познал страдания и горе: голод, холод и одиночество. Да, я знала, что такое страдание, хотя и не подозревала о страданиях иного рода, которые монахини называли «смертный грех».
Мне хотелось скорее начать новую жизнь, и я обрадовалась, когда зазвонил монастырский колокол, а мать-настоятельница поднялась и на прощание поцеловала меня.
– Надеюсь, ты будешь счастливой, Розелинда, – сказала она.
– Спасибо вам, преподобная мать, – ответила я. Она еще раз обеспокоенно посмотрела на меня. Не думаю, что она понимала меня, не было у нее ни малейшего представления и о той дикой радости, которая буквально жгла меня изнутри; о том, как мне хотелось стать самостоятельной, начать читать, приобретать хоть какую-то общую культуру, развиваться – одним словом, полностью использовать те привилегии, которые мне давала свобода.
– Жаль, что ты не католичка, Розелинда, – добавила она печально. – Вера помогла бы тебе.
А мне эта помощь была совсем не нужна. Я промолчала. Ведь об этом нечего было говорить. Я всегда упорно стояла на своем, когда речь заходила о смене религии. С самого начала я хотела остаться в лоне той церкви, где получила крещение, и у меня не было ни малейшего желания изменять этой церкви теперь.
Наконец я оказалась за воротами монастыря. Мать-настоятельница вызвала такси и щедро заплатила шоферу. Это было первым большим удовольствием. Я не садилась в машину так давно…
Оглянувшись, я некоторое время не отрываясь смотрела на мрачные здания монастыря, на фигурку Христа над крытой галереей и на крест на шпиле церкви. Я слышала голоса других девочек, которые играли в комнате отдыха, и прошептала: «Прощайте все… прощайте страдания…»
И вот я одна в такси. По заснеженной дороге, мимо Уимблдона, где мы столько раз гуляли, построившись парами, машина направилась в Эрлз-Корт.
Покрытый снегом Лондон засиял белизной и красотой. И мне стало весело. Я уже не думала о своей ужасной одежде, о своей бедности и полном одиночестве. Мне не было одиноко. В моей сумке лежали портрет Бетховена и фотографии мамы и папы. У меня было немного денег, и я могла пойти в гости к Руфи и Энсонам когда захочу. И моя дорогая подруга Маргарет все еще писала мне. Я постоянно получала длинные счастливые письма из Найроби. И Делмеры никогда не забывали меня, поздравляли на Рождество или в день моего рождения. Вот и сейчас я только что получила последнюю посылку, которую они прислали в монастырь: конфеты и коробку цукатов. На редкость вкусно по сравнению с тем, чем обычно кормили в монастыре.
Нет, я совсем не чувствовала одиночества. У меня были большие планы… Я очень хотела сделать свою жизнь интересной. Конечно, для этого нужны были деньги. Это я понимала. Я решила упорно трудиться, пока не заработаю достаточно денег, чтобы осуществить свою мечту: стать писателем или журналистом. Я мечтала о том, что, зарабатывая писательским трудом, я смогу скопить столько, сколько нужно для того, чтобы купить все, что мне хочется. Прежде всего я мечтала купить билет на какой-нибудь большой концерт или на балет.
Вот такие мечты охватили семнадцатилетнюю Розелинду Браун, когда она вступила в этот «порочный» мир в один из мартовских дней тысяча девятьсот двадцать пятого года. Представьте себе ее, беззаботно сидящую в такси в своем выцветшем костюме, с чемоданом и египетской кожаной сумочкой на коленях; представьте себе ее бледное личико, обрамленное короткими темными кудряшками, которое жадно смотрит в окно такси широко открытыми глазами. Представьте себе Розелинду с ее тайными надеждами и честолюбивыми мечтами, а также полным незнанием жизни.
В то утро и в тот час ее не оставляли иллюзии и уверенность в своей полной свободе. Для нее еще не пришло время разочарований, она еще не познала горькой правды о том, что мы никогда не обладаем полной свободой, что мы просто переходим от одного состояния несвободы к другому.
Этот первый вечер, который я провела вне стен монастыря, «на свободе», вызвал у меня такие неожиданные и волнующие чувства, что я радовалась по-настоящему. Хотя очевидно, что, если бы моя бедная мама посмотрела на меня с небес, она бы заплакала от жалости. Сотни более счастливых людей тоже пожалели бы меня. Но я не ведала лучшего в последние годы и потому была счастлива.
Дом миссис Коулз стоял на повороте, вблизи Кромвель-роуд. Таких домов – серых, узких, уродливых – в Лондоне немало. В доме был полуподвальный этаж, а позади дома располагался грязный крохотный дворик с одной-единственной липой, что и давало ему право называться садом. Окна были грязные, как, впрочем, и протертые до основы ковры и кружевные ноттингемские шторы. Миссис Коулз сдавала комнаты и кормила своих постояльцев в общей столовой, обставленной самой дешевой полированной ореховой мебелью. (Я до сих пор вижу этот ужасный буфет с зеркалом, резные шкафы, вечно грязную салфетку на буфете, мрачные шеффилдские кувшины и блюда и огромный бак для кипячения воды, которым никогда не пользовались.)
Моя комната находилась на верхнем этаже и ничем не отличалась от других: темная, тесная и убогая, с неудобной скрипучей кроватью и бугорчатым матрацем; комнату украшали сосновый гардероб с множеством ящиков и полоска драной ковровой дорожки. Стены, выкрашенные синей меловой краской, были с огромными пятнами сырости, и такое же большое желтое пятно было на потолке, которое осталось после того, как прорвало трубу. Над камином висела литография, изображавшая томную девушку с длинными волосами – в стиле Верн-Джоунза. Ее глаза были возведены к небесам, а в руках она держала букет лилий. Рядом с кроватью красовалась инструкция для жильцов, упреждающая их о том, что нельзя засорять раковину, нельзя дергать шторы, хотя они были уже наполовину оборваны, нельзя пользоваться ванной больше двух раз в неделю и т. д. и т. п.
Для меня все это было в новинку. Раковина с горячей и холодной водой – это же такой восторг! В монастыре горячую ванну принимали только раз в неделю, по субботам. Кроме того, была еще небольшая газовая плитка, на которой, опустив один шиллинг в маленькое отверстие, я могла вскипятить себе воды для грелки или чашки какао на ночь. Все это меня чрезвычайно обрадовало, так как о существовании подобных вещей я уже давно забыла.
Раскрыв свою маленькую сумочку, я поставила на каминную полку три фотографии – мамы, отца и Бетховена – и, довольная собой, огляделась по сторонам. Моя собственная комната! Какое это счастье после ужасной общей спальни! Сегодня я буду спать спокойно, лягу когда захочу и даже смогу почитать в постели. Какая прекрасная мысль! Не мешает купить что-нибудь для чтения, пока магазины не закрылись. Я бы могла записаться в библиотеку. И я должна, даже если после этого у меня совсем не останется лишних денег, воспользоваться газовой плиткой в этот холодный мартовский день.
Сей мрачный дом был для меня постоянным источником удивления, а миссис Коулз – настоящим ангелом. Она была от природы доброй женщиной, и мне повезло, что я поселилась у нее. Она помнила страдания и тяготы жизни в монастыре во времена своей одинокой молодости и поэтому постаралась как можно лучше приветить меня. Она вкусно накормила и дала мне много полезных советов. Казалось, она полюбила меня.
– Ты прямо как настоящая юная леди из хорошей семьи. Как мне известно, ты такая молодая и совсем одна, – сказала она.
Я засмеялась и стала убеждать ее, что мне уже семнадцать лет.
– Ну вот я и говорю – ребенок, – заметила она, вздохнув и углубившись в воспоминания о том, как она жила в монастыре и как получила первую «мирскую» работу.
Винифред Коулз была старше меня на двадцать лет. Дочь бедных родителей, своей специальностью она выбрала домашнее хозяйство. В моем возрасте она работала помощником повара в большом доме на Гровнор-сквер, затем сама научилась неплохо готовить и стала зарабатывать довольно прилично. Несколько лет назад она вышла замуж за дворецкого, они оставили службу и занялись сдачей комнат внаем. Мистер Коулз умер, а она решила продолжать общее дело. Это была полная добродушная женщина с вьющимися рыжеватыми волосами, неутомимая труженица. С помощью лишь одной никудышной горничной она вела дом, готовила и убирала для десятка постояльцев, обстирывала их. Ее мучила бронхиальная астма, и от этого у нее постоянно слезились глаза. До сих пор вижу, как старушка Вин (она любила, чтобы ее называли именно так), вытирая глаза краешком фартука, тяжело дыша и отдуваясь, с трудом поднимается или спускается по крутой лестнице. Ее не ожидало ничего хорошего, кроме тяжелой работы, но она не унывала и надеялась скопить достаточно денег, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Она рассказывала, что мечтает о собственном маленьком коттедже, кошке и о том времени, когда ей не придется работать.
– А ты будешь приезжать ко мне в гости и жить у меня сколько захочешь, Рози, – бывало, говаривала она.
Вин всегда называла меня Рози… С самого начала она как бы удочерила меня и по-матерински заботилась о моем благополучии те два года, что прожила я у нее в Эрлз-Корте. Ей я обязана тем, что вечерами могла готовить себе на маленькой газовой плитке (она, бывало, сама опускала шиллинг в автомат). Она часто приглашала меня погреться у камина в ее уютной гостиной. Вин же впервые повела меня в мюзик-холл (она любила шумные, вульгарные шоу и совершенно не могла понять моего интереса к хорошей музыке и классической литературе). Вин давала мне читать свои книги, в основном сентиментальные романы, захватывающие детективы и дешевенькие безвкусные журналы.
Часто она рассказывала мне о своей жизни с мистером Коулзом и о других мужчинах, которые хотели жениться на ней после его смерти, но она выбрала свободу. Вин сумела так осторожно и по-родственному посвятить меня в «деликатные стороны жизни», что это не только не повредило мне, но скорее наоборот. Под ее опекой я быстро повзрослела. Милая, простодушная Вин! Как добра она была ко мне. Я всегда буду вспоминать ее с благодарностью и печалиться при мысли, что она отошла в мир иной, прежде чем ей удалось осуществить свою мечту и поселиться в своем сказочном домике. Она умерла на своем посту в этом мрачном «доходном доме». Таковы превратности судьбы.
7
Иногда Вин сердилась на меня. Она утверждала, что я слишком скромна и не умею общаться с людьми. Ей хотелось уговорить меня встречаться с молодыми людьми и вообще развлекаться (она любила посещать Пале-де-данс, Хаммерсмит-холл и Дворец Челси). Ее удивляло, что, судя по всему, мне больше нравилось проводить свободное время за чтением или слушанием серьезной музыки. Когда мне удавалось, я ходила на концерты классической музыки. Я не забывала того, чему научил меня Дерек Энсон. И очень скоро познакомилась не только с Пятой симфонией, но и с другими произведениями Бетховена.
Я посещала эти концерты одна, и часто старушка Вин дулась на меня за это. Но я так ее любила, а она была так ко мне привязана, и мне хочется надеяться, что я принесла хоть какую-то долю радости в ее жизнь.
Со свойственным ей наивным снобизмом она любила слушать рассказы про «лучшие времена», про мой роскошный дом и экстравагантных родителей. Своим знакомым она представляла меня так: «Это Роза – она настоящая маленькая леди! А видели бы вы, что она читает! Старой Вин в жизни такого не понять!»
На самом деле она гордилась приобретенными мною знаниями, хотя и не одобряла моих занятий.
Сколько же я читала в те дни! Я почти не замечала своей работы в страховой компании. Помню только, что я все время монотонно стенографировала, а затем перепечатывала свои материалы. Помню скуку, боль в спине от долгого сидения за столом, поездки в метро на работу и домой. Помню, как с кем-нибудь из наших машинисток мы забегали в кафе проглотить невкусный завтрак. Но ни с кем из них я не смогла подружиться по-настоящему. Удивительно, но они, как и мои одноклассницы в монастырской школе, считали меня слишком тихой и замкнутой. Несколько раз тот или иной служащий нашей фирмы начинал воображать, что я отличаюсь особой красотой и обаянием, как когда-то решил Гарри Энсон, и пытался подойти ко мне и заговорить. Но никто из них мне не нравился. Я не хотела встречаться ни с кем из них (и это тоже печалило старушку Вин).
– Это же неестественно! Ты все время одна. Почему бы тебе не развлечься? Что тут такого, если какой-нибудь хороший мальчик поцелует тебя раз-другой? Тебе бы самой стало веселее, – так, бывало, говорила она.
Я убеждала ее в обратном, а она недоверчиво покачивала своей рыжей кудрявой головой.
– Ты все-таки очень странная. Ты что, думаешь никогда не влюбляться и не выходить замуж?
Я отвечала:
– Да, Вин, пока не найду того, кого смогу полюбить. Она снова качала головой, задыхаясь и утирая глаза.
– Не пойму я тебя, Рози. Подумай сама, ведь, прежде чем молодой человек станет твоим женихом, с ним надо познакомиться. А ты такая разборчивая.
Я улыбалась и целовала ее.
– Надо быть «разборчивой», когда речь заходит о муже. Кроме того, мне всего восемнадцать лет. У меня ведь еще много времени.
Ей пришлось согласиться хотя бы с этим – если уж ей так не нравилось мое отношение к жизни и любви.
А я жила в своих мечтах. Я с жадностью поглощала все книги о любви, которые до этого были для меня запретными. В любую погоду, зимой и летом, я ходила в публичную библиотеку, чтобы найти то, что мне хотелось прочитать. Старый библиотекарь часто помогал мне выбирать книги. Я боготворила Шекспира! Я поглощала книги сестер Бронте (особенно обожала «Джейн Эйр», сопереживая бедной сироте, понимая, что вынесла она в Ловуде. Это было похоже на мою жизнь в монастыре Святого Вознесения). Я рыдала над «Грозовым перевалом» и мучениями Хитклифа и его потерянной любовью. Я смеялась вместе с Джейн Остин[2]2
Остин, Джейн (1775–1817) – английская писательница, реалистически показала быт и нравы английской провинции
[Закрыть] и была очарована Теккереем и Диккенсом. Потом я перешла к современным писателям: с головой уходила в чтение романов Голсуорси, Уолпола,[3]3
Уолпол, Хью Сеймур (1884–1941) – английский писатель. В романе «Херии» (1930–1933) рассказал историю нескольких поколений одной буржуазной семьи на протяжении века
[Закрыть] Уэллса и пьес Бернарда Шоу.
Я наверстывала упущенное, по вечерам читала в постели до тех пор, пока не начинали слипаться глаза. Именно в это время у меня появились головные боли и переутомление, и в конце концов старушка Вин отвела меня к местному окулисту, который прописал мне очки (так появилась важная мисс Браун в очках в роговой оправе, над которой многие годы спустя смеялся мой дорогой Ричард). А за мои очки заплатила Вин.
Вместе с Вин я ходила навещать монахинь, хотя у меня не было никакого желания возвращаться в те места, где я была несчастна. Но милая, добрая Вин однажды сказала: «Послушай, Рози, давай на минутку заглянем к нашим милым старушкам – пусть нам будет и не совсем приятно, зато как же они обрадуются».
И я пошла с ней. Мы провели полчаса в приемной и, к удовольствию матери-настоятельницы, доказали, что мы обе ведем себя «правильно» и выполняем свой долг в этом «порочном» мире.
К тому времени, как стали иссякать мои двадцать фунтов, из которых преподобная мать посылала мне по одному фунту в неделю, я получила повышение по службе, став старшей машинисткой с жалованьем в два фунта, и это была хорошая поддержка. А внимательная Вин всегда помогала мне, если речь заходила о новом платье и туфельках или о поездке в Брайтон или Маргейт (с ее точки зрения, это было настоящим удовольствием). Ей я обязана первой со времен детства поездкой к морю. Как приятно было мне, безвылазно сидящей в лондонской квартире, отправиться в такое путешествие в самой середине мучительно жаркого лета.
Дважды я виделась с нашим адвокатом мистером Хилтоном. Он приглашал меня в ресторан Холборн и угощал на славу всякими вкусными вещами. Мы говорили с ним об отце, но он вежливо избегал темы о его мотовстве, а прежде чем попрощаться, опустил мне в карман пять фунтов. Он был уже немолод, занимался своими делами и семьей, и теперь, когда я уже стала взрослой и имела работу, ему не надо было беспокоиться обо мне. Ведь он не обязан был нести за меня ответственность.
Так и прошел первый год моей «мирской» жизни. И к тому времени, как вновь наступил день двадцать восьмого февраля и мне исполнилось восемнадцать лет, я была вполне самостоятельной молодой девушкой, которая уже не могла заблудиться в Лондоне.
Свой день рождения я, как и в прошлом году, провела у своих друзей Энсонов, которых я постоянно навещала.
Руфь была помолвлена и пригласила своего жениха к чаю. Это был вялый, флегматичный молодой человек в очках по имени Джордж Прайор. Он занимался торговлей чаем. Он все время просидел с Руфью в уголке, держа ее руку в своей, неотрывно глядя на нее. Я не понимала, как она могла в него влюбиться. У меня были другие представления о прекрасном мужчине, который мог бы стать моим мужем. Будущий супруг Руфи казался удручающе скучным. Но она выглядела вполне счастливой, и в каком-то смысле я ей завидовала. Я думала, наверное, неплохо, когда твое будущее определено. Но Руфь не собиралась выходить за него замуж тотчас же. Она успешно работала в своей фирме, но была еще ученицей, и ее тетя хотела, чтобы они повременили со свадьбой хотя бы полтора года.
Именно миссис Энсон отметила, что Роза изменилась со своего прошлого дня рождения.
Я вспомнила неуклюжее, бледное, стеснительное существо в монастырской одежде, которое сидело за этим столом и заливалось краской стыда, когда Гарри удостоил его своим вниманием. Конечно же, теперь я выглядела лучше. Теперь я была вполне прилично одета: на мне был серый шерстяной костюм, который старушка Вин приобрела для меня по сходной цене у одной из своих квартиранток, и белая строгая кофточка, которую ради такого торжественного случая Вин сама выстирала и выгладила. Мои кудрявые волосы были хорошо подстрижены, и я уже научилась пользоваться губной помадой. Я накрасила губы кораллово-розовой помадой, кроме того, я уже не была такой болезненно худой, как Розелинда времен монастырской жизни.
– Как же она хороша! – воскликнула Руфь. – Жаль, что Гарри ее сейчас не видит.
Я улыбнулась и спросила, что слышно о Дереке. Они ответили, что недавно получили известие о его женитьбе. Я почувствовала что-то вроде ревности и тут же спросила, любит ли его жена музыку. Миссис Энсон поморщилась и ответила:
– Слава тебе Господи, нет! Хватит нам одного Дерека. Он пишет, что она прекрасно готовит и отлично катается на коньках. Кажется, он и сам увлекся коньками.
Я была по-настоящему разочарована. Дерек, который ввел меня в мир Бетховена, Дерек, которому я поклялась любить классическую музыку, женился на девушке, потому что она хорошо готовит и катается на коньках. Я чувствовала себя обманутой. Он разочаровал меня, предав свои собственные убеждения. И это еще больше укрепило мое решение не выходить замуж за человека, который не любит музыку, как я.
Энсоны наперебой спрашивали, скоро ли у меня появится «молодой человек», и когда я ответила, что не знаю этого, Руфь сжала руку своего жениха и сказала:
– Она многого лишает себя, ведь правда, Джордж? Он застенчиво посмотрел на нее и пробормотал: —Да…
Я удивилась и подумала про себя: «Нет! Я уж лучше подожду. В таком деле нельзя спешить. Когда-нибудь они увидят, за какого прекрасного молодого человека я выйду замуж. А до тех пор буду читать и ходить на концерты. Мне пока и так хорошо!»
Но молодым свойственно менять настроение. Так и я сначала с головой окунулась в самообразование и увлеклась высоким искусством, но вдруг мне это наскучило. Почти как Дерек, я вскоре отказалась от своих интересов. Я решила, что старушка Вин, Руфь и другие девочки правы. Глупо «смотреть на всех свысока». В конце концов, мне около девятнадцати. Пора уже начать влюбляться, ходить на танцы, радоваться жизни и вообще, по выражению Вин, «вести жизнь, нормальную для молодой девушки». И, придя к такому заключению, я перестала ходить на концерты и читать классику. Я начала слоняться по кинотеатрам и пересмотрела уйму фильмов с участием Греты Гарбо, которая стала моей любимой актрисой, и Джорджа Брента, идеального героя-любовника.
Я принимала приглашения молодых клерков из нашей конторы, сидела рядом с ними в кино, они держали меня за руку своими горячими, липкими ладонями (я думаю, что получала какое-то детское удовольствие от всего этого), ходила на танцы и на прощание целовала своих поклонников. Мне даже казалось, что я немного влюблена в одного мальчика по имени Фрэнк Адамс, который работал со мной в одной комнате. У него были большие голубые глаза, длинные загнутые ресницы и вообще романтическая внешность.
Старушка Вин с удовольствием слушала мои девичьи признания и посчитала своим долгом пригласить Фрэнка к нам в гости и оставить нас одних в своей гостиной, у камина. Он принес мне большую коробку шоколадных конфет, и я грациозно устроилась на диване Вин, а Фрэнку позволила сесть на пол у моих ног и кормить меня конфетами, а я гладила его кудрявые волосы. В какой-то момент он уверенно уселся рядом со мной и начал вести себя довольно смело, я бы сказала, даже слишком смело. Поэтому через короткое время Фрэнк оказался на улице, а Вин, вернувшись, застала меня одну в слезах. Когда она захотела выяснить, в чем дело, я смогла только сказать:
– По-моему, мужчины отвратительны. Я не хочу, чтобы ко мне прикасались, и никогда больше ни с кем не буду встречаться.
Дорогая моя бедная старушка Вин втайне подозревала, что со мной не все в порядке. От удивления она не знала, что предпринять, и только гладила меня по спине, а потом, чтобы совсем успокоить меня, пошла и принесла мне большую чашку какао. Но я-то знала, в чем было дело: я просто не любила его, а притворяться не умела.
Миновал еще один период моей жизни – период развлечений и встреч с молодыми людьми, и я, наказанная по заслугам и немного обескураженная, вернулась к своим концертам и к очередному балетному сезону.
Жизнь в доме Вин продолжалась, и никаких особенных изменений не происходило. Со мной не случалось ничего – ни хорошего, ни плохого – вплоть до самого лета. Мне было почти двадцать, я зарабатывала три фунта в неделю и в свободное время начала писать короткие рассказы, которые никто не хотел печатать. Моей мечте стать писателем не суждено было осуществиться. Я попросту тратила время – вечерами печатала свои рассказы на взятой напрокат машинке – и деньги на марки, рассылая свою писанину редакторам-мученикам. Все до единой статьи, которые я посылала, возвращались обратно всегда с одной и той же разочаровывающей припиской: «Редактор очень сожалеет…» И так было до тех пор, пока один из ящиков стола доверху не наполнился отвергнутыми рукописями. Теперь, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю свои трогательные попытки писать, могу чистосердечно признаться, что меня сильно заносило. Я пыталась писать на крайне возвышенные темы, с пренебрежением относясь к более легким, популярным сюжетам, и поэтому мне не удавалось найти верный тон повествования. На какое-то время я отказалась от своих литературных занятий и, отчаявшись, решила, что мне не дано заниматься творческой деятельностью и уж лучше оставаться вечным читателем.
Но вот одним жарким, душным августовским утром в моей судьбе произошел поворот. Все привычные нити, связывавшие меня с Вин и ее домом, разом оборвались.
В то утро старушка Вин не спустилась, как обычно, на кухню готовить завтрак своим постояльцам. Маленькая служанка, которая помогала ей по дому, с испуганным лицом вошла ко мне в комнату и сказала, что миссис Коулз нашли мертвой в постели. У бедной милой Вин был тромбоз, но ни мы, ни она об этом даже не подозревали. Тромб закупорил сосуд мозга, и мир для нее навсегда перестал существовать. Для миссис Коулз это был легкий и быстрый конец, а для меня ее смерть означала вечную печаль и потерю одного из лучших и самых дорогих мне людей.