Сатиры
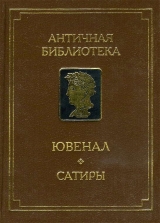
Текст книги "Сатиры"
Автор книги: Децим Ювенал
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Сатира четвертая

Снова Криспин, – и его нередко еще призову я
Роль исполнять: чудовище он, ни одна добродетель
Не искупает пороков его и больного распутства:
Только в разврате он храбр, незамужних лишь он презирает.
Ну, так не важно, на длинном ли поле гоняет коней он,
Или раскидисты тени тех рощ, куда его носят,
Сколько домов он купил и соседних с базаром участков:
Счастлив не будет злодей, а несчастнее всех нечестивец
И совратитель, с которым недавно лежала весталка,
10 Должная заживо быть погребенной за девства потерю.
Скажем сперва о пустячных делах. И однако, другой кто
Так поступи, как Криспин, – его нравов судом осудили б;
То, что позорно для честных, – для Тития, Сея, – Криспину
Было как будто к лицу: отвратительней всех преступлений
Гнусная личность его… Он купил за шесть тысяч барвену:
Как говорят о той рыбе любители преувеличить,
Весила столько она, сколько стоила тысяч сестерций.
Замысел ловкий хвалю, если он подношеньем барвены
Первое место схватил в завещанье бездетного старца;
20 Тоньше расчет, если он отослал ее важной подруге —
Той, что в закрытых носилках с широкими окнами носят.
Нет, ничуть не бывало: он рыбу купил для себя лишь!
Видим дела, коих жалкий и честный Апиций не делал.
Так чешую эту ценишь, Криспин, что был подпоясан
Нильским родным тростником, – неужели? Пожалуй, дешевле
Стоит рыбак, чем рыба твоя. В провинции столько
Стоят поля; апулийцы дешевле еще продают их.
Что же тогда за блюда проглатывал сам император,
Можно представить себе, когда столько сестерций – частицу
30 Малую, взятую с края стола за скромным обедом, —
Слопал рыгающий шут средь вельможей Великой Палаты!
Нынче он первый из всадников, раньше же он громогласно
Вел мелочную торговлю родимой сомовиной нильской.
О Каллиопа, начни!.. Но лучше – сиди: тут не надо
Петь, – говорится о правде. Пиэрии девы, гласите!
Пусть мне послужит на пользу, что девами вас называю.
Наполовину задушенный мир терзался последним
Флавием. Рим пресмыкался пред лысоголовым Нероном…
Камбала как-то попалась морская громадных размеров,
40 Около храма Венеры, что выше дорийской Анконы;
Рыба заполнила сеть – и запуталась в ней наподобье
Льдом меотийским покрытых тунцов (пока лед не растает),
После ж несомых на устья бурливого Черного моря,
Вялых от спячки и жирными ставших от долгих морозов.
Диво такое хозяин челна и сетей обрекает
Домициану: ведь кто бы посмел продавать это чудо
Или купить, когда берег – и тот был доносчиков полон!
Сыщики, скрытые в травах прибрежных, затеяли б дело
С тем рыбаком беззащитным; не совестно было б сказать им,
50 Что, дескать, беглая рыба была и долго кормилась
В цезаревых садках, удалось ускользнуть ей оттуда, —
Значит, к хозяину прежнему ей надлежит и вернуться.
Если мы в чем-либо верим Палфурию иль Армиллату, —
Все, что найдется в морях красивого, видного, – это
Фиска предмет, где ни плавал бы он. Чем камбалу бросить —
Лучше ее подарить. Ведь уже уступала морозам
Вредная осень, стихала больных лихорадка, и всюду
Выла уродка зима, сохраняя свежей добычу.
Впрочем, рыбак спешит, будто Австр его подгоняет:
60 Вот и озера внизу, где – хотя и разрушена – Альба
Пламя из Трои хранит и Весту Меньшую; на время
Путь загорожен при входе ему удивленным народом;
Вот расступилась толпа, открываются двери на легких
Петлях; сенаторы ждут и смотрят, как рыбу проносят —
Прямо к Атриду. «Прими подношение, – молвит пиценец. —
Слишком она велика для других очагов. Именинник
Будь же сегодня; скорей облегчи свой желудок от пищи,
Камбалу кушай, – она для тебя сохранилась такая,
Даже поймалась сама». Открытая лесть! И однако,
70 Царь приосанился: есть ли такое, чему не поверит
Власть богоравных людей, если их осыпают хвалами?
Блюда вот нету для рыбы такой; тогда созывают
На совещанье вельмож, ненавидимых Домицианом,
Лица которых бледнели от этой великой, но жалкой
Дружбы царя. По крику Либурна: «Бегите, воссел уж!» —
Первым спешит, захвативши накидку, Пегас, что недавно
По назначению старостой стал изумленного Рима.
(Чем же другим тогда был префект?) Из них наилучший,
Верный толковник законов, он думал, что даже и в злое
80 Время во всем надлежит поступать справедливо и мирно.
Прибыл и Крисп – приятный старик, которого нрав был
Кроткой природы, подобно тому, как его красноречье.
Кажется, где бы уж лучше советник владыке народов
Моря и суши, когда бы под гнетом чумы той на троне
Было возможно жестокость судить, подавая советы
Честно; но уши тирана неистовы: друг приближенный
Речь заведет о дожде, о жаре, о весеннем тумане, —
Глядь, уж повисла судьба говорящего на волосочке.
Так что Крисп никогда и не правил против теченья:
90 Был он совсем не из тех, кто бы мог в откровенной беседе
Высказать душу, готовый за правду пожертвовать жизнью,
Много уж видел он зим в свои восемь почти что десятков, —
Даже при этом дворе его возраст был безопасен.
Следом за ним поспешал такой же старый Ацилий
С юношей сыном, напрасно настигнутым смертью жестокой
От поспешивших мечей властелина. Но стала давно уж
Чуду подобной старость людей благородного званья
(Я б предпочел быть маленьким братом гиганта без предков!):
Сыну Ацилия не помогло, что он на арене
100 Альбы охотником голым колол нумидийских медведиц.
Кто же теперь не поймет всех хитростей патрицианских?
Кто остроумию старому, Брут, твоему удивится?
Труд невелик – обмануть бородатого Домициана.
Шел на совет с недовольным лицом, хоть он не из знатных,
Рубрий, виновный когда-то в проступке, покрытом молчаньем,
Более подлый, чем некий похабник, писавший сатиры.
Вот появился и толстый Монтан с его медленным брюхом;
Вот и Криспин, с утра источающий запах бальзама,
Будто воняет от двух мертвецов; и Помпей, кровожадней
110 Даже Криспина, умевший душить лишь шепотом легким;
И приберегший в добычу для коршунов Дакии тело
Фуск, разбиравший сраженья, сидя в своей мраморной вилле;
И Вейентон осторожный, и рядом Катулл смертоносный,
Страстью пылавший к девице, которой совсем не видал он,
Злое чудовище, даже в наш век выдающийся изверг,
Льстивец жестокий, слепец, – ему бы к лицу, как бродяге,
С поводырем у телег арицийских просить подаянье
Да посылать благодарность вослед уезжавшей повозке.
Камбале он удивился всех больше и высказал много,
120 Весь обернувшись налево (а рыба лежала направо):
Так-то уж он прославлял и Килика бои, и удары,
Пегму, и мальчиков, что подлетают под занавес цирка.
Не уступал Вейентон: пораженный жалом Беллоны,
Так говорил изувер, прорицая: «Ты в этом имеешь
Знаменье дивное славного, царь, и большого триумфа.
Ты полонишь другого царя: с колесницы британской,
Верно, слетит Арвираг. Чужеземная рыбина эта;
Видишь шипы у нее на спине?» – Фабрицию только
Недоставало бы возраст привесть да отечество рыбы.
130 «Что же, как думаешь ты? Разрезать ее? Было бы, право,
Это позором, – Монтан говорит. – Пусть глубокое блюдо
Сделают, чтобы вместить в его стенки такую громаду;
Нужен для блюда второй Прометей, великий искусник.
Глину скорей доставайте и круг гончарный; отныне
Цезаря сопровождать гончаром бы нужно придворным».
Мужа достойный совет был принят: по опыту знал он
Роскошь былую двора, ночные попойки Нерона,
Новый подъем аппетита, как дух от фалерна захватит.
Этак поесть, как Монтан, в мое время никто не сумел бы:
140 Он, лишь едва укусив, узнавал об отечестве устриц, —
Будь у Цирцейского мыса их род, у утесов Лукрина,
Или же вынуты были они из глубин рутупийских;
Только взглянув на морского ежа, называл его берег.
Встали: распущен совет; вельможам приказано выйти.
Вождь их великий созвал в альбанский дворец изумленных,
Всех их заставил спешить, как будто бы он собирался
Что-то о хаттах сказать, говорить о диких сикамбрах,
Точно бы с самых далеких концов земли прилетело
На быстролетном пере письмо о какой-то тревоге.
150 Если б на мелочи эти потратил он все свое время
Крайних свирепеть, когда он безнаказанно отнял у Рима
Славных людей, знаменитых, без всяких возмездий за это!
Сгинул он после того, как его забоялась меньшая
Братия: так он погиб, увлажненный Ламиев кровью.
Комментарии
Сатира пятая

Если не стыдно тебе и упорствуешь ты, полагая,
Будто бы высшее благо – кормиться чужими кусками,
Если ты можешь терпеть, что не снес бы Сармент и презренный
Габба среди унизительных яств у Августа в доме, —
Я не поверю тебе, хоть бы клялся ты мне под присягой.
Знаю, желудок покладистей всех; однако представь, что
Нету того, что достаточно было б для брюха пустого, —
Разве нет места на пристани, разве мостов нет повсюду
Или рогожи клочка? Разве стоит обед униженья
10 Столького, разве так голод свиреп? Ты на улице можешь
Более честно дрожать, жуя корку собачьего хлеба.
Помни всегда: раз тебя пригласили обедать к патрону,
Стало быть, ты получаешь расчет за былые услуги;
Пища есть плод этой дружбы, ее засчитает «владыка»,
Как бы редка ни была, – засчитает. Ему захотелось
Месяца так через два позабытого видеть клиента,
Чтобы подушка на третьем сиденье пустой не лежала.
Он говорит: «Пообедаем вместе!» Вот верх вожделений!
Больше чего ж? Ради этого Требий прервет сновиденье,
20 Бросит ремни башмаков, беспокоясь, что толпы клиентов
Всех-то патронов уже обегут с пожеланьем здоровья
В час, когда звезды еще не потухли, когда описует
Круг свой холодный повозка медлительного Волопаса.
Ну, а каков же обед! Такого вина не стерпела б
Для промывания шерсть. Пировать будешь ты с корибантом.
Брань – для вступленья, а там, опьянясь, ты запустишь и кубком,
Раны свои отирая салфеткою, красной от крови,
Как загорится вокруг сагунтинской бутыли сраженье
Между когортой отпущенников и отрядом клиентов.
30 «Сам» попивает вино времен консулов долгобородых,
Гроздь сберегая, которую жали в союзные войны,
Но не подумает чашу послать больному желудком
Другу; назавтра он выпьет кой-что из альбанской, сетинской
Горной лозы, чье имя и родина старостью стерты
С глины старинных сосудов вина, совсем закопченных.
Вина такие Тразея пивал и Гельвидий, с венками
На головах, в дни рождения Брутов и Кассиев. Держит
Только Виррон свою крупную чашу – слезу Гелиады,
Много бериллов на ней; но золота не доверяют
40 Вам, а уж если дадут, так тут же приставлен и сторож —
Камни считать да смотреть за ногтями хищных клиентов.
Уж извини: у него знаменитая чистая яшма,
Ибо Виррон переносит на кубки камни из перстней, —
Камни, какими всегда украшал свои ножны снаружи
Юный Эней, предпочтенный Дидоной сопернику Ярбе.
Ты ж осушать будешь кубок сапожника из Беневента:
О четырех этот кубок ногах и уж треснувший вовсе,
С полуразбитым стеклом, что нуждается в серной замазке.
Если хозяйский живот воспален от вина и от пищи, —
50 Нужен отвар холодней, чем иней на родине гетов,
Только что я пожалел, что вино подают вам другое:
Вы ведь и воду-то пьете не ту! Тебе кубок подносит
Гетул-бегун, иль худая рука черномазого мавра,
Или такой, с кем бы ты не хотел повстречаться средь ночи,
Мимо гробниц проходя по холмистой Латинской дороге;
Перед «самим» – всей Азии цвет, что куплен дороже,
Нежели стоил весь ценз боевого Тулла иль Анка,
Или, короче сказать, всех римских царей состоянье.
После всего посмотри на гетульского ты Ганимеда,
60 Если захочется пить: этот мальчик, что куплен за столько
Тысяч, – вино наливать беднякам не умеет, но облик,
Возраст – задуматься стоит. Неужто к тебе подойдет он?
Явится разве на зов твой слуга с кипятком и холодной?
Брезгует он, конечно, служить престарелым клиентам;
Что-то ты требуешь лежа, а он-то стоит пред тобою.
В каждом богатом дому таких гордых рабов сколько хочешь.
Вот еще раб – с какой воркотней протянул к тебе руку
С хлебом, едва преломленным: как камни куски, на них плесень,
Только работа зубам, откусить же его невозможно.
70 Но для хозяина хлеб припасен белоснежный и мягкий,
Тонкой пшеничной муки. Не забудь сдержать свою руку,
Пусть сохранится почтенье к корзине! А если нахален
Будешь, – заставят обратно тебя положить этот хлебец:
«Дерзок ты, гость, не угодно ль тебе из обычных корзинок
Хлеб выбирать да запомнить, какого он цвета бывает». —
«Вот значит, ради чего постоянно, жену покидая,
Через холмы я бежал к эсквилинским высотам прохладным,
В пору весны, когда небо свирепейшим градом трещало
И с плаща моего дождевые потоки стекали!»
80 Глянь, какой длинный лангуст растянулся на блюде всей грудью!
Это несут «самому». Какой спаржей он всюду обложен!
Хвост-то каков у него! Презирает он всех приглашенных
При появленье своем на руках долговязого служки.
Ставят тебе – похоронный обед: на крошечном блюде
Маленький рак, а приправа к нему – яйца половинка.
«Сам»-то рыбу польет венафранским маслом, тебе же,
Жалкому, что подадут? Лишь бледный стебель капустный
С вонью лампадной: для вас, мол, годится и масло, какое
К Риму везет востроносый челнок камышовый миципсов,
90 Из-за которого здесь не моются с Боккаром в бане:
Тот, кто потрется им, тот и укуса змеи не боится.
Лишь для хозяина будет барвена из вод корсиканских
Или от тавроменийской скалы: при жадности глоток
Все уж опустошено, истощилось соседнее море,
Рынок обшарил ближайшие воды густыми сетями
До глубины, и расти не даем мы рыбе тирренской.
В кухню припасы идут из провинции: там добывают
То, что закупит Лена-ловец, а Аврелия сбудет.
Так и Виррону мурену везут преогромную прямо
100 Из сицилийских пучин: коли Австр не дает себе воли,
Временно сидя в пещере, и сушит замокшие крылья,
Смелые сети судов не боятся пролива Харибды.
Вам подадут лишь угря (это родственник змеям ползучим)
Или же рыбу из Тибра, всю в пятнах от холода, местных
Жительницу берегов, что жирела в пучине клоаки
И под Субурой самой проникала в подземные стоки.
Я бы сказал кое-что «самому», если ухо подставит:
«Знаешь, не просит никто, что давал своим скромным клиентам
Сенека, чем одарял их добрейший Пизон или Котта:
110 В те времена угощения слава ценилась дороже,
Нежели знатное имя и консула званье. Но только
Требуем мы одного – чтоб обедал ты как подобает.
Будь ты богат для себя, для друзей же, как водится, беден».
Перед хозяином – печень большого гуся да пулярка
Тоже с гуся, и дымится кабан, что копья Мелеагра
Стоил бы; там подадут трюфеля, что в весеннюю пору
После грозы вырастают желанной и круг увеличат
Яств за обедом. «Оставь себе хлеб свой, ливиец, – Алледий
Скажет, – волов распряги; только мне трюфеля посылай ты!»
120 К вящей досаде теперь созерцай разрезателя мяса,
Как он вприпляску орудует, нож его так и летает,
Все соблюдая приемы его мастерства и традиций;
И, разумеется, здесь очень важно различие жеста
В том, как зайца разрежет и как разобьет он пулярку.
Только осмелься хоть раз заикнуться, что ты, как свободный,
Носишь три имени, – за ноги стащат тебя, будто Кака,
Что Геркулесом сражен и выкинут за дверь. Здоровье
Пьет ли твое Виррон и возьмет ли твой кубок пригубить?
Кто же настолько забывчив из вас и так безрассуден,
130 Чтобы патрону-царю сказать: «Выпей». Ведь слов таких много,
Что и сказать не посмеет бедняк в потертой одежде.
Если какой-нибудь бог, человек ли богоподобный,
Тот, что щедрее Судьбы, подарил бы четыреста тысяч, —
Стал бы каким из ничтожества ты, каким другом Виррону!
«Требию дай!.. Поставь перед Требием!.. Скушай же, братец,
Стегнышко!» Деньги! пред вами кадит он, вы ему – братья.
Если, однако же, стать ты хочешь царем и владыкой,
Пусть на дворе у тебя не играет малютка Энейчик
Или же дочка, нежнее еще и милее сыночка.
140 Только с бездетной женой будет дорог друг и приятен.
Правда, Микала твоя пусть рожает и сыплет на лоно
Мужнее тройню зараз: будешь тешиться «сам» говорливым
Гнездышком этим, велит принести себе панцирь зеленый
Или орешков помельче, обещанный асс подарит он,
Как лишь к столу подойдет попрошайка – ребенок Микалы.
Низким друзьям подаются грибы сомнительных качеств,
Лучший же гриб – «самому», из тех, какие ел Клавдий,
Вплоть до гриба от жены, ибо после уже не обедал.
После Виррон для себя и для прочих Вирронов прикажет
150 Дать такие плоды, что и запахом ты насладишься:
Вечная осень феаков такие плоды приносила:
Можно подумать, что выкрали их у сестер африканских.
Ты ж насладишься корявым яблоком наших предместий,
Где их грызут обезьяны верхом на козлах бородатых,
В шлемах, с щитами, учась под ударом бича метать копья.
Может быть, думаешь ты, что Виррона пугают расходы?
Нет, он нарочно изводит тебя; интересней комедий,
Мимов занятнее – глотка, что плачет по лакомству. Знай же:
Вся та затея к тому, чтобы желчь ты вылил слезами,
160 Чтобы принудить тебя скрежетать зубами подольше.
Ты хоть свободный и – думаешь сам – собутыльник патрону,
Все ж он считает, что ты привлечен ароматами кухни;
Не ошибается он: в самом деле, кто так беззащитен,
Чтобы два раза его выносить, если кто носил в детстве
Знак из этрусского золота или хоть кожаный шарик?
Вас обманула надежда на вкусный обед. – «Вот ужо он
Даст нам объедки от зайца, кой-что от кабаньего зада,
Вот ужо мелкая птица дойдет до нас». Так, приготовив
Хлеб и сминая его, остаетесь в безмолвии все вы.
170 Этак с тобой обращаться умно. Выносить можешь все ты —
И выноси! Под щелчки ты подставишь и голову с бритой
Маковкой, не побоишься принять и удары жестокой
Плети; достоин вполне ты и пира, и друга такого.
Комментарии

Книга II
Сатира шестая

Верю, что в царстве Сатурна Стыдливость с людьми пребывала:
Видели долго ее на земле, когда скромным жилищем
Грот прохладный служил, которого тень заключала
Вместе весь дом – и огонь, и ларов, и скот, и владельца;
В те времена, что супруга в горах устилала лесное
Ложе соломой, листвой и шкурами дикого зверя.
Эта жена не такая была, как ты, Цинтия, или
Та, чьи блестящие взоры смутил воробей бездыханный:
Эта несла свою грудь для питания рослых младенцев,
10 Вся взлохмачена больше, чем муж, желудями рыгавший,
Да, по-другому тогда в молодом этом мире, под новым
Небом жил человек; рожденный из трещины дуба
Или из глины комка, не имел он родителей вовсе,
Может быть, сколько-нибудь следов Стыдливости древней
Были заметны еще при Юпитере, но лишь пока он
Не отрастил бороды, когда греки еще не решались
Клясться чужой головой, никто не боялся покражи
Зелени или плодов, и сады оставались открыты.
Вскоре затем к высоким богам удалилась Астрея
20 Вместе с Стыдливостью: обе сестры убежали совместно.
С самых старинных времен ведется, мой Постум, обычай
Портить чужую постель, издеваться над святостью ложа.
Скоро железный век все другие принес преступленья, —
Первых развратников знали уже и в серебряном веке.
Все же готовишься ты к договорным условиям брака.
Ищешь помолвки – в наши-то дни! – и прическу наводишь
В лучшей цирюльне; пожалуй, уже обручен ты с невестой?
Был ты в здравом уме – и вдруг ты женишься, Постум?
Гонит тебя Тизифона, ужален ты змеями, что ли?
30 Хочешь терпеть над собой госпожу? Ведь есть же веревки
Крепкие, окна открытые есть на жутких высотах;
Вон и Эмилиев мост поджидает тебя по соседству.
Если из многих смертей ни одна тебе не по вкусу,
Разве не лучше тебе ночевать хотя бы с мальчишкой?
Ночью не ссорится он, от тебя не потребует, лежа,
Разных подарочков там и тебя упрекать он не станет,
Что бережешь ты себя и ему не во всем потакаешь.
«Принял Урсидий закон о женитьбе, что Юлием издан:
Хочет наследника милого дать, – забывает он горлиц,
40 Спинки барвен забывает и все поглощающий рынок».
Если кто-то и впрямь за Урсидия замуж выходит, —
Может случиться все. Давно всем известный развратник
Глупый свой рот протянул к недоуздку, – и это сидевший
Столько уж раз в ларе ожидавшего смерти Латина!
Что ж, и ему захотелось жены старомодного нрава?
Вену открой ему, врач: надулась она черезмерно.
Что за нелепый чудак! Если ты повстречаешь матрону
С чистой, стыдливой главой, – припади к Тарпейскому храму
Ниц и телку Юноне зарежь с позолоченным рогом:
50 Так мало женщин, достойных коснуться повязок Цереры,
Чьи поцелуи не страшны отцу их. – Вот и сплетайте
Для косяков их венки, для порогов густые гирлянды.
Вот, Гиберине единственный муж достаточен? Легче
Было б ее убедить – с единственным глазом остаться.
Правда, хвалят одну, что живет в отцовской усадьбе
Пусть-ка она поживет, как жила в деревне, – в Фиденах,
В Габиях, скажем, – и я уступлю отцовский участок.
Даже и тут – кто заверит, что с ней ничего не случилось
В гротах, в горах? Разве Марс и Юпитер вконец одряхлели?
60 Где бы тебе показать под портиком женщин, достойных
Жертвы твоей? Разве можешь найти ты в театре такую,
Чтобы ты выбрал ее и мог полюбить безмятежно?
Видя Бафилла, как он изнеженно Леду танцует,
Тукция вовсе собой не владеет, а Апула с визгом.
Будто в объятиях, вдруг издает протяжные стоны,
Млеет Тимела (она, деревенщина, учится только);
Прочие всякий раз, когда занавес убран, пустынно
В долго закрытом театре и только на улицах шумно
(После Плебейских игр – перерыв до игр Мегалезских), —
70 Грустно мечтают о маске, о тирсе, переднике Акка.
Урбик в эксодии всех насмешит, сыграв Автоною,
Как в ателланах; напрасно ты, Элия, Урбика любишь,
Бледная: ведь дорога застежка у комедианта!
Есть и такие, что петь не дают Хрисогону; Гиспулла
Трагика любит. – Не жди, чтоб влюбились в Квинтилиана.
Женишься ты, а жене настоящим окажется мужем
Иль Эхион-кифаред, иль Глафир, или флейта-Амброзий.
Ставьте подмостки в длину всех улиц узких, богато
Лавром украсьте все косяки и дверные пороги:
80 Лентула знатный сынок в своей черепаховой люльке
Весь в Эвриала пошел иль в другого еще мирмиллона!
Бросивши мужа, жена сенатора Эппия с цирком
В Фарос бежала, на Нил и к славному городу Лага;
Сам Каноп осудил развращенные нравы столицы:
Эта блудница, забыв о супруге, о доме, о сестрах,
Родиной пренебрегла, позабыла и детские слезы,
После же – странно совсем – и Париса забросила с цирком.
С детства росла средь великих богатств у отца и привыкла
Спать на пуху в своей золоченой, резной колыбели,
90 Но одолела моря, как раньше честь одолела
(Дешево стоило честь потерять на мягких сиденьях).
Смело и стойко она и терренские вынесла волны,
И далеко раздающийся шум Ионийского моря;
Много морей ей пришлось переплыть. Но когда предстоит им
Выдержать праведный искус и честный, то женщины трусят:
Их леденеют сердца и от страха их ноги не держат.
Храбрости хватит у них на постыдное только дерзанье.
Если прикажет супруг на корабль взойти, – тяжело ей:
Трюм противен, вонюч, в глазах все ужасно кружится.
100 Если с развратником едет, она здорова желудком,
Эту при муже рвет, а та, с моряками поевши,
Бродит себе по корме и охотно хватает канаты.
Впрочем, что за краса зажгла, что за юность пленила Эппию?
Что увидав, «гладиаторши» прозвище терпит?
Сергиол, милый ее, уж давно себе бороду бреет,
Скоро уйдет на покой, потому что изранены руки,
А на лице у него уж немало следов безобразных:
Шлемом натертый желвак огромный по самому носу,
Вечно слезятся глаза, причиняя острые боли.
110 Все ж гладиатор он был и, стало быть, схож с Гиацинтом.
Стал для нее он дороже, чем родина, дети и сестры,
Лучше, чем муж: ведь с оружием он! Получи этот Сергий
Меч деревянный – и будет он ей вторым Вейентоном.
Эппией ты изумлен? преступлением частного дома?
Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было
С Клавдием: как он заснет, жена его, предпочитая
Ложу в дворце Палатина простую подстилку, хватала
Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой
Блудная эта Августа бежала от спящего мужа;
120 Черные волосы скрыв под парик белокурый, стремилась
В теплый она лупанар, увешанный ветхим лохмотьем,
Лезла в каморку пустую свою – и, голая, с грудью
В золоте, всем отдавалась под именем ложным Лициски;
Лоно твое, благородный Британник, она открывала,
Ласки дарила входящим и плату за это просила;
Навзничь лежащую, часто ее колотили мужчины;
Лишь когда сводник девчонок своих отпускал, уходила
Грустно она после всех, запирая пустую каморку:
Все еще зуд в ней пылал и упорное бешенство матки;
130 Так, утомленная лаской мужчин, уходила несытой,
Гнусная, с темным лицом, закопченная дымом светильни,
Вонь лупанара неся на подушки царского ложа.
Стоит ли мне говорить о зельях, заклятьях и ядах,
Пасынкам в вареве данных? В припадке страсти и хуже
Делают женщины: похоти грех – у них наименьший.
«Но почему не нахвалится муж на Цензеннию?» – Взял он
Целый мильон сестерций за ней и за это стыдливой
Назвал ее; от колчана Венеры он худ, от светильни
Жарок ее? Нет, в приданом – огонь, от него идут стрелы.
140 Можно свободу купить, – и жена подмигнет и ответит
На объяснение: вроде вдовы – богачиха за скрягой.
К Бибуле что же горит таким вожделеньем Серторий?
Любит, по правде сказать, не жену он, а только наружность.
Стоит морщинкам пойти и коже сухой позавянуть,
Стать темнее зубам, а глазам уменьшиться в размере,
Скажет ей вольный: «Бери-ка пожитки да вон убирайся!
Нам надоело с тобой: сморкаешься часто; скорее,
Живо уйди! Вон с носом сухим приходит другая».
Жены, пока в цвету, как царицы, требуют с мужа
150 Стад канузийских овец, фалернских лоз, – да чего там? —
Требуют всех рабов молодых, все их мастерские;
Дома не хватит чего, но есть у соседа, – пусть купит.
В зимний же месяц, когда купец Язон загорожен
И моряков снаряженных палатки белые держат, —
Им доставляется крупный хрусталь, сосуды из мурры
Больше еще да алмаз драгоценный, тем знаменитый,
Что красовался на пальце самой Береники: когда-то
Дал его варвар блуднице, – сестре он подарен Агриппой
Там, где цари обнажением ног соблюдают субботу
160 И по старинке еще доживают до старости свиньи.
Ты из такой-то толпы ни одной не находишь достойной?
Пусть и красива она, и стройна, плодовита, богата,
С ликами древних предков по портикам, и целомудра
Больше сабинки, что бой прекращает, власы распустивши,
Словом, редчайшая птица земли, как черная лебедь, —
Вынесешь разве жену, у которой все совершенства? —
Пусть венузинку, но лучше ее, чем Корнелию, Гракхов
Мать, если только она с добродетелью подлинной вносит
Высокомерную гордость, в приданом числит триумфы.
170 Нет, убери своего Ганнибала, Сифакса и лагерь,
Где он разбит; убирайся, прошу, ты со всем Карфагеном!
«О, пощади, умоляю, Пеан, и ты, о богиня,
Стрелы сложи; неповинны сыны! Только мать поражайте».
Так кричит Амфион. Аполлон же лук напрягает:
Кучу детей уж хоронит Ниоба и вместе супруга
Только за то, что считала свой род знатнее Латоны,
А плодовитость свою – как у белой свиньи супоросой.
Где добродетель и где красота, чтобы стоило вечно
Ими тебя попрекать? Удовольствия нет никакого
180 В этом высоком и редком добре, что испорчено духом
Гордым: там горечи больше, чем меда. Кто предан супруге
Вплоть до того, чтобы часто не злиться, чтоб целыми днями
Не ненавидеть жену, которую так превозносит?
Правда, иная мала, но для мужа она нестерпима.
Хуже всего, что супруга себя не признает красивой,
Если не сможет себя из этруски сделать гречанкой,
Из сульмонянки – афинянкой чистой: все, как у греков.
Хоть и позорнее нашим не знать родимой латыни,
Греческой речью боязнь выражается, гнев и забота,
190 Радость и все их душевные тайны. Чего еще больше?
Любят, и то – как гречанки! Простительно девушкам это;
Ну, а вот ты – девяносто тебе уже скоро ведь – тоже
Хочешь по-гречески? Нет, для старух эта речь непристойна,
Сколько уж раз говоришь ты по-гречески так похотливо:
«Жизнь ты моя и душа»; при всех произносишь, что было
Только что под одеялом! Бесстыдно-разнеженный голос
Похоть разбудит у всех, захватит, как пальцами; пусть же
Перья спадут, и лицо твои годы выдаст, хотя бы
Ты говорила нежнее, чем Гем, нежней Карпофора.
200 Ежели ты не намерен любить законной супруги,
Значит, нет и причин, чтоб тебе на ком-то жениться,
Трат не надо на пир, не нужно и винных лепешек,
Тех, что дают в конце церемонии сытому гостю,
Ни подношений за первую ночь, когда на роскошном
Блюде блестят золотые монеты – Траян и Германик.
Если в супружестве ты простоват и к одной лишь привязан
Сердцем, – склонись головой и подставь под ярмо свою шею:
Ты не найдешь ни одной, что бы любящего пощадила;
Если сама влюблена, все же рада и мучить и грабить.
210 Стало быть, меньше всего полезна жена для того, кто
Сам обещается быть желанным и добрым супругом:
Ты никогда ничего не даришь, коль жена не захочет,
Ты ничего не продашь без нее, против воли не купишь;
Склонность твою предпишет она и откажет от дома
Старому другу, который бывал здесь еще безбородым.
Сводники или ланисты вольны составлять завещанья,
Право такое ж дано гладиаторам – слугам арены, —
Ты же добро завещай соперникам разным в наследство.
«Крестную казнь рабу!» – «Разве он заслужил наказанье?
220 В чем преступленье? Свидетели кто? Кто доносит? Послушай:
Если на смерть посылать человека, – нельзя торопиться». —
«Что ты, глупец? Разве раб человек? Пусть он не преступник, —
Так я хочу, так велю, вместо довода будь моя воля!»
Так она мужу велит; но скоро она покидает
Царство жены и меняет семью, затоптав покрывало,
Вновь исчезает – и снова приходит к постылому ложу;
Входа недавний убор, занавески она покидает,
В доме висящие там, и у двери зеленые ветви.
Так возрастает число, и в пять лишь осенних сезонов
230 Восемь будет мужей – достойный надгробия подвиг!
Теща покуда жива, не надейся в семье на согласье:
Теща научит ценить разорение полное мужа,
Теща научит искусно, хитро отвечать на записки,
Что соблазнитель прислал; она расположит подачкой
Иль проведет сторожей; хоть здорова вполне ее дочка, —
Теща зовет Архигена, одежды тяжелые снимет;
Скрытый меж тем в потаенных местах, любовник запрятан;
Он, нетерпения полный, молчит – и готовит оружье.
Ты не дождешься, чтоб мать дала дочери честные нравы —
240 Нравы, каких не имеет сама: ведь гнусной старухе
Полный расчет – воспитать такую же гнусную дочку.
Чуть не во всех судебных делах начинается тяжба
Женщиной: где не ответчик Манилия – глядь, обвиняет.
Сами они сочинят заявленье, записку составят,
Цельзу подскажут, с чего начинать и в чем аргументы.
Кто не видал эндромид тирийских, не знает церомы,
Кто на мишени следов не видал от женских ударов?
Колет ее непрерывно ударами, щит подставляя,
Все выполняя приемы борьбы, – и кто же? – матрона!
250 Ей бы участвовать в играх под трубы на празднике Флоры;
Вместо того не стремится ль она к настоящей арене?
Разве может быть стыд у этакой женщины в шлеме,
Любящей силу, презревшей свой пол? Однако мужчиной
Стать не хотела б она: ведь у нас наслаждения мало.
Вот тебе будет почет, как затеет жена распродажу:
Перевязь там, султан, наручник, полупоножи
С левой ноги; что за счастье, когда молодая супруга
Свой наколенник продаст, затевая другие сраженья!
Этим же женщинам жарко бывает и в тонкой накидке,
260 Нежность их жжет и тонкий платок из шелковой ткани.
Видишь, с каким она треском наносит мишени удары,
Шлем тяжелый какой ее гнет, как тверды колени,
Видишь, плотность коры у нее на коленных повязках.
Смейся тому, как оружье сложив, она кубок хватает.
Лепида внучки, Метелла слепого иль Фабия Гурга!
Разве какая жена гладиатора так наряжалась?
Разве Азила жена надрывалась вот так у мишени?
Спальня замужней жены всегда-то полна перебранок,
Ссор: на постели ее заснуть хорошо не удастся.
270 В тягость бывает жена, тяжелее бездетной тигрицы,
В час, когда стонет притворно, задумавши тайный поступок,
Или ругает рабов, или плачется, видя наложниц
Там, где их нет; ведь слезы всегда в изобилье готовы,
Ждут на своем посту, ожидая ее приказанья
Течь, как захочется ей; а ты-то, балда, принимаешь
Слезы ее за любовь, упоен, поцелуями сушишь!
Сколько бы ты прочитал записок любовных и писем,
Если б тебе шкатулку открыл ревнивицы грязной!
Вот она спит с рабом, вот всадник ее обнимает
280 «Квинтилиан, оправдай, прикрась что-нибудь!» – «Затрудняюсь.
Ты уж ответь сама». И она говорит: «Решено ведь, —
Ты поступаешь как хочешь, и я уступаю желаньям
Так же, как ты. Негодяй, баламуть хоть море, хоть небо:
Я – человек!» – Наглее не сыщешь, когда их накроют:
Дерзость и гнев почерпают они в самом преступленье.
Спросишь: откуда же гнусность такая и в чем ее корни?
Некогда скромный удел охранял непорочность латинок,
И небольшие дома не давали внедряться порокам
Там, где был труд, где недолог был сон, и грубые рук
290 Были от пряжи этрусской жестки, а к самому Риму
Шел Ганнибал, и мужья охраняли Коллинскую башню.
Ныне же терпим мы зло от долгого мира: свирепей
Войн налегла на нас роскошь и мстит за всех побежденных.
Римская бедность прошла, с этих пор у нас – все преступленья
И всевозможный разврат; на наши холмы просочился
Яд Сибариса, Родоса, Милета, отрава Тарента,
Где и венки и разгул и где господствует пьянство.
Деньги презренные сразу внесли иностранные нравы;
Нежит богатство, – оно развратило роскошью гнусной
300 Все поколение: нету забот у прелестницы пьяной;
Разницы меж головой и ногами своими не видит
Та, что огромные устрицы ест в полуночное время,
В час, когда чистый фалерн дает благовониям пену,
Пьют из раковин все, когда потолок закружится,
Лампы двоятся в глазах, а стол вырастает все больше.
Вот и любуйся теперь, как с презрительной фыркнет ужимкой
Туллия, Мавры известной сестра молочная, тоже
Мавра, коль древний алтарь Стыдливости встретят дорогой.
Ночью носилки здесь остановят они – помочиться,
310 Изображенье богиня полить струёй подлиннее,
Ерзают в свете луны, верхом друг на друга садятся,
После уходят домой; а ты, проходя на рассвете
К важным друзьям на поклон, на урину жены наступаешь.
Знаешь таинства Доброй Богини, когда возбуждают
Флейты их пол, и рог, и вино, и менады Приапа
Все в исступленье вопят и, кису разметавши, несутся:
Мысль их горит желаньем объятий, кричат от кипящей
Страсти, и целый поток из вин, и крепких и старых,
Льется по их телам, увлажняя колени безумиц.
320 Здесь об заклад венка Савфея бьется с девчонкой
Сводника – и побеждает на конкурсе ляжек отвислых,
Но и сама поклоняется зыби бедра Медуллины:
Пальма победы равна у двоих – прирожденная доблесть!
То не притворства игра, тут все происходит взаправду,
Так что готов воспылать с годами давно охладевший
Лаомедонтов сын, и Нестор – забыть свою грыжу:
Тут похотливость не ждет, тут женщина – чистая самка.
Вот по вертепу всему повторяется крик ее дружный:
«Можно, пускайте мужчин!» – Когда засыпает любовник,
330 Женщина гонит его, укрытого в плащ с головою.
Если же юноши нет, бегут за рабами; надежды
Нет на рабов – наймут водоноса: и он пригодится.
Если потребность есть, но нет человека, – немедля
Самка подставит себя и отдастся ослу молодому.
О, если б древний обряд, всенародное богослуженье
Пакостью не осквернялось! Но нет: и мавры и инды
Знают, как Клодий, одетый арфисткой, пришел с своим членом
Толстым, как свиток двойной, вдвое больше «Антикатона»,
В Цезарев дом на женский обряд, когда убегают
340 Даже и мыши-самцы, где картину велят занавесить,
Если увидят на ней фигуры не женского пола.
Кто же тогда из людей к божеству относился с презреньем,
Кто бы смеяться посмел над жертвенной чашей, над черным
Нумы сосудом, над блюдом убогим с холма Ватикана?
Ну, а теперь у каких алтарей не находится Клодий?
Слышу и знаю, друзья, давнишние ваши советы;
«Надо жену стеречь, запирать на замок». Сторожей-то
Как устеречь? Ведь она осмотрительно с них начинает.
Ведь одинакова похоть у высших, как и у низших:
350 Та, что ходит пешком по улицам грязным, не лучше,
Нежели та, что лежит на плечах у рослых сирийцев.
Чтобы на игры смотреть, Огульния платье достанет,
И провожатых взаймы, и носилки с подушкой, и няньку;
Будут подруги по найму и девочка для поручений.
Кроме того, она все серебро, от отца что осталось,
Вплоть до последней посуды, дарит гладкокожим атлетам.
Дома пускай нищета, – ни одна от нее не скромнее
И не считается с теми границами, что наложила
Бедность, данная ей. Однако мужья временами
360 То, что полезно, предвидят; иные берут руководством
Жизнь муравья, опасаясь познать и холод и голод.
Ибо мотовка жена не чует имущества гибель:
Будто в пустом ларце возрождаются новые деньги,
Будто берутся из груды, всегда остающейся полной, —
Не размышляет она, сколько стоят ее развлеченья.
Женщин иных прельщают бессильные евнухи с вечно
Пресными их поцелуями, кожей навек безбородой:
С ними не нужен аборт: наслаждение с ними, однако,
Полное, так как они отдают врачам свои члены
370 C черным уж мохом, когда обрастала их пылкая юность;
Эти шулята, когда-то лишь видные, в росте свободном
После того как достигнут двух фунтов, у них отрезает
Гелиодор, принося лишь ущерб одному брадобрею.
Тот, кто своей госпожой кастратом сделан, вступает
В баню заметный для всех, на себя обращая вниманье,
Смело взывая к хранителю лоз. Пускай с госпожой он
Спит себе; только ты, Постум, смотри не доверься кастрату
Вакха, что вырос с тобой и уже приготовился к стрижке.
Если жена увлекается пеньем, – никто не спасется
380 Из продающих свой голос претору: их инструменты
Вечно у ней в руках, сардониксы сверкают на лире
Сплошь, и дрожащий плектр постоянно порхает по струнам, —
Нежного плектр Гедимела, пред ней исполнявшего песни:
Держит его, утешается им и целует желанный,
Женка из Ламиев рода, фамилии Аппиев, молит,
Януса с Вестой мукой осыпая, вином орошая, —
Дать Поллиону дубовый венок, чтобы струны украсить
На состязаниях капитолийских. Не сделала б больше,
Муж захворай у нее, беспокойся врачи о сынишке.
390 Пред алтарем предстоя, она не считает зазорным
Ради кифары закрыть себе голову, как подобает
Произнести мольбу, побледнеть при вскрытии агнца.
Ты, из богов древнейший, скажи, прошу тебя, Янус
Отче, скажи, отвечаешь ты ей? Верно, на небе скучно;
Делать там нечего вам, небожителям, как посмотрю я:
Эта о комиках просит тебя, а та предлагает
Трагика взять; между тем у гаруспика ноги опухнут.
Пусть она лучше поет, чем по городу шляется всюду,
Наглая, в кучки мужчин вмешаться готовая смело,
400 Или в присутствии мужа ведет разговоры с вождями
(Прямо с похода), глядя им в лицо и совсем не вспотевши.
Этакой все, что на свете случилось, бывает известно:
Знает она, что у серов, а что у фракийцев, секреты
Мачехи, пасынка, кто там влюблен, кто не в меру развратен.
Скажет она, кто вдову забрюхатил и сколько ей сроку,
Как отдается иная жена и с какими словами;
Раньше других она видит комету, опасную царству
Парфян, армян; подберет у ворот все слухи и сплетни
Или сама сочинит, например, наводненье Нифата,
410 Хлынувшего на людей и ужасно залившего пашни,
Будто дрожат города, оседает земля, – и болтает
Эта сорока со встречным любым на любом перекрестке.
Впрочем, жена и с пороком таким не столь нестерпима,
Как приобвыкшая драться с соседями, бить их ремнями,
Бедных, вопящих; когда ее сон прерывается лаем, —
«Палок скорее несите сюда!» – кричит она, в палки
Раньше потребует взять хозяина, после – собаку.
Встретиться с ней тяжело; она отвратительна с виду
Моется в бане она по ночам: вдруг прикажет тревогу
420 Бить, свои шайки нести – и парится с шумом великим;
Руки когда упадут у нее, утомленные гирей,
Ловко ее щекотать массажист начинает проворный,
Хлопая громко рукой по ляжкам довольной хозяйки;
Голодны гости меж тем, несчастные, хочется спать им;
Вся раскрасневшись приходит она наконец и готова
Выпить корзину вина вместимостью в целую урну;
В ноги поставив ее, она тянет второй уж секстарий
Перед едой, аппетит возбуждая поистине волчий.
После того как на землю сблюет, промывая желудок,
430 Мрамор потоки зальют, золотая лоханка фалерном
Пахнет; подобная длинной змее, свалившейся в бочку,
Женщина пьет и блюет. Тошнит, понятно, и мужа:
Он закрывает глаза, едва свою желчь подавляет,
Впрочем, несноснее та, что, едва за столом поместившись,
Хвалит Вергилия, смерти Дидоны дает оправданье,
Сопоставляет поэтов друг с другом: Марона на эту
Чашку кладет, а сюда на весы полагает Гомера.
Риторы ей сражены, грамматики не возражают,
Все вкруг нее молчат, ни юрист, ни глашатай не пикнут,
440 Женщины даже молчат, – такая тут сыплется куча
Слов, будто куча тазов столкнулась с колокольцами;
Тут уж не станет никто насиловать медные трубы,
Так как она и одна поможет Луне при затменье.
Мудрый положен предел увлечениям самым почтенным;
Та, что стремится прослыть ученой, речистой не в меру, —
Выше колена должна подпоясывать тунику, в жертву
Резать Сильвану свинью и платить по квадранту за баню,
Пусть же матрона, что рядом с тобой возлежит, не владеет
Стилем речей, энтимемы кудрявые не запускает
450 Средь закругленных словес и не все из истории знает,
Пусть не поймет и из книг кой-чего; мне прямо противна
Та, что твердит и еще раз жует Палемона «Искусство»,
Вечно законы блюдя и приемы правильной речи,
Та, что, древность любя, неизвестный нам стих вспоминает
Или напрасно слова поправляет простушки подруги;
Нет, уж позвольте мужьям допускать обороты любые.
Женщина все позволяет себе, ничего не считает
Стыдным, лишь стоит на шею надеть изумрудные бусы
Или же ухо себе оттянуть жемчужной сережкой.
460 Что может быть несноснее, чем… богатая баба:
Видом противно лицо, смехотворно, от множества теста
Вспухшее все, издающее запах Поппеиной мази, —
Губы марает себе несчастный муж в поцелуе.
С вымытой шеей она к блуднику лишь пойдет: разве дома
Хочет казаться красивой она? Блудникам – благовонья!
Им покупается все, что пришлют нам инды худые.
Вот показала лицо и снимает свою подмалевку, —
Можно узнать ее; вот умывается в ванне молочной,
Ради которой она погнала бы ослиное стадо
470 Даже в изгнание вплоть до полярных Гипербореев.
Это лицо, что намазано все, где меняется столько
Снадобий разных, с припарками из подогретого теста
Или просто с мукой, – не лицом назовешь ты, а язвой.
Стоит труда изучить хорошенько, что делают жены,
Чем они заняты целые дни. Если ночью ей спину
Муж повернет, – беда экономке, снимай гардеробщик
Тунику, поздно пришел носильщик будто бы, значит,
Должен страдать за чужую вину – за сонливого мужа:
Розги ломают на том, этот до крови исполосован
480 Плетью, кнутом (у иных палачи нанимаются на год).
Лупят раба, а она себе мажет лицо да подругу
Слушает или глядит на расшитое золотом платье;
Порют – читает она на счетах поперечные строчки;
Порют, пока изнемогшим секущим хозяйка не крикнет
Грозное «вон!», увидав, что закончена эта расправа.
Домоправленье жены – не мягче двора Фалариса.
Раз уж свиданье назначено ей, должно нарядиться
Лучше обычных дней – и спешит к ожидающим в парке
Или, быть может, скорей, у святилища сводни – Исиды.
490 Волосы ей прибирает несчастная Псека, – сама-то
Вся растрепалась от таски, и плечи и груди открыты.
«Локон зачем этот выше?» – И тут же ремень наказует
Эту вину волоска в преступно неверной завивке.
Псеки в чем недосмотр? Виновата ли девушка, если
Нос твой тебе надоел? – Другая налево гребенкой
Волосы тянет и чешет и кольцами их завивает.
Целый совет: здесь старуха рабыня, что ведает пряжей,
Больше за выслугой лет не держащая шпилек хозяйки, —
Первое мнение будет ее, а потом уже скажут
500 Те, что моложе годами и опытом, будто вопрос тут —
Доброе имя и жизнь: такова наряжаться забота.
Ярусов сколько, надстроек возводится зданьем высоким
На голове; поглядишь – Андромаха с лица, да и только!
Сзади поменьше она, как будто другая. А ну как
Ростом не вышла она в Андромаху и, став без котурнов,
Будет не выше, чем дева пигмейской породы: тогда ведь
Для поцелуев-то ей подниматься на цыпочки нужно.
Нет у такой жены ни заботы о муже, ни мысли
О разоренье: живет она просто, как мужа соседка,
510 Ближе к нему только тем, что друзей и рабов его хает,
Тяжко ложась на приход и расход. Исступленной Беллоны
Хор приглашает она иль Кибелы, – приходит огромный
Полумужик, что в почете у меньшей братьи бесстыдной,
С давних времен оскопивший себя черепком заостренным;
Хриплая свита дает ему путь, отступают тимпаны.
Толстые щеки его – под завязкой фригийской тиары;
Важно кричит он, велит сентября опасаться и Австра,
Если она не пожертвует сотню яиц в очищенье.
И самому не отдаст багряниц поношенных, дабы
520 Все, что внезапной и тяжкой опасностью ей угрожает,
В эти одежды ушло, принося искупление за год.
Ради того и зимой через лед нырнет она в реку,
Трижды поутру в Тибр окунется, на самых стремнинах
Голову вымоет в страхе – и голая, с дрожью в коленях,
В кровь исцарапанных, переползет все Марсово поле
(Гордого поле царя); прикажет ей белая Ио —
Вплоть до Египта пойдет и воду от знойной Мерой,
Взяв, принесет, чтобы ей окропить богини Исиды
Храм, – возвышается он по соседству с древней овчарней:
530 Верит она, что богиня сама насылает внушенья;
Будто с ее-то душой и умом не беседуют боги!
Вот почему наивысший почет особливо имеет
Тот, кто в плешивой толпе, разодетый в льняные одежды,
Ходит Анубисом-псом, глумясь над поникшим народом;
Молится он о жене, что нередко была невоздержна
В совокупленье на праздничный день или на день запретный:
Тяжкая кара грозит за попрание брачного ложа, —
Кажется, точно серебряный змей шевельнул головою
Слезы жреца и заученный шепот приводят к тому, что
540 Женщины грех отпустить согласится Осирис, – конечно,
Жирным гусем соблазненный и тонкого вкуса пирожным.
Этот уйти не успел, как еврейка-старуха, оставив
Сено свое и корзину, нашепчет ей на ухо тайны,
Клянча подачку, – толмач иерусалимских законов,
Жрица великая древа и верная вестница неба;
Будет подачка и ей, но поменьше: торгуют евреи
Бреднями всякого рода за самую низкую плату.
Вот из Армении иль Коммагены гадатель посмотрит
В легкие теплой голубки – и милого друга сулит ей,
550 Смерть богача холостого и крупные деньги в наследство;
Перекопает он груди у кур и нутро собачонки,
Даже иной раз младенца, – и сам же доносит на жертвы.
Большая вера халдеям: чего ни наскажет астролог, —
Жены поверят, что это вещает источник Аммона,
Раз уж Дельфийский оракул умолк; а роду людскому
Лестно в грядущую тьму заглянуть, насколько возможно.
Выше всех ценится тот, кого несколько раз высылали,
Чье дружелюбье и чей гороскоп погубили недавно
Славную жизнь гражданина, внушившего ужас Отону,
560 Верят искусству его, хотя б кандалами гремел он
Справа и слева, хотя б сидел он в остроге военном.
Неосужденный астролог совсем не имеет успеха:
Гений лишь тот, кто едва не погиб, попав на Циклады
В ссылку, кто, наконец, избегнул теснины Серифа.
Спросит его и о медленной смерти желтушной мамаши,
И о тебе Танаквила твоя, да скоро ли сестры,
Дяди помрут, да любовник ее – проживет ли он дольше,
Чем Танаквила сама; чего еще боги даруют?
Впрочем, иные не знают, чем мрачный Сатурн угрожает
570 Или в каком сочетании звезд благосклонна Венера,
Месяц к убытку какой, какое к прибыли время.
Не забывай избегать даже встречи с женщиной, если
Виден в руках у нее календарь, что лоснится, как будто
Жирный янтарь: уж она у других не попросит совета, —
Спросят ее самое; она не пойдет с своим мужем
В лагерь, домой: не пускают ее вычисленья Трасилла.
Если захочется ей хоть до первого камня доехать, —
Время берется по книге, а если зачешется веко,
Мази попросит она, посоветовавшись с гороскопом.
580 Если больная лежит, то часы для принятия пищи
Выберет только такие, которые дал Петосирис.
Если она небогата, она, пробежавши пространство
Между столбами, отдаст свой жребий, и руку протянет,
И предоставит лицо – прорицателю: любит он чмокать.
Тем, кто богаты, тем авгур фригийский дает разъясненья,
Или индус нанятой, что сведущ и в небе и в звездах,
Или этрусский старик, что молнии в Риме хоронит.
Жребий плебеек сокрыт на окраинах города, в цирке:
Женщины эти, надев золотую цепочку на шею,
590 Возле столбов цирковых и колонн с дельфином гадают,
Бросить кабатчика ль им да пойти за старьевщика замуж.
Бедные хоть переносят опасности родов и терпят
Тяжкий кормилицы труд, принужденные долей замужних:
На позолоченном ложе едва ль ты найдешь роженицу:
Слишком лекарства сильны и слишком высоко искусство
Той, что бесплодье дает и приводит к убийству во чреве
Женщин. Ликуй же, несчастный, любое питье подавая:
Если бы вдруг захотела жена растянуть себе брюхо,
Мучась толчками младенца, то, может быть, ты эфиопа
600 Станешь отцом, – и чернявый наследник, которого «здравствуй»
Вовсе противно тебе, не замедлит войти в завещанье.
Что говорить о подкидышах? Вместо веселых обетов
Часто находят у грязных прудов их, – и вон понтифексы,
Салии будут готовы, и Скавров подделано имя
В теле чужом. Сторожит по ночам, улыбаясь младенцам
Голым, Фортуна коварная, греет их всех, завернувши
В пазуху, вводит потом голышей в родовитые семьи.
Втайне забаву готовя себе, она их лелеет,
Возится с ними, всегда выдвигает их, будто питомцев.
610 Кто принесет заклинанья, а кто фессалийского яду
Женке продаст, чтоб супруга она, совсем одурманив,
Смело пинала ногой. Потому-то и стал ты безумен,
Вот почему и туман в голове, и забыл ты о деле
Сразу. Но это еще переносно, пока не впадешь ты
В бешенство, вроде того опоенного дяди Нерона,
Мужа Цезонии, что налила ему мозг жеребенка
(Всякая женщина то же, что царские жены, содеет).
Все пред Калигулой было в огне, все рушились связи,
Точно Юнона сама поразила безумием мужа.
620 Право же, менее вредным был гриб Агриппины, который
Сердце прижал одному старику лишь и дал опуститься
Дряхлой его голове, покидавшей землю для неба,
Дал опуститься рту со стекавшей длинной слюною.
Зелье такое взывает к огню и железу и мучит,
Зелье терзает сенаторов кровь и всадников жилы:
Вот чего стоит отродье кобылы да женщина-ведьма!
Жены не терпят детей от наложниц: никто да не спорит,
Не запрещает, – ублюдка (да, да!) надлежит уничтожить;
Вас, малолетки с большим состоянием, предупреждаю:
630 Жизнь берегите, к блюдам никаким не имейте доверья, —
В этих бледных лепешках кипят материнские яды.
Пусть-ка откусит сперва кто-нибудь от того, что предложит
Мачеха; пусть-ка пригубит питье опасливый дядька.
Выдумка это, конечно? Сатира обулась в котурны,
Мы преступили, конечно, границы и правила предков:
Точно в Софокловой маске безумствует стих нарочитый,
Чуждый рутульским горам, незнакомый латинскому небу…
Пусть бы мы лгали, пусть! Но Понтия вслух заявляет:
«Да, сознаюсь, приготовила я аконит моим детям;
640 Взяли с поличным меня, – преступленье свершила сама я». —
Злая гадюка, обедом одним умертвила двоих ты,
Сразу двоих? – «Будь семеро их, семерых бы я тоже…»
Лучше поверить всему, что поведал нам трагик о Прокне
И о колхидянке лютой: я их не могу опровергнуть;
В те времена совершали они чудеса злодеяний
Не из-за денег совсем; изумления меньше достоин
Верх злодеяний: ведь женщин всегда к преступленью приводит
Гнев, и, пылая от бешенства сердцем, они понесутся
Вниз головой, как скала, оторвавшаяся от вершины,
650 Если осядет гора и обрушится скользким уклоном.
Нет, нестерпимы мне те, что расчетливы в их злодеяньях,
В здравом уме их творят. Они смотрят «Алкесту», что мужа
Смерть приняла; а вот если бы им предложили замену,
Мужниной смертью они сохранили бы жизнь собачонки.
Ты что ни день Данаид повстречаешь, найдешь Эрифилу,
Каждая улица Рима имеет свою Клитемнестру;
Разница только лишь в том, что та Тиндарида хватала
В обе руки неудобную вовсе, тупую секиру,
Нынче же дело решит незаметное легкое жабы;
660 Ну, а железо – лишь там, где Атрид осмотрительно принял
Противоядие битого трижды царя Митридата.
Комментарии








