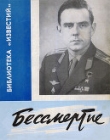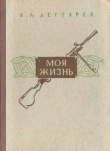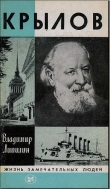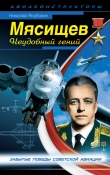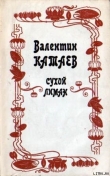Текст книги "Небесное притяжение"
Автор книги: Давид Гай
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
«Как-то раз, еще во время войны, оказавшись пролетом на аэродроме, где работал Васильченко, я обратил внимание на непривычно быстро несущийся над летным полем пикировщик Пе-2, из хвоста которого вырывалось ревущее пламя. Я тревожно оглянулся на окружающих – не люблю огня на самолете! – но увидел на их лицах никак не тревогу, а, скорее, интерес к происходящему, причем интерес, нельзя сказать, чтоб очень уж пылкий: по всей вероятности, они видели этот эффектный номер далеко не в первый раз.
– Кто летит?
– Васильченко.
Оказалось, что он испытывал ракетную ускорительную установку с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД), смонтированную в хвосте обычного серийного Пе-2. Это должно было дать возможность при необходимости на короткое время резко увеличить скорость и быстро преодолеть зону интенсивного зенитного огня или оторваться от атакующих истребителей противника. Новинка была очень интересная, и я незамедлительно отправился знакомиться с ней на край аэродрома, куда подрулил успевший приземлиться самолет.
– Кто сделал эту штуку? – спросил я, поздоровавшись с Александром Григорьевичем и выслушав его блиц-лекцию о ракетном двигателе и обо всей ускорительной установке.
– А вот поговори с ним, – ответил Васильченко и указал на плотного, среднего роста человека, одетого в не сколько странный, особенно для летнего времени, костюм – куртку и брюки из какого-то черного подкладочного сатина».
Так отложилось в памяти известного летчика Марка Лазаревича Галлая, будущего испытателя мясищевских машин, первое впечатление от Пе-2РД и от конструктора ускорительной установки Сергея Павловича Королева.
В том, что Мясищев и Королев встретились в волжском городе, был, наверное, элемент случайности, хотя конструкторское бюро, занимавшееся ракетными двигателями, находилось рядом с заводом серийного выпуска самолетов. Но сама работа над жидкостными ракетными двигателями велась отнюдь не случайно. Начало ей было положено еще в 1929 году, когда Валентин Петрович Глушко, впоследствии крупнейший ученый, академик, организовал в Ленинградской газодинамической лаборатории – первой в СССР организации по ракетной технике – подразделение ЖРД. Разрабатывалась методика расчета двигателей, определялись компоненты топлива.
Трудным путем шли конструкторы и инженеры. Они вступили в совершенно незнакомую им область. Все выглядело новым, заманчивым, неизведанным – и выбор топлива с окислителем (ведь ЖРД получает необходимый для горения топлива кислород не из атмосферы, а из окислителя, налитого в специальные баки), и геометрия сопла, и способы его охлаждения, и многое, многое другое.
Взлетали первые ракеты, которые при всем желании трудно было назвать прообразом космических ракет. Королев с группой энтузиастов построил ракетопланер с двигателем Глушко, дававшим максимальную тягу 175 килограммов. Машину испытывал летчик В.П. Федоров.
Двигатели совершенствовались, ЖРД чередовались с комбинированными (в головной части самолета ставился поршневой двигатель, а в хвостовой-реактивный), делались попытки применения новых двигателей на боевых машинах. В КБ В.Ф. Болховитинова А.Я. Березняк и А.М. Исаев разработали истребитель-перехватчик БИ – первый советский самолет с ЖРД. Двигатель работал на исключительно агрессивном окислителе – азотной кислоте. 15 мая 1942 года БИ совершил свой первый полет. Во время седьмого полета самолет внезапно перешел из горизонтального положения в крутое пикирование и врезался в землю. Испытатель машины капитан Г.Я. Бахчиванджи погиб. Скорость, достигнутая во время горизонтального полета, по всей видимости, приближалась к звуковой.
Первый реактивный самолет, первые полеты, первая гибель… Остановить процесс познания невозможно. Пробовали свои силы в новом деле и другие конструкторы – Р.Л. Бартини, М.Р. Бисноват. Умевшие смотреть вперед со всей очевидностью понимали: борьба за главное качество самолетов – скорость не приведет к победе, если не появятся принципиально иные технические решения. Прежде всего речь шла о двигателях, во много раз более мощных, нежели поршневые, одним из которых и был ЖРД.
Мясищев с интересом слушал рассказы Королева о применении ЖРД на самолетах, хотя Владимиру Михайловичу казалась несбыточной вера Сергея Павловича в возможность использования машин с ЖРД в войне против Германии. Вполне реальным выглядело предложение построить ракетный перехватчик со скоростью в пределах 1000 километров в час. Но… шла война, все силы отдавались серийному выпуску «пешек», их совершенствованию. Постройка нового самолета, пусть экспериментального, опытного, в единственном экземпляре, была сопряжена с рядом трудностей. А медлить с опробованием двигателя РД-1, сконструированного Глушко, не хотелось. Вот почему Королев с радостью откликнулся на предложение установить РД на серийном Пе-2 в качестве дополнительного двигателя.
Сергей Павлович быстро сделал наброски реактивной установки, учитывая компоновку пикировщика. Камеру сгорания и сопло, откуда вырываются горячие газы, он расположил в хвосте Пе-2. Это диктовалось соображениями безопасности. Баки с азотной кислотой оказалось лучше всего разместить в середине фюзеляжа. Аэродинамические расчеты пикирующего бомбардировщика с реактивной установкой (РУ) заняли немало страниц. Хотелось многое просчитать и проверить на земле, до взлета необычной машины.
Цифры получались заманчивые. РУ поедала в минуту 90 килограммов тракторного керосина и окислителя. Взяв на борт 900 килограммов топлива, можно было использовать установку в течение 10 минут. Не так уж мало, если учесть локальность задачи – резко оторваться от преследователей и уйти от зенитного огня. Реактивная тяга должна была дать самолету прирост скорости более чем 100 километров в час. Высота полета также могла повышаться – следовало только взять побольше керосина и окислителя. И наконец – сокращение пробега самолета, что важно в условиях фронтовых аэродромов.
Окончательный расчет Пе-2РД с реактивной установкой Королев утвердил еще 24 мая 1943 года. Изготовление машины шло при активном участии Мясищева, к тому времени главного конструктора, и его коллег. В опытном Цехе завода, возглавляемом П.М. Гловацким, самолет обретал задуманные черты.
В том же году на аэродроме можно было видеть Пе-2, мало чем отличавшийся от серийных образцов. Только острый глаз был способен заметить его особенности. Самолет стоял в сторонке от других машин, как бы на отшибе. Едва подходил час полета, он начинал гудеть и извергать из сопла мощное устойчивое пламя золотистого оттенка.
Испытания велись в условиях, когда каждый вылет мог принести (да и приносил) неожиданности. Отрабатывалось зажигание, на различных высотах включался реактивный двигатель. Иногда все шло гладко, а иногда… То выходила из строя газовая трубка, то падало давление в камере сгорания, то растравливались азотной кислотой жиклеры, дозирующие поступление компонентов в камеру сгорания… Постоянно присутствовал и риск. Цена любой ошибки могла оказаться слишком дорогой.
Вот отрывок из воспоминаний близкого друга С.П. Королева К.И. Трунова, приведенных в книге П.Т. Асташенкова «Главный конструктор».
«Сергей Павлович попросил меня зайти и посмотреть, как работает жидкостный двигатель на самолете, на котором ему предстояло подняться в воздух. «Ты как летчик скажи свое мнение», – попросил он. Мы отправились на аэродром. На земле двигатель работал нормально. «Надо все же испытать его в воздухе и убедиться лично, что все работает исправно», – сказал Сергей Павлович.
Он занял место в задней кабине самолета, летчик дал газ, и самолет вырулил на старт. Взлетел, набрал небольшую высоту и пошел над аэродромом по курсу, на котором должен запускаться ускоритель. Мы на земле ждали этого момента. Наконец пуск ускорителя состоялся. Но что произошло? Почему самолет как-то неестественно пошел на посадку? Вот он подруливает к месту стоянки. Мы кинулись к нему. Сергея Павловича нашли в кабине с окровавленной головой. Помогли ему выбраться из самолета, забинтовали голову и сдали на попечение врача. Как оказалось, был он ранен в лицо осколками взорвавшегося двигателя, но, к счастью, не тяжело. «Хорошо, что я летел сам, а то потом все время терзался бы догадками: что при запуске было сделано не так? Почему двигатель взорвался? Вот главное, что надо установить!» И это он говорил в больнице.
Немного оправившись, Сергей Павлович продолжал испытание двигателей. С повязкой на голове. Снять ее врачи еще не позволили».
Всего на Пе-2РД летчик Васильченко сделал 110 полетов. В ходе их Королев записал: «Испытания показывают, что двигатель РД и реактивная установка в целом работают нормально. Хорошо совпадают экспериментальные и расчетные данные. Таким образом, в настоящее время имеются опробованная в воздухе материальная часть вспомогательного двигателя и реактивные установки Пе-2».
Заключение по реактивной установке Королева подписал Мясищев. В документе, в частности, сказано: «Считать целесообразным предъявить реактивную установку с двигателем РД-1ХЗ на самолете Пе-2 № 15/185 на испытания совместно с представителями ВВС КА по согласованной программе».
Если бы не война, многое из задуманного будущим творцом космических кораблей и осуществленного с помощью будущего создателя стратегических бомбардировщиков нашло бы скорое практическое применение. Если бы не война… Но то, что сделано им, легло в фундамент последующих успехов нашей авиации и ракетостроения.
Удивительно насыщенной была жизнь Владимира Михайловича в последние два года войны. Постоянная работа, движение (командировки, челночные поездки в филиал ОКБ и обратно), идеи, замыслы… Стремление достичь все большей высоты находило воплощение в новых проектах.
Летом 1944 года мясищевцы построили дальний высотный бомбардировщик – среднеплан ДВБ-108. Он внешне, да и внутренне походил на Пе-2И. Более мощные моторы обеспечивали ему скорость до 700 километров в час и потолок до 12 тысяч метров. Схема Пе-2 послужила основой и для дальнего истребителя сопровождения (ДИС). Самолет оборудовали противообледенительной системой, двумя локационными установками, кабиной с отоплением. Он имел мощное вооружение.
Был утвержден и построен макет высотного бомбардировщика ВБ-109 с климовскими моторами ВК-109, высотным оборудованием и герметической кабиной. По мнению его создателей, расчетная скорость на высоте 9 тысяч метров составила бы 720 километров в час. Машина могла забираться на высоту 12,5 километра. Ведущим конструктором этого самолета стал Михаил Кузьмич Янгель, в будущем создатель советской ракетно-космической техники, академик. Как, однако, тесно переплелась судьба Мясищева с судьбами творцов космической техники!
Затем в КБ разрабатываются проекты четырехмоторных бомбардировщиков ДВБ-202 и ДВБ-302 с максимальной взлетной массой до 45 тонн и бомбовой загрузкой до 16 тонн. Опыт постройки Д13Б-102 пригодился здесь как нельзя лучше. Три герметические кабины [3]3
Осенью 1943 года группа специалистов ОКБ Мясищева участвовала в доводке и испытаниях гермокабин Л.Я. Щербакова на самолетах Як-3 и Ла-5. Став пионерами в освоении оборудования таких кабин, мясищевцы приумножили свои знания и применили их на машинах, являющихся дальнейшим развитием идей, заложенных в конструкцию ДВБ-102.
[Закрыть] трехколесное шасси, дистанционно управляемые стрелковые установки – таким машинам мог позавидовать любой конструктор.
Почему же ситуация сложилась так, что ни один из названных самолетов не пошел в серию?
Какими бы прекрасными качествами ни обладал опытный самолет, в условиях войны серийный выпуск его, как уже говорилось, весьма проблематичен. Перестройка производства обернулась бы потерей для фронта нескольких сот боевых машин. Но в том и заслуга мясищевцев, что, понимая это, они не снижали темпа проектирования новых летательных аппаратов. Война близилась к концу, авиационные фирмы работали над заделом, который мог пригодиться в мирные дни. Мясищевцы действовали в этом направлении весьма успешно.
Обостренное чувство новизны, дар предвидения – вот качества Владимира Михайловича, которые проявились в последний период войны, когда в филиале ОКБ строился макет первого в мире бомбардировщика с турбореактивными двигателями.
О реактивных истребителях уже ходили слухи. Фашистские Ме-262 приковали к себе внимание. Трофейный Ме-262, попавший в наши руки, испытывался в одном из НИИ. Известно было и о первом американском реактивном истребителе «Эркомет», о полетах на реактивных истребителях англичан. Наконец, гитлеровские беспилотные самолеты-снаряды ФАУ-1 и баллистические ФАУ-2, обрушившиеся в 1944 году на Лондон… Теперь пришел черед советского реактивного бомбардировщика РБ-17.
Хотелось увидеть воочию турбореактивные двигатели, установленные на немецких самолетах. Что и как проектировать, зависело от этого. И вот трофейные ЮМО-004, разработанные фирмой «Юнкере». Они поразительно напоминали советский двигатель конструкции А.М. Люльки, работу над которым Архип Михайлович прервал с началом войны. Как часто бывает, технический поиск конструкторов шел параллельно.
Итак, РБ-17. Две гермокабины. Трехколосное убирающееся в полете шасси. Бомбы крупного калибра внутри фюзеляжа. Скорость 800 километров в час, потолок почти 12 километров, дальность 3 тысячи километров. Не все ладилось во время проектирования, многого доискивались на ощупь, до многого доходили своим умом. Но это был бомбардировщик грозной силы. С ним коллектив связывал большие надежды.
Конец войны стал для Владимира Михайловича плодотворным в творческом отношении, дал выход накопленной энергии, принес немало радостных минут. 19 августа 1944 года Мясищеву было присвоено звание генерал-майора инженерно-технической службы. В тот же день он был отмечен орденом Суворова II степени. Товарищи поздравляли Главного и устно, и через заводскую стенгазету. В одной из заметок говорилось: «Смелость решении сложных конструкторских задач и твердость в руководстве по осуществлению их всегда оправдывались жизнью».
В октябре победного сорок пятого Президиум Верховного Совета СССР наградил большую группу работников ОКБ и серийного завода «за образцовое выполнение заданий Правительства по выпуску боевой продукции для фронта». Главному конструктору приятно было видеть в списке награжденных фамилии людей, с которыми оп постоянно бок о бок трудился в Сибири и на Волге. На этих людей он мог опереться в любых ситуациях. Вклад самого Мясищева в общее дело Верховный Совет СССР отметил высшей наградой – орденом Ленина.
Истовая работа, когда часов не наблюдают, до краев наполняла жизнь Мясищева. Об отдыхе Владимир Михайлович и не помышлял. Сюрпризом стало распоряжение о предоставлении ему под новый, 1945 год десятидневного отпуска. Несколько лет подряд он не встречал праздников в кругу семьи, поэтому очень обрадовался. Обрадовался… и задумался. С чего вдруг такая привилегия? Не привык он к привилегиям, не хотел каких-либо поблажек. Впрочем, распоряжения не обсуждаются, а выполняются. Но что за всем этим кроется? Решил разузнать «по своим каналам» и выяснил: не обошлось без участия жены, попросившей высокое начальство отпустить Владимира Михайловича «хоть на денек». Благодаря доброте и чуткости наркома, «денек» вылился в декаду.
Мясищев приехал в Москву, по выражению Елены Александровны, злой, как сатана.
– Ты что, не понимаешь, идет война, а ты лезешь к начальству с глупыми просьбами! – отчитал он жену в непривычно резких выражениях. – Я не желаю быть на особом положении.
Встретив Новый год, он тут же уехал назад, на завод.
Еще до Победы фирма Мясищева переехала в другой город. Базировалась она в двух районах. «Базироваться» – значит иметь базу. Но базы как таковой у коллектива не было. Это, однако, не обескуражило. Куда бы ни забрасывала Владимира Михайловича судьба, везде он начинал строительство, начинал с нуля, оставляя после себя готовые корпуса и опытные цехи. Так происходило в Сибири, так в значительной степени повторилось и в городе она Волге, хотя серийный завод к приезду мясищевцев там уже действовал. Все делалось своими силами. Сотрудники ОКБ сами клали кирпичи, сами стеклили и утепляли помещения.
Часть фирмы поначалу разместилась в большом ангаре. Верный себе, Владимир Михайлович вновь затеял стройку. Особенность его организаторского метода заключалась в том, что он не только ставил задачу, но и определял наиболее реальные, быстрые пути ее решения. Мя-сищевцы отчетливо представляли себе, как через год-пол-тора на территории ОКБ поднимутся корпуса, оснащенные по последнему слову техники, как их смелые проекты начнут воплощаться в металл. И вдруг…
Февральским днем 1946 года в ОКБ приехали из вышестоящей организации. Было объявлено о закрытии фирмы. Мотивы? Война позади, большого количества боевой техники уже не требуется, ряд самолетов, в том числе Пе-2, снят с производства, поэтому нет нужды иметь много конструкторских бюро. Словно для вящей убедительности приехавшие представители добавили: фирмой затрачены значительные средства, а отдача небольшая. Мясищева во всеуслышание назвали бесплодным конструктором.
Люди ушам своим не верили. Они трудились в одной из самых сильных авиационных организаций страны, созданной Петляковым и достигшей расцвета при Мясищеве. За их плечами – война, пикирующие бомбардировщики, сходившие со стапелей каждые два часа. Только недавно состоялось награждение сотен специалистов. Есть готовые к испытаниям самолеты, выполнены проекты нескольких перспективных машин, самый важный среди которых – проект РБ-17. Талант руководителя ОКБ, его организаторские способности очевидны, не требуют доказательств. И как гром среди ясного неба – приказ о расформировании конструкторского бюро. Не какой-нибудь маломощной фирмы – ОКБ, полного интереснейших творческих замыслов. Неужели нет выхода? Вопрос повис в воздухе. Так Мясищеву было уготовано еще одно испытание. Испытание характера, воли, веры в себя.
Наставник студенчества
Владимир Михайлович проснулся раньше обычного, едва в комнату влился кисловатый серенький мартовский рассвет. Накануне сильно мело, зима не сдавала позиций, и через открытую форточку доносился жестяной звук дворницких скребков, очищавших тротуары.
Удивительно: он волнуется, как студент перед экзаменом. А ведь все наоборот – экзаменовать студентов будет он, Мясищев, получивший назначение на пост декана самолетостроительного факультета Московского авиационного института. Если бы кто-то год назад предрек ему судьбу профессора солидного вуза, он счел бы это неуместной шуткой. Какой из него преподаватель, когда он весь, до мозга костей, конструктор! «Кон-струк-тор», – произнес он нараспев, словно оценивая на слух звучание слова.
И однако же, сегодня он впервые войдет в аудиторию и обратится к сидящим – совсем еще юнцам и людям постарше, прошедшим фронт. Он скажет: «Дорогие друзья! Мы знакомимся и начинаем совместную работу на факультете в момент, когда перед авиацией открываются невиданные перспективы. На смену самолетам, выполнившим долг в минувшей войне, идет реактивная техника, несущая в моторах скорость, близкую к звуковой…» Нет, слишком торжественно, пышно. Может быть, так: «Товарищи, вас привела в эти стены любовь к авиации. Это отрадно, но запомните: жизнь не раз проверит, испытает крепость вашего чувства. Не изменяйте ему никогда, ни при каких, даже самых неблагоприятных, обстоятельствах». Почти исповедь… Будет ли понятен ее смысл?
Стараясь не разбудить жену, Владимир Михайлович вышел на кухню, включил электрический утюг и принялся гладить генеральский мундир. Он решил идти в институт не в штатском. Побрился, умылся, надел форму, долго стоял у зеркала, смотрел, как сидит китель, а в голове неотвязно пульсировало: с чего начать разговор?
…В аудиторию он вошел неспешным, прямым шагом, почти не сгибая ног, миновал кафедру, положил на стол портфель, поздоровался. Студенты в ответ поднялись с мест. Жестом он усадил их, а сам продолжал стоять у стола.
– Давайте знакомиться. Я новый декан факультета Владимир Михайлович Мясищев. Буду вести курс «Конструкция и проэктирование самолетов» (так и сказал – «проэктирование»). Должен заметить, что я не преподаватель, и, как читать лекции в соответствии с принятыми канонами, не знаю. Хочу на первых порах поделиться с вами некоторыми соображениями насчет самого предмета проэктирования. Вам предстоит научиться не просто создавать самолеты – это, в сущности, не трудно, – а создавать самолеты, отличающиеся новизной. Иначе зачем строить их, не правда ли?.. А раз так, вы должны стремиться вкладывать в машины оригинальные идеи, тем самым отличая хороший проэкт от посредственного..
– После лекции начался обмен мнениями.
– Ну, как тебе генерал?
– Говорит интересно, но сложно. Не все поймут.
– Он считает – мы что-то смыслим в его деле. Не хотелось бы его разочаровывать.
– А человек серьезный, видать, с характером. Сдается, нам с деканом повезло…
Вскоре по инициативе нового декана состоялось общее собрание преподавателей и студентов самолетостроительного факультета. Владимиру Михайловичу хотелось ближе познакомиться с теми, кто его окружает, втянуть их в откровенный разговор, узнать мнение об учебном процессе. Он понимал: будет высказано немало критических замечаний, но это его ни в коей мере не смущало.
Преподаватели больше отмалчивались, зато студенты в карман за словом не лезли. Понравилось Мясищеву ершистое выступление Юрия Ильенко – невысокого худощавого паренька лет двадцати, круглого отличника. Он обратил внимание присутствующих на неправильное распределение времени на изучение тех или иных предметов. Такая важная, современная дисциплина, как газовая динамика, изучается скупо, а на другие предметы, нужные самолетчику, но не главные, отводится гораздо больше часов.
Итоги подвел Мясищев. По обыкновению, говорил он спокойно, в выдержанных тонах, называя, однако, вещи своими именами, ничего не затушевывая, не спрямляя углов. Всю критику принимает в свой адрес, хотя декан без году педеля; график работы кафедры запущен, надо навести порядок; время, отведенное на изучение той или иной дисциплины, нуждается в корректировке; большое значение должны иметь самостоятельные занятия студентов, непременно их участие в техническом творчестве.
Институтские будни… Многогранны обязанности декана – организация работы кафедры, чтение лекций… На новом поприще Мясищев трудился не покладая рук. Порой мысленно переносился в родное ОКБ, которого более не существовало. С какой радостью засел бы за проектирование реактивных машин – к тому звала логика развития авиации. Тут же гнал мысли – ненужные, даже опасные, лишавшие душевного равновесия. Теперь он здесь, в МАИ, и обязан сделать все, чтобы его питомцы вошли в самостоятельную жизнь подготовленными инженерами. Относиться к делу, пусть и не к самому привлекательному (кривить душой нечего – прежде всего он конструктор), спустя рукава не умел и не умеет.
Несколько раз в неделю красивый, с чуть театральными манерами сорокапятилетний генерал всходил на кафедру и начинал чтение лекций, по сути, нового курса. По данному разделу существовало три-четыре учебных пособия, в их числе книги Л.И. Сутугина, но то, что читал Мясищев, отличалось от изложенного там, как небо от земли. В лекциях бывшего главного конструктора просвечивала личность, содержалась своеобразная, не похожая ни на какую другую точка зрения на процесс создание самолета. Это выглядело новым, заманчивым, но и сложным, на первых порах малодоступным. И тем не менее студенты валом валили на мясищевские лекции.
Встречаясь с людьми, знавшими Владимира Михайловича в «маёвский» период, просматривая записи бесед с ними, я отметил любопытную деталь. О лекциях Мясищева говорили в похожих выражениях, выделяя одни и те же особенности. Стиль Мясищева-лектора[4]4
Стиль упомянут здесь в широком смысле слова, как, скажем, в литературоведении понятие стиля не исчерпывается одной манерой письма. В данном случае имеется в виду и содержание лекции, и постановка проблем, и тенденция увязывать их с современными задачами авиации.
[Закрыть] бросался в глаза, о нем можно было спорить, его можно было даже не принимать, но невозможно не замечать.
Г.Н. Назаров, доцент МАИ, один из ближайших соратников Мясищева:
«Владимир Михайлович в бытность свою в авиационном вузе пытался превратить проектирование самолетов в науку. Не будучи, как ему казалось, ученым, Мясищев тяготел к строго научному анализу, искал в проектировании логически ясные, гармонично взаимосвязанные и взаимообусловленные закономерности. Он постоянно подчеркивал: «Наука начинается там, где начинается классификация». Вполне естественно, он учил студентов выявлять в первую очередь разного рода закономерности при создании летательных аппаратов. Философия проектирования, если так можно выразиться, давалась им куда в большем объеме, чем требовалось будущим инженерам. Поэтому некоторые сетовали на трудность восприятия мясищевских идей. Лишь начав самостоятельно работать, они поняли всю их глубину».
3. А. Мелик-Саркисян, тогда студент, ныне доцент МАИ:
«Мясищев впервые начал читать свой курс с той логикой построения, которая и по сей день используется в нашем институте. Не скрою, лекции его выглядели сложными и по форме, и по содержанию. Говорил Владимир Михайлович длинными тяжеловесными фразами, чуть ли не целыми абзацами. Он не разжевывал и не клал нам в рот готовых формулировок. Он не обладал способностью излагать материал живо, доходчиво, используя образы, сравнения, словом, не был оратором. Сила его, понятая нами не сразу, заключалась в ином. Он рассказывал не о том, как вообще спроектировать тот или иной самолет, а как лучше спроектировать. Это доходило до нас не в один день… «Самолет – единая, органичная совокупность систем, а не просто планер, начиненный приборами», – объяснял студентам профессор Мясищев. Стоит извлечь одну систему, и машина не состоится. Глубокая правота подобной точки зрения открылась многим из нас спустя немало лет. А надо отметить, в первые послевоенные годы на самолетостроительном факультете у Мясищева учились многие будущие видные конструкторы и работники авиапромышленности, в том числе А.В. Минаев, Г.В. Новожилов, А.А. Туполев, немало тех, кто затем стали лауреатами Ленинской и Государственных премий, руководителями крупных подразделений. Не берусь категорично утверждать, но, мне кажется, необычные лекции Владимира Михайловича в чем-то помогли им».
Ю.Е. Ильенко, в прошлом студент МАИ, затем работник ОКБ Мясищева:
«Владимир Михайлович выступал перед нами больше как ученый, нежели как преподаватель. Налет академизма в его лекциях отсутствовал, хотя и простыми их нельзя было назвать. Трудными они были и для него самого. Ведь он шел неторной тропой, а наука конструирования тогда только разрабатывалась. Выводить зависимости, закономерности составляло немалую сложность. Обычно преподаватели оперируют среднестатистическими данными. Он же шел не от средней статистики, а, как говорится, от лучшего. Мелом на доске Владимир Михайлович писал меньше других. Зато ввел в обиход плакаты собственного сочинения, широко ими пользовался. Вообще он имел особое пристрастие ко всему наглядному – к графикам, схемам, плакатам. Беседуя с нами, часто ссылался на опыт известных советских авиаконструкторов, примеры же из своей практики приводил крайне редко. Скромность выгодно отличала его – мы, студенты, отлично это чувствовали».
Ну, а каков Мясищев-экзаменатор? Наверное, строгий, жесткий, скрупулезно-въедливый, не допускающий поблажек? Так всем казалось до первой сессии. Да, поблажек он не допускал, что верно, то верно, но и не «резал», избегал категоричных суждений об уровне знаний молодежи, щадил самолюбие. Экзамены часто превращались в беседу профессора и студента на тему, выходящую за рамки вопроса в билете. При этом профессор, верный себе, пользовался специфическими выражениями, наиболее распространенное из которых: «Я акцентирую ваше внимание…» К числу любимых относилось и словечко «жупел». Обсуждая, например, конструкцию высотных машин, Владимир Михайлович доказывал, что для них надо делать встроенные, а не вставные гермокабины. Германия поступила по-иному, и «это стало для экипажей жупелом».
В конце сороковых годов пошла мода «переводить» иностранные термины на русский язык. Коснулась она и Московского авиационного института. Лонжерон отныне следовало называть балкой, шпангоут – рамой, фюзеляж – корпусом, В журнале «Вестник Воздушного Флота» было напечатано письмо, так и называвшееся: «Упорядочить авиационную терминологию». Автор, кандидат технических наук, восставал против таких названий, как щитки Шренка, капоты NASA, компенсаторы Флеттнера, амортизаторы Лорда и пр.
Владимир Михайлович лишний раз не произносил иностранных слов. Иногда, правда, они вырывались помимо воли. Раз на экзамене студент не понял вопроса и обратился за разъяснением к Мясищеву:
– Что такое стеганая конструкция?
– Бывший монокок, – ответил профессор и улыбнулся глазами. – Отвечая на билет, можете для удобства пользоваться прежними названиями, – разрешил он.
Оставил свой след декан факультета и в деятельности студенческого научного общества, за организацию которого ратовал с первых дней пребывания в МАИ. Председателем общества стал Алексей Михайлович Черемухин, заведующий кафедрой строительной механики и прочности. Ему активно помогали Юрий Ильенко, Николай Германов и другие «маёвцы». В недрах общества организовался авиамодельный кружок во главе с недавним фронтовиком Леонидом Дунцем. Велись теоретические изыскания, устраивались научно-технические конференции. Некоторые разработки использовались в конструкциях самолетов, в частности туполевских.
К Владимиру Михайловичу часто обращались за отзывами о докладах, подготавливаемых студентами для конференций. Он никому не отказывал, заодно знакомясь с кругом научных интересов своих питомцев, выделяя среди них наиболее способных. Однажды студент Владимир Карраск подготовил доклад о жидкостной ракете ФАУ-2. За отзывом обратился к Мясищеву. Владимир Михайлович благожелательно отозвался о представленной работе, взяв Карраска «на заметку».
В повседневной практике Мясищев опирался на коллег, которые поддерживали его во многих начинаниях. Таких на факультете было немало, хотя находились и противники мясищевских методов (о них речь впереди). Среди самых преданных помощников Владимира Михайловича можно назвать заместителя декана по учебным делам А.Л. Гиммельфарба, руководителя научно-исследовательской группы Г.Н. Назарова, ассистентов Владимира Михайловича Н.И. Бирюкова (он рисовал уже упоминавшиеся плакаты), А.Д. Муравьева, В.А. Манучарова. Были у декана и помощники из числа студентов. Просьба сделать те или иные расчеты, провести исследования или лабораторные испытания выполнялись ими незамедлительно. С молодежью у Мясшцева сложились традиционно-дружеские отношения, он видел в будущих специалистах ту силу, которой чужды инертность и раскачка, которая употребит молодую энергию на достижение высокой цели. И не случайно Владимир Михайлович забрал в свое вновь организованное ОКБ весь выпуск 1951 года.