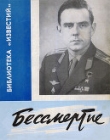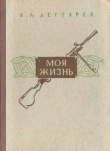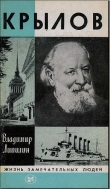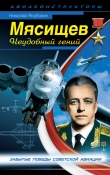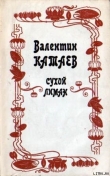Текст книги "Небесное притяжение"
Автор книги: Давид Гай
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
В целом конструкция самолета получилась ажурной, легкой и одновременно более сложной, многодетальной, чем у предыдущих АНТ, с использованием сразу нескольких новшеств. Своеобразие творческого почерка Мясищева тут ощущалось в полной мере.
В процессе проектирования Владимир Михайлович вникал во все мелочи, старался разобраться в каждой детали, каждом элементе. Это требовало огромной затраты сил, но с лихвой окупалось – Мясищев творил машину, именно творил, создавал «от и до».
В его бригаде подобралась способная молодежь. Да и сам Владимир Михайлович был ненамного старше коллег. Дерзость молодости следовало направить на решение сложных, во многом не изведанных задач. Руководитель заражал конструкторов истовой преданностью работе, учил нешаблонно мыслить, не бояться риска, развивал инициативу, воспитывал честолюбие, без которого трудно осилить большое дело.
И еще одна его черта импонировала сослуживцам. Он не давил своим авторитетом, внимательно прислушивался к предложениям рядовых сотрудников, отделяя зерна от плевел. На замечания и несогласия реагировал подчеркнуто спокойно, не позволял разыгрываться собственному самолюбию.
Однажды ведущий инженер по испытаниям ЛНТ-41 Михаил Михайлович Егоров обнаружил просчет в чертежах.
– По-моему, допущена ошибка в расчете прочности крыла, – сказал он Мясищеву.
Легче всего было отмахнуться: дескать, Егоров не прочнист, откуда у него такая уверенность… Мясищев отверг подобный способ защиты. Он знал, что Михаил Михайлович вместе с Петляковым готовил к полету в Америку самолет «Страна Советов», что он эрудированный специалист и если что-то утверждает, то не с бухты-барахты.
– Давайте проверим расчеты, – распорядился Влади мир Михайлович.
Ведущий инженер оказался прав – Мясищев во всеуслышание признал это. Из-за переделок машина с опозданием на месяц прибыла на аэродром.
Столь же внимательно отнесся руководитель бригады и к замечаниям и пожеланиям по размещению приборов и рычагов управления в кабине летчика.
И вот – первый полет нового самолета. 2 июня 1936 года в воздух поднялись пилот А.П. Чернавский и М.М. Егоров. Полет продолжался 25 минут. Через пять дней – новый контрольный полет. Затем полеты стали следовать через день. Они проводились на разных высотах и скоростях для проверки вибрации. В одном Чернавский почувствовал, что управление стало чересчур легким. Было высказано предположение о так называемой перекомпенсации элеронов. Чтобы удостовериться в этом, АНТ-41 опробовали туполевский шеф-пилот М.М. Громов и начальник летной станции Е.К. Стоман. Они подтвердили догадку. По указанию Мясищева, срочно увеличили «хвостики» элеронов. Машина стала летать уверенно.
Владимир Михайлович обязательно присутствовал на всех разборах полетов. Он дорожил сведениями, получаемыми из первых рук, то есть непосредственно от летчиков. В отличие от некоторых конструкторов, не принимал в штыки их замечаний, а старался докопаться до истины и быстро устранить обнаруженные дефекты.
Испытания шли своим чередом, бригада начала выпуск чертежей для серийного производства, к освоению торпедоносца готовился завод. Наступило 3 июля. В очередной – четырнадцатый – полет ушли А.П. Чернавский и Ф.И. Ежов. Перед ними стояла задача проверить машину на максимальной скорости. Самолет набрал высоту около 3 километров, скорость была 290 километров в час, истекала седьмая минута полета, и тут внезапно крыло начало с большой частотой вибрировать.
Неожиданность – самый коварный и страшный враг испытателя. Найти ей верное объяснение в считанные секунды удается крайне редко. А на большее времени у летчика нет. Не было его и у Чернавского. Вибрации рвали штурвал из рук, усиливались, и тогда пилоты покинули кабину, выбросившись с парашютами. Разваливаясь, самолет устремился к земле…
Что же случилось с машиной? Просчет в конструкции? Анализ катастрофы показал: торпедоносец сконструирован без изъянов, добротно и надежно. Просто ему не повезло, ибо он одним из первых советских самолетов принял на себя удар грозного, практически не изученного врага, названного флаттером.
Предоставим слово известному летчику-испытателю, Герою Советского Союза М.Л. Галлаю.
«С появлением новых скоростных самолетов в авиации едва ли не всех передовых стран мира прокатилась волна таинственных, необъяснимых катастроф.
Случайные свидетели, наблюдавшие эти катастрофы с земли, видели во всех случаях почти одинаковую картину: самолет летел совершенно нормально, ничто в его поведении не вызывало ни малейших опасений, как вдруг внезапно какая-то неведомая сила, будто взрывом, разрушала машину – и вот уже падают на землю изуродованные обломки: крылья, оперение, фюзеляж…
Все очевидцы, не сговариваясь между собой, применяли выражение «взрыв», так как не представляли себе других возможных причин столь молниеносного и полного разрушения. Однако осмотр упавших обломков не подтверждал этой версии: никаких следов взрыва – копоти или ожогов – на них не оказывалось.
Самым надежным источником информации – докладом экипажа потерпевшего аварию самолета – воспользоваться, как правило, увы, не удавалось. Очень уж неожиданно и быстро развивались события: всего за несколько секунд до катастрофы ничто не предвещало ее, а затем сразу – удар, треск, грохот, и самолет разлетается на куски.
Новому грозному явлению было дано название флаттер (от английского flutter – трепетать), но, если не ошибаюсь, еще Мольер сказал, что больному не делается легче от того, что он знает, как называется его болезнь по-латыни.
Одна за другой приходили тревожные вести о таинственной гибели французских, английских, американских скоростных самолетов.
Не миновала эта беда и нас».
…Пассажирский четырнадцатиместный самолет ЗИГ-1 проходил испытания. 15 декабря 1935 года при полете со значительной скоростью на небольшой высоте над аэродромом самолет разрушился. Правда, некоторые считали – виноват бафтинг, но большинство склонялось к тому, что это флаттер.
Едва не произошло аналогичное ЧП на самолете СБ, который под руководством Туполева спроектировал его друг и соратник А.А. Архангельский.
И вот новая атака – на сей раз на АНТ-41.
Самолет упал в районе Химок. Туда немедленно выехали Мясищев с помощниками, Егоров, другие специалисты. Судя по всему, возник флаттер, но почему на скорости 290 километров в час, не предельной для торпедоносца?.. Судили-рядили, осматривали обломки и вот что выяснили. У элеронов – подвижных поверхностей, расположенных на концах крыла, есть важная деталь – так называемый флетнер. Он механически связан с элеронами. Когда в одном из первых полетов обнаружилась перекомпенсация элеронов и ее начали устранять, рабочий увидел шов сварки на тяге флетнера. Шов показался ему некрасивым, и он до основания зачистил его грубым напильником. В итоге шов разошелся, сцепление с элероном нарушилось, начались самопроизвольные колебания флетнера, передавшиеся элерону, а затем всему крылу. Возможно, так и возник флаттер.
– Если бы шов остался незачищенным, возникли бы тогда колебания? – спрашивал Мясищев коллег и одновременно себя самого. – Видимо, все-таки возникли бы – на другой скорости, в другом полетном режиме. А вот на какой скорости – мы покуда не знаем.
Барьер вставал в полный рост, с неотвратимой очевидностью. Обойти его нельзя, можно только взять. И сколько еще барьеров будет впереди… «Весь фокус в том, что эти барьеры существуют не столько в самой природе, сколько в наших знаниях», – позднее сформулирует свою мысль Мясищев.
Пока же руководитель бригады думал об АНТ-41. Какая судьба ждет его? Логика подсказывала – нужны дополнительные изыскания, методы определения максимально допустимых скоростей для каждого самолета. Иначе говоря, надо научиться вести точный расчет величины критической скорости, раньше которой флаттер ни в коем случае не возникает[2]2
Это и было позднее сделано учеными ЦАГИ М.В. Келдышем, Е.П. Гроссманом, С.С. Кричевским, инженером В.Н. Беляевым и другими, после чего природа флаттера и способы борьбы с ним стали предельно ясны. Заслуга ЦАГИ в этом неоспорима.
[Закрыть]. Что же касается торпедоносца, то он годен для серийного производства – в этом нет никаких сомнений. Однако передача чертежей на серийный завод отсрочилась…
Как важно в такой момент не пасть духом, не раскиснуть, не опустить руки. Как важно верить в себя, в творческий потенциал коллектива. Среди качеств, необходимых творцу новой техники, рядом с талантом стоит мужество. Мужество идти своей дорогой, никого не повторяя и не копируя, мужество противостоять, когда на тебя и твой коллектив смотрят скептически, мужество пережить неудачи. На опыте своей первой машины Мясищев измерил всю глубину этого понятия.
Ранней весной 1936 года Владимир Михайлович в составе группы авиационных специалистов отбыл в США, в свою первую заграничную командировку. Цель поездки заключалась в посещении известных американских авиационных фирм «Валти», «Дуглас», «Консолидейтед», «Гленн-Мартин» и в приобретении самолетов для лицензионной постройки.
В самом факте такой поездки не было ничего необычного. Авиационные специалисты приезжали и в Советский Союз, знакомясь с процессом производства крылатых машин. В свою очередь, мы стремились перенять передовой опыт, в особенности американский.
Побывав в Америке, А.Н. Туполев обратил внимание на ДС-3 – двухмоторный самолет, рассчитанный на перевозку 14–21 пассажира. Для середины тридцатых годов машина фирмы «Дуглас» была своего рода эталоном. «Рабочая лошадка», как ее иногда называли, могла сгодиться на многое. В ней впечатляло все. Главным же впечатлением был метод технологии производства ДС-3, получивший название плазово-шаблонного. Была достигнута договоренность о лицензионной постройке в СССР ДС-3 (будущего Ли-2). Ознакомиться с новой прогрессивной технологией, получить необходимые оборудование и документацию и вменялось в обязанность конструкторам и инженерам – членам делегации, куда входил Мясищев. За океан вместе с ним отправились С.М. Беляйкин, И.П. Толстых, Б.П. Лисунов, А.А. Сеыьков, П.А. Воронин, М.И. Гуревич, В.И. Журавлев, Н.А. Зак.
Оформление заграничных документов Мясищева несколько затянулось, ему пришлось догонять группу. Из Ленинграда Владимир Михайлович добрался морем до Лондона, проследовал в Саутгемптон, откуда на океанском лайнере отплыл в Нью-Йорк. Далее путь лежал в пригород Лос-Анджелеса Санта-Моника на завод Дугласа.
Санта-Моника представляла собой типичный образчик «одноэтажной Америки». Бесконечно длинная главная улица Уайлшар вмещала все яркое, броское, впечатляющее – всевозможные офисы, магазины, кафе, кинотеатры, бурлески. Здесь и днем, и вечером кипела жизнь. От главной магистрали отходили десятки небольших улочек, которые справедливее было бы назвать переулками. Тихие, малоосвещенные, они резко контрастировали с деловой, бойкой, пестрой главной улицей. Тут и поселились наши специалисты, сняв комнаты в коттеджах, куда иногда доносился шепот океанского прибоя.
Каждое утро Мясищев и его коллеги совершали двадцатиминутный автопробег по отличному, обсаженному пальмами шоссе, ведущему к проходной завода. Им выделили рабочее помещение, бок о бок с ними трудилось несколько американских инженеров. Мясищев, Толстых, Гуревич говорили по-английски, остальные общались с помощью переводчика. Обедать ездили в Санта-Монику, где в кафе кормили вкусно и весьма дешево.
С самых первых дней пребывания «у Дугласа» Владимир Михайлович начал детально вникать в особенности плазово-шаблонного метода. Да, тут было чему удивляться. Если прежде конструктор вычерчивал каждую деталь, чуть ли не каждую заклепку прорисовывал, то теперь задавал на чертеже лишь основные размеры, освобождаясь от черновой, трудоемкой работы. А как же с другими размерами, с разными кривыми и прочими мелочами, без учета которых в самолетостроении делать нечего? На это конструктор давал исчерпывающий ответ, оставляя на чертеже магически звучащую фразу: «Взять по плазу».
Революция в технологии осуществлялась следующим образом. На склеенную и забранную в подрамник фанеру карандашом наносился чертеж. Карандашные линии прорезались, канавки заполняли тушью. Так готовился плаз – та «печка», от которой начинали танцевать создатели самолета. Плаз строго соответствовал натуре – и по конфигурации, и по масштабу. С плаза делали шаблон – уже металлический. Затем готовилась нужная оснастка. И наконец дело доходило до изготовления самих деталей с широким применением штамповки.
Ценность метода заключалась в унификации, высокой точности, полной взаимозаменяемости деталей. В итоге выпуск самолетов упрощался, убыстрялся, становился более технологичным.
– Не зря Андрей Николаевич ухватился за плазы, – оценил прозорливость Туполева Владимир Михайлович, беседуя с Лисуновым, главным инженером завода, на котором предстояло начать освоение нового метода. – Как в сущности просто и какой достигается эффект!
– Нелегко будет внедрять плазы, – высказывал сомнения Лисунов. – Это ж целая перестройка должна произойти не только в технологии – в умах.
– Вы правы, Борис Павлович, – другой класс работы. Но ведь первым всегда трудно. В данном случае пионеры мы с вами. Неужто не справимся?
Американские чертежи были выполнены в дюймах. Следовало перевести дюймы в миллиметры, притом не автоматически, а кропотливо, с тщательнейшим пересчетом всех элементов конструкции по отечественным нормам прочности. Работа заняла много времени.
Вторую половину субботних дней и все воскресенья наши конструкторы и инженеры, как правило, проводили в поездках. «Форд», за рулем которого сидел в прошлом заядлый планерист Игорь Павлович Толстых, а сзади – Владимир Михайлович Мясищев и Михаил Иосифович Гуревич – будущий соавтор знаменитых истребителей МиГ, отправлялся в Лос-Анджелес или в Голливуд, а зачастую и за много сотен миль от Санта-Моники. Пальмовый каньон, плотина на реке Колорадо, горы Сьерра-Невады, ковбойские состязания стоили того, чтобы их увидеть.
Американцы относились к гостям из Советского Союза дружелюбно и с интересом. Хотя, что скрывать, Мясищев и другие частенько замечали рядом с собой отличающихся специфическими манерами «ангелов-хранителей». Однако те не могли помешать гостям встречаться с рабочими, вызывавшими уважение трудолюбием и высокой внутренней организованностью. Несколько раз устраивались встречи с технологической элитой. Запомнились Владимиру Михайловичу беседы с инженерами, строившими плотину электростанции на реке Колорадо, прием в Калифорнийском технологическом институте. Кроме того, Мясищев летал в короткие командировки на авиационные фирмы «Валти» и «Консолидейтед».
Вдумчивый по натуре, Мясищев по собственной инициативе решил составить подробный отчет о деятельности конструкторского бюро и завода Дугласа. То, что он видел своими глазами, могло быть очень интересным для товарищей в Москве. Своими мыслями он делился с Толстых, Гуревичем, Лисуновым.
– Кое-чему американцам не грех и у нас поучиться, но есть и у них весьма любопытные вещи. Скажем, руководство для молодых специалистов по работе в КБ. Составлено с чисто американской деловитостью, сметкой и практичностью. Расписано до мелочей, кто, чем и как должен заниматься. Начинается с самого элементарного. Например, с того, что нельзя с помощью угольника резать бумагу ножом, ибо нож может задеть поверхность угольника и испортить его. А дальше – точные, емкие, умные рекомендации. Нет, что ни говорите, здорово придумано.
Поездка удалась полностью. Теперь дело было за освоением лицензионного самолета. В апреле 1937 года создается конструкторское бюро, преобразованное из бригады № 6. Оно размещается на специально выделенном заводе. Владимир Михайлович – главный конструктор, И.П. Толстых и И.П. Мосолов – его заместители.
Через несколько месяцев в Америку отправляется новая группа специалистов, в том числе И.П. Мосолов и начальник бригады крыла Б.П. Кощеев. Путь снова лежит в Санта-Монику, на фирму Дугласа. В лицензионном договоре записано: американцы должны поставить нам три комплекта чертежей ДС-3, технологическую оснастку, плазы и шаблоны в нужных количествах, а также один самолет в собранном виде, другой – в агрегатах и три – в деталях. Многое уже прибыло на завод-изготовитель лицензионного самолета, многое новой группе поехавших в США мясищевцев предстояло отправить в СССР.
Фирма выделила в помощь советским специалистам своего инженера-переводчика из эмигрантов дореволюционной поры и приставила к ним нескольких «ангелов-хранителей». «Ангелы» ретиво исполняли свои обязанности.
Однажды Б.П. Кощееву понадобилось измерить площадь заготовительного цеха. Он начал двигаться от стены к стене, в уме считая свои примерно метровые шаги. «Ангел» семенил сбоку и без умолку болтал, пытаясь сбить нашего инженера со счета…
Уже летом 1937 года на советском заводе начали изготовлять детали опытного образца ДС-3, используя плазы, шаблоны и оснастку. Необходимо было творчески «переварить» конструктивные новинки. Если обычно в крыльях машин основная нагрузка падала на лонжероны, то в американском самолете вместе с ними работали все элементы. Разрушение какого-то куска крыла не влекло за собой нарушения целостности всей конструкции, называемой монококовой. Такая же картина наблюдалась и в фюзеляже, где относительно тонкую обшивку усиливало большое число легких стрингеров.
Крайне ответственная миссия ложилась на плечи Мясищева и его коллектива. Ведь именно они первыми в СССР внедряли передовую технологию производства крылатой техники. Попутно замечу, что с подобной работой тогда не смогли справиться известные фирмы «Фоккер» и «Мицубиси», тоже закупившие лицензии на выпуск ДС-3. Здесь научились лишь собирать самолеты из американских агрегатов.
– В данном случае – никакой самодеятельности, рационализации, никаких усовершенствований, – не уставал предупреждать сотрудников Владимир Михайлович. – Абсолютно точное следование чертежам – вот наша цель. Стоит сбиться в одном-двух местах, и пойдет головоломная путаница.
Мясищев, Толстых, Мосолов, Кощеев, Гординский, Мостовой, Барбаумов, Равицкий и многие другие дневали и ночевали на заводе. Но одни их усилия не привели бы к желаемому результату, если бы не подвижнический труд рабочих, мастеров, технологов, инженеров. Большой вклад в освоение ДС-3 внесли директор завода Афанасий Михайлович Ярунин, главный инженер Борис Павлович Лисунов и главный технолог Николай Васильевич Лысенко. Их великая заслуга в том, что изменилась не только технология производства, но и психология людей, делавших самолет. Стопроцентная взаимозаменяемость деталей, никакой подгонки с помощью молотка или кувалды, процесс сборки, превращающийся в стыковку и регулировку, так как в сборочный цех попадали фюзеляж, крылья и другие составные части самолета уже с полной «начинкой»… Все это следовало не только научиться делать, к такому конвейеру надо было привыкнуть.
Не все, конечно, шло гладко. Вначале, хоть убей, не стыковались детали крыла. Наконец удалось установить: не учтен так называемый угол закрутки. Значит, надо искать его и соответственно дорабатывать плазы. Несколько дней, покуда работу не закончили, Мясищев не вылезал из цеха.
Через несколько месяцев был собран первый лицензионный самолет ПС-84 (в сентябре 1942 года он был переименован в Ли-2 – по имени Б.П. Лисунова, вложившего много сил во внедрение машины). Серийное производство шло безостановочно. «Самолет хорошо зарекомендовал себя как пассажирский и транспортный, имел широкое распространение, отличался надежностью, экономичностью и простотой в эксплуатации, – пишет историк авиации В.Б. Шавров. – Он применялся в Великой Отечественной войне для самых разнообразных перевозок на фронте и в тылу… Ли-2 за два десятка лет выпущено у нас несколько тысяч. В пилотировании самолет хотя и не идеален, но прост и приятен. Летчики о… Ли-2 говорили: «…не надо только мешать ему лететь».
«Мне довелось принимать участие в серийном выпуске Ли-2 в период войны, – вспоминает А.И. Гординский, собравший большой материал по истории внедрения самолета и составивший любопытную летопись этого внедрения. – Завод-изготовитель эвакуировался в Среднюю Азию, начал, что называется, с нуля. Вот где пригодился плазово-шаблонный метод, освоение которого в нашей авиапромышленности – немалая заслуга Владимира Михайловича Мясищева. Практически безостановочно завод приступил к сборке самолетов в десантно-транспортном варианте, выпуская в день одну, две, а потом и три машины. Самолет имел вооружение. К цептроплану подвешивалось 2 тонны бомб различного калибра и типа. Ли-2 летал в тыл к партизанам, выполнял и другие задания, использовался в качестве ночного бомбардировщика, фоторазведчика, штабного, санитарного самолета. И в мирное время, до середины семидесятых годов, верой и правдой служил он советским людям, летал в Арктике и в Сибири, помогал осваивать природные богатства. Как и его прототип ДС-3, Ли-2 стал одним из самолетов-долгожителей».
К сожалению, Владимир Михайлович не увидел первых серийных машин. Линия его жизни круто изменилась. В самом начале 1938 года он оказался на пороге трудных испытаний.