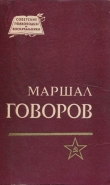Текст книги "Годы в броне"
Автор книги: Давид Драгунский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Утром впервые за пять месяцев после ранения я сполз с кровати, сунул ноги в огромные суконные шлепанцы и попытался передвигаться по комнате.
Не буду рассказывать, чего это стоило, но я три раза подряд обошел палату.
Как ни странно, мои попытки бороться с собственной беспомощностью горячо поддержал доктор Кугель.
– С сегодняшнего дня разрешаю тебе ходить и даже выполнять легкие физические работы. Завтра сделаем приспособление для выравнивания позвоночника. Но делаю это с условием, что ты все-таки обязательно поедешь в Железноводск.
Судорожно вцепился я в халат Кугеля. Я не ошибся в старом, добром хирурге: он понимает меня и делает все, чтобы помочь. Начмед сдержал слово. Над дверьми палаты оборудовали "собачий намордник", и каждый день по десять раз меня подтягивали к потолку, выправляя позвоночник. И он постепенно поддался, стал выравниваться. Это была моя первая крупная победа в борьбе за жизнь. С печенью тоже стало заметно лучше, желтуха исчезла, я постепенно приобретал человеческий вид.
В один из дней в конце апреля в палате появились представители штаба Харьковского военного округа. Мне вручили ордена Красного Знамени и Красной Звезды, а также полковничьи погоны.
Обо всем этом позаботился наш умный и проницательный командарм Павел Семенович Рыбалко.
* * *
Утро 30 апреля не отличалось от предыдущих дней. Оно было теплым и солнечным. Цвела акация, зеленым ковром покрывала землю трава. Необычным было лишь раннее появление в нашей палате начмеда доктора Кугеля. Справившись о самочувствии, Исаак Яковлевич спросил, хочу ли я увидеть фронтовых друзей. В ту же минуту открылись двери – и в комнату вошли Петр Кожемяков, Петр Рыков и Федор Романенко.
Расцеловавшись с друзьями, я первым делом, конечно, спросил, где доктор Федорова. Шофер и адъютант растерянно потупились. Молчал и Романенко.
– Где же Людмила Николаевна? – громко повторил я. – Почему она не с вами? Она жива?
Адъютант, осторожно ступая, вплотную подошел к кровати, пристально поглядел на меня и тихо сказал:
– Доктора Федоровой больше нет с нами, товарищ полковник... Это случилось 23 апреля. Прямо из боя бригада направлялась в новый район для переформирования. Нас сильно бомбили. Во время бомбежки и была тяжело ранена Людмила Николаевна... После ранения она прожила всего несколько часов. Я сам отвозил ее в госпиталь. Оперировал ее известный вам доктор Ковальский, но спасти Людмилу Николаевну не смогли...
У меня перехватило дыхание. С трудом взял себя в руки:
– Мне она ничего не передавала?
– Просила передать письмо, сахарный песок и глюкозу, чтобы лечили печень.
– А больше ничего?
– Еще Людмила Николаевна наказывала, чтобы вы выполнили данное ей обещание. Она сказала, что вы знаете, о чем речь.
– Да, Петр, знаю. Помню и никогда этого не забуду. Я дал ей обет вернуться на фронт и громить врага до полного его уничтожения...
В палате всю ночь горел свет.
Мой сосед крепко спал. Мы с Кожемяковым и Рыковым не сомкнули глаз. Перебивая друг друга, тезки до утра рассказывали о делах и людях бригады.
За форсирование Днепра и освобождение Киева бригада была награждена орденом Красного Знамени. Приезжал командарм Рыбалко. Собственноручно вручил танкистам гвардейское Знамя и орден.
– И знаете, что сказал тогда генерал? – торжественно спросил Рыков. Он сказал, что эти награды заслужили вместе с танкистами бывшие командиры бригады Чигин и Драгунский.
– Не забыли, значит, меня в бригаде?
– Что вы, товарищ полковник! Вас ждут...
Через несколько дней Кожемяков и Рыков выехали на фронт. А меня работники госпиталя отправили в Железноводск. Там, в санатории "Дом инвалидов Великой Отечественной войны", мне предстояло окончательно поправить свое здоровье.
...Живописно выглядит курортный городок Железноводск, а в те майские дни нам, раненым, он казался райским уголком. Затерянный в горах, окруженный зелеными лесами, залитый солнцем, он был настоящим чудом природы.
Санаторий разместился в старинном парке. Прямо к моему окну протянулись большие ветки душистой сирени.
В городке пробуждалась жизнь. А ведь совсем недавно здесь, как и в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске, разгуливали фашисты.
Захватив на несколько месяцев эти места, гитлеровцы посеяли в них смерть, голод, нищету, разорение. За дни оккупации они расстреляли десятки тысяч мирных жителей, взорвали многие здравницы. Следы фашистских злодеяний были видны повсюду.
Сразу после изгнания гитлеровцев началась большая восстановительная работа. В Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске развернулись десятки госпиталей и лечебных учреждений. И результаты этой работы не заставили себя ждать: например, полуразрушенный Железноводск уже начал принимать раненых солдат и офицеров. Большинство из них стали инвалидами и нуждались в длительном лечении и восстановлении сил.
Больные и раненые надеялись на благодатное солнце, минеральные воды и целебные источники. Верил и я, что избавлюсь от тяжких недугов, появившихся вследствие тяжелого ранения.
Руководил санаторием опытный врач Мильчев. Болгарин по национальности, он волею судьбы оказался за пределами своей страны и обрел в Советском Союзе вторую родину, которой служил верно и благородно, твердо зная, что победа СССР в Великой Отечественной войне принесет спасение его многострадальной свободолюбивой Болгарии.
Доктор Мильчев лично занялся моим лечением. Осматривая меня, он многозначительно вздыхал и приговаривал:
– Хирург, который оперировал вас, очень смелый врач. За одну эту операцию ему следовало присвоить степень доктора медицинских наук. Я просто по-хорошему завидую ему... А вас, полковник, могу порадовать. Самое страшное осталось позади. Теперь будем вместе бороться за ваше возвращение в строй...
Южное кавказское солнце, целебные минеральные источники, заботливые руки доктора Мильчева, врачей и сестер, беспредельная вера в жизнь – все это, словно исцеляющее чудо, подействовало на меня.
Пробыв в санатории около месяца, я буквально ожил.
Раны больше не гноились, стал выравниваться позвоночник, боли в печени постепенно прекратились. Опираясь на палку, я уже добирался до горы Железной, а в один из последних майских дней смог даже подняться на ее вершину.
Немало способствовали окончательному выздоровлению и письма от фронтовых друзей, благодаря которым я знал все, что было связано с нашей гвардейской орденоносной бригадой. Знал, что она сейчас пополняется и приводит себя в порядок на Тернополыцине.
Записка от начальника отдела кадров армии полковника М. Г. Меркульева влила в меня новые силы и уверенность в полном выздоровлении. Меркульев писал:
"Рыбалко вызывал меня, интересовался вашим здоровьем, приказал отправить посылку с продуктами, а главное, передать следующее: "Милости прошу вместе кончать войну".
После этой короткой записки я только и мечтал, как бы скорее вырваться на фронт.
Весточка, которую я получил с фронта, переходила из рук в руки. Дошла она и до лечащих врачей.
Доктор Мильчев только и мог сказать:
– Ваш генерал Рыбалко – настоящий человек. Он, пожалуй, сделал для вас больше, чем любой из нас, врачей.
Выздоровление шло успешно, но неожиданно на меня навалилось большое личное горе.
В один из июньских вечеров меня посетил односельчанин и друг детства Петр Усов, который тоже был ранен и находился на излечении в Железноводске. Мы не виделись больше пяти лет. С детства я знал его очень веселым и разбитным пареньком. Но тогда, встретившись со мною, Петр был мрачен и неразговорчив. Я сразу почувствовал: мой друг что-то недоговаривает.
Мы вышли на балкон, уселись в плетеные кресла. Разговор шел о нашем селе Святске, где оба родились и выросли. Вспомнили годы счастливой юности, нашу комсомольскую ячейку и первые дни коллективизации.
Я спросил о моих родителях. Петр промолчал. Спросил снова – та же реакция. Поведение Петра насторожило меня. С первых дней войны и не получил ни одной весточки от своей семьи, хотя неоднократно пытался связаться с ней.
И вот передо мною сидел школьный товарищ, побывавший после освобождения в нашем селе. Неужели я и от него ничего не узнаю?
Петр Усов оказался настоящим другом, не утаил от меня страшной правды.
– Знаешь, Давид, не в силах я больше молчать, – сказал он в конце вечера, собираясь уже прощаться. – Хотел скрыть от тебя, да не могу. Крепись, дружище. Нет у тебя больше семьи. Фашисты расстреляли батьку твоего, мать и Соню с детьми, Аню, не пощадили дедушку и бабушку. Вместе с ними погибли мой брат Ваня и наш друг Гриша Сапожников...
О гибели родных и близких я догадывался уже давно. Но не хотел верить в это. Освобождая города и села Украины, мы много раз видели следы фашистских злодеяний. Был я и у Бабьего Яра в Киеве. Видел бесконечные виселицы, могилы, трупы и разрушения на пути, по которому отступали фашисты.
Рассказ друга навсегда похоронил мои надежды. Какое злодеяние! Найдутся ли у меня силы, чтобы перенести эту страшную трагедию?!
Через несколько дней, когда острая боль немного притупилась, я посетил моего земляка. Еще раз выслушал печальный рассказ о гибели родных и близких.
Всех моих родных и весь партийный актив Святска расстреляли 25 января 1942 года. Оккупанты уничтожили всех, кто поднял голос протеста против их звериных порядков. Они безжалостно истребляли стариков, женщин, детей. Среди погибших 74 человека носили фамилию Драгунских. Это были мои родители, сестры и братья, дяди, родные и близкие...
В последний раз я побывал в Святске незадолго до войны. По случайному совпадению под родительский кров съехались тогда четыре брата. Я – слушатель академии имени Фрунзе, младший брат Михаил – курсант танкового училища, мечтавший стать военным и всегда следовавший моему примеру, средний брат Зиновий – студент Московского института химического машиностроения, и старший брат, работавший в Москве.
Грянула война, и наша добрая, хрупкая мама проводила всех четырех сыновей на фронт... Значит, она так и не узнала, что под Сталинградом сложили головы два ее младших сына.
Я невольно думал об этом, слушая Петра Усова, от которого узнал страшную правду.
Мою мать долго прятали соседи-русские, рискуя своей жизнью. И все-таки фашисты ее нашли. На Брянщине тогда стоял лютый мороз. Мать вывели на сельскую площадь. Все население согнали к зданию сельсовета. Эсэсовец крикнул во весь голос:
– Сколько у тебя сыновей, иудейка?
Мать презрительно на него посмотрела:
– Миллионы. Дети всех матерей – мои дети.
– Где твои сыновья?
– Воюют против вас, фашистских гадов.
– Прокляни своих сыновей, иудейка, и мы дадим тебе свободу.
Люди замерли в ожидании ответа.
Маленькая, седая, совсем больная женщина встала, расправила плечи, набрала в остывшие легкие холодный воздух и крикнула:
– Я благословляю своих сыновей, благословляю сыновей России на борьбу с ненавистным врагом...
Автоматная очередь оборвала жизнь моей матери, советской женщины, душой понимавшей, что такое дружба народов и любовь к Родине, хотя она была малограмотной и еле-еле умела расписаться. Она была не только матерью, но и советской патриоткой...
После всего, что я услышал от Петра Усова, немыслимо было дальше оставаться в санатории. Я стал собираться в путь.
Опять в строю
В один из знойных июньских дней я втиснулся в душный вагон, чтобы через Ростов и Харьков добраться до Киева.
Стояло лето 1944 года. Станции и разъезды, мелькавшие за окном, носили на себе неизгладимые следы войны.
Армавир и Ростов лежали в руинах и были неузнаваемы. Но, несмотря на это, жизнь здесь била ключом. Восстанавливались заводы, через Дон уже был сооружен временный мост, по которому двигались железнодорожные эшелоны.
Ожил Донбасс. Вовсю шли восстановительные работы на железнодорожных путях, в пристанционных постройках.
В Харькове сделал пересадку. Впервые за годы войны я ехал пассажирским поездом. Приближение к Киеву вызвало рой воспоминаний: о битве на Днепре, о букринском плацдарме, об освобождении столицы Украины.
С закинутым за спину солдатским вещевым мешком я, опираясь на палку, гордо зашагал по Крещатику.
Киевляне по кирпичику разбирали разрушенные дома, взрывали лестничные клетки, висевшие в воздухе, расчищали улицы и переулки.
Наконец добрался до окраины Киева – Святошино. В ноябре прошлого года в этих местах на лесных просеках, у Беличей и Пущи-Водицы шли ожесточенные бои. Теперь на опушке этого леса сидела большая группа солдат и офицеров: ждали случая, чтобы добраться до своих частей.
Лихо подкатил бензовоз. Из кабины выскочил чернявый шофер. Длинные тонкие усики, концы которых стрелками смотрели вверх, ничуть не старили молодого мальчишеского лица.
– Кому куда, пожалуйста, в кабину! – бойко выкрикивал он.
Из толпы доносились голоса:
– В Белую Церковь, в Житомир, в Казатин.
– В Тернополь. Может, по пути? – с надеждой спросил я.
Мне повезло. Шофер молча забрался в кабину, тряпкой протер сиденье, и мы покатили на запад по разбитой войной дороге.
Паренек оказался разговорчивым и расторопным. Успел рассказать о себе, о части, в которой служит второй год. К вечеру добрались до Бердичева.
– Мне сворачивать, товарищ полковник. Посидите минутку в кабине, здесь рядом дорожная комендатура. Я туда живо смотаюсь и приведу кого-нибудь. Не стоять же вам на шоссе в ожидании попутного транспорта.
Не прошло и нескольких минут, как из ближайшего переулка вынырнул мой новый знакомый. А вслед за этим к бензовозу подъехала автомашина, из кабины которой медленно выбрался неопрятно одетый угрюмый солдат.
– Солдат Мельников к вашим услугам. Пожалуйте в дорожную комендатуру. И зашагал широким шагом, не оглядываясь в мою сторону.
Я засеменил за солдатом. Мне вдруг захотелось растормошить этого мрачного человека.
– Чем недовольны, старина?
Мельников остановился, неопределенно посмотрел на меня:
– А что хорошего, товарищ полковник? Встречаешь, провожаешь, кормишь людей... Разве это война? Просил одного заезжего генерала захватить с собой на фронт, а он усмехнулся: "Фронт обойдется и без таких вояк".
– Да чем же вам здесь плохо?
– Хорошего маловато. Приеду на Урал, спросят: где воевал? на каком фронте? за что медали получал? А мне что сказать? С девчатами тыловые дороги обслуживал? Да моя старуха и та засмеет.
Теперь мы шли рядом. Я не перебивал своего мрачного спутника, а его вдруг словно прорвало:
– Навешали мне три медали... Намедни дали даже "За отвагу".
– За что же вас наградили боевой медалью – осторожно спросил я.
– Налетели "юнкерсы" и давай бомбить. Ну я со всей бабской командой склад тушил. Правда, толково получилось, спасли продовольствие.
– Оказывается, не даром хлеб едите.
Мельников неопределенно махнул рукой.
– Может, и не даром. А все-таки не война тут у нас.
– Сколько же вам годков, папаша?
– Пять десятков давно разменял. У меня уже сыновья в майорах ходят. Да вот, кстати, и пришли, – указал он на белый домик с узорчатыми окнами и уцелевшей изгородью.
В моем распоряжении оказались железная койка, ладный матрац, суконное шерстяное одеяло. Мельников позаботился обо мне: принес миску пшенной каши, котелок горячего чая. Теперь, когда я хорошо пригляделся, солдат уже не казался таким мрачным. Из-под густых бровей на меня глядели умные, добрые, отцовские глаза.
Мельников не торопился уходить из комнаты. Переминаясь с ноги на ногу, он стал упрашивать, чтобы я взял его с собой.
– Каяться не будешь, сынок. Руки у меня работящие. Я и плотничать могу, и сапоги тачал, и кузнечное дело знаю.
Разговаривая с ним, я невольно вспомнил своего отца. Он тоже был на все руки мастер. Вспомнил, подошел к Мельникову и утвердительно кивнул головой.
– По рукам, значит, сынок?
– Добро, батя! Собирайтесь в путь, завтра поутру махнем к фронту. Но прежде со своим начальством обо всем договоритесь.
– Это уж давно обговорено.
– Жалеть не будете. Поедете со мной в танковую армию, в бригаду, понимаете? Это вам не девичий хоровод!
Мельников подошел ко мне, подтянулся, приосанился и браво выпалил:
– Товарищ полковник, я на третьей войне воюю, знаю, почем фунт лиха, и вас не подведу.
– Спокойно, товарищ солдат. Не будем повторяться. Вопрос окончательно решен в вашу пользу.
На рассвете мы с Мельниковым забрались в кузов попутной машины и двинулись на запад.
Выехав из Бердичева, мы сразу почувствовали, что находимся в прифронтовой полосе. Перекрестки дорог пестрели десятками разноцветных указок. Стрелы их были направлены к складам и базам, мастерским и госпиталям. По фронтовым дорогам, по многочисленным рокадным и магистральным путям неслись потоки машин с продовольствием, горючим, боеприпасами, медикаментами. Они держали курс на запад, к своим корпусам, дивизиям, полкам.
Надвигалась ночь, и мы с трудом нашли Романовну, где разместился штаб 3-й гвардейской танковой армии. Большое село, погруженное в ночную тьму, казалось совершенно безлюдным. Ночной патруль долго шарил лучом фонарика по нашим документам. Удостоверившись в их подлинности, нас доставили в домик, где находились кадровики. Выяснив все, что положено в таких случаях, начальник отдела кадров полковник Меркульев, тот самый, что написал мне записку в Железноводск, спохватился, начал звонить командарму. Потом вдруг опустил на рычаг телефонную трубку, бросил на меня удивленный взгляд:
– Слушайте, у вас имеется лучшее обмундирование?
– У меня нет не только обмундирования, но даже вещевого аттестата.
Меркульев безнадежно махнул рукой:
– Пошли к командарму, он ждет вас.
Глухими, притихшими улочками мы добрались до окраины села. Здесь, в домике, стоявшем в глубине сада, расположился генерал П. С. Рыбалко.
Волнуясь, переступил я порог ярко освещенной электрическим светом просторной комнаты.
Склонившись над картой, за столом сидели несколько генералов. Я растерянно искал глазами командарма, чтобы доложить о прибытии.
– Ладно, хватит, вижу, что в госпитале натренировался рапортовать, упредил меня Павел Семенович.
Командарм ничуть не изменился. Таким же проницательным, с хитринкой в умных серых глазах, я впервые увидел его на Днепре в оврагах букринского плацдарма, а позднее много-много раз видел под Киевом, в Фастове и за несколько дней перед ранением в Плесецком.
Павел Семенович отечески обнял меня, несколько раз добродушно хлопнул по плечу, отступил на шаг, внимательным взглядом окинул меня сверху донизу и улыбнулся своей простой улыбкой, которая всегда покоряла людей.
– Ну, браток, будем воевать?
– Будем, товарищ командующий.
– Я тоже так думаю.
В тот день я впервые увидел начальника штаба армии генерала Дмитрия Дмитриевича Бахметьева. Огромную руку протянул мне член Военного совета армии Семен Иванович Мельников, которого я уже хорошо знал.
Генерал Мельников всегда поражал нас своим спокойствием, хладнокровием, личной отвагой, знанием солдатской жизни. Без громких напыщенных фраз, без шума и трескотни он умело руководил коммунистами танковой армии и пользовался у них безграничным уважением, непререкаемым авторитетом.
Рыбалко, судя по всему, тоже глубоко уважал Мельникова. Хотя командарм и член Военного совета были по характеру людьми совершенно разными, в работе они удачно дополняли друг друга.
Закончив дела, Павел Семенович Рыбалко пригласил всех к столу. Во время ужина он несколько раз пытливо поглядывал на меня, а когда поднялись из-за стола, спросил, как я смотрю на то, чтобы принять 91-ю армейскую танковую бригаду, командир которой, И. И. Якубовский, получил недавно повышение.
Предложение командарма застало меня врасплох. Все эти недели и месяцы я мечтал о возвращении в родную 55-ю бригаду, людей которой хорошо знал и горячо любил! Набравшись смелости, я честно сказал командарму, что обещал товарищам вернуться к ним, а главное – обещал сделать это человеку, которого уже нет в живых.
Я видел, как подошел к командарму генерал Мельников.
– А что, Павел Семенович? Может, и в самом деле пересмотрим свое решение и пошлем Драгунского в пятьдесят пятую? Его там наверняка ждут.
Рыбалко пристально посмотрел на члена Военного совета, молча взял телефонную трубку и попросил соединить его с командующим бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии генералом Я. Н. Федоренко.
– Яков Николаевич, ко мне из госпиталя прибыл полковник Драгунский, бывший командир пятьдесят пятой бригады. Я предложил ему армейскую бригаду наотрез отказывается.
Из аппарата донесся приглушенный расстоянием голос Федоренко:
– Передай ему, пусть хвостом не вертит. Бригада не невеста, и ее на выбирают.
Присутствующие улыбнулись. Все хорошо знали, что Федоренко любит крепкие и образные выражения.
– Яков Николаевич, а все же, мне кажется, он прав... Что я предлагаю? На армейскую бригаду поставить полковника Тутушкина, Бородина послать на учебу, а Драгунского назначить на прежнее место.
– Ну что ж, Павел Семенович, твои пожелания будут учтены. Посоветуюсь с кадровиками, ответ дам утром.
Выспавшийся, отдохнувший, шагал я утром к домику командарма. На лице Павла Семеновича Рыбалко светилась знакомая мне улыбка.
– А беспокоились вы напрасно. Москва утвердила вас командиром пятьдесят пятой танковой бригады.
– Спасибо, товарищ командующий!
– Ладно, ладно, после войны сочтемся. А пока давайте собираться в путь. Я распорядился построить бригаду, представлю вас танкистам, заодно поговорю с командиром этой бригады Бородиным. Предвижу его недовольство.
Два "виллиса" помчали нас на юг. По пути к нам присоединился командир корпуса генерал С. А. Иванов. Суровый на вид, малоразговорчивый, комкор исподволь изучающе смотрел на меня. Он пересел в машину командарма, и теперь мы оказались рядом на заднем сиденье. Разговор не клеился. За всю дорогу генерал только и спросил: "Как здоровье?"
Чувствовалось, что Иванов не верит в мои физические силы. Вид у меня действительно был далеко не боевой. Солдатская гимнастерка висела на мне, как на вешалке. Под глазами выдавались мешки, лицо еще было одутловато-желтым. Комкор наверняка думал, что человек, который имеет такой болезненный вид, много не навоюет...
И меня начали одолевать сомнения. Может быть, и в самом деле мне с моим здоровьем на фронте делать нечего. На какое-то мгновение я заколебался. Как бы ища поддержки, я посмотрел на сидящего впереди Павла Семеновича и подумал: "А как же он? Весь израненный, болезней не перечесть, а ведь армией командует". Как будто в ответ на мой вопрос Рыбалко обернулся и, видимо поняв мое настроение, ласково улыбаясь, сказал:
– Ничего, Драгунский, не падай духом. Нам еще до Берлина дойти надо. Слова командарма несколько ободрили меня. – До войны я тоже в больных числился, – продолжал Павел Семенович, – а теперь, видишь, ничего, воюю, все болезни пришлось отложить до лучшего времени. Мне еще в гражданскую досталось, да и потом не легче было...
По изуродованным улицам Тернополя, подвергшегося накануне вражеской бомбардировке, проскочила колонна "виллисов". Город горел. Пламя пожаров обжигало лица, дым застил глаза.
Разговоры в машине умолкли...
Город остался позади. Впереди зеленел разбухший от весеннего половодья лес.
Лесная просека с наезженной тропой уводила нас все дальше и дальше.
Глядя на сидящего впереди командарма, я с благодарностью думал о том, как много значит генерал Рыбалко для каждого из нас, своих подчиненных. Но тогда, в сорок четвертом, естественно, я далеко не все мог объять до конца.
Лишь ныне, спустя несколько десятилетий после войны, когда стали известны из разных источников страницы его замечательной жизни, перед нами встал во всю ширь этот необыкновенный человек.
В чем его притягательная сила, почему к нему тянулись сотни и тысячи людей? Где истоки уважительного, я бы даже сказал, любовного отношения к командарму со стороны его начальников, коллег, подчиненных?
За эти годы я по крупицам собирал все, что знали о Павле Семеновиче друзья и боевые соратники, ознакомился с их перепиской, покопался в архивных документах, побывал на его родине в селе Малый Истороп, Лебединского района, Сумской области. Там видел бронзовый бюст – памятник, сооруженный в честь дважды Героя Советского Союза П. С. Рыбалко на фоне знаменитого Т-34. Видел домик, в котором родился будущий маршал бронетанковых войск (в домике ныне создан музей). Посетил сельскохозяйственный техникум имени Рыбалко в его родном селе. Знаю, что имя вашего командарма присвоено Ташкентскому высшему танковому командному училищу, что в его честь названы некоторые школы, а также улицы в Москве, Киеве и других городах.
И чем больше думаю обо всем этом, тем лучше понимаю, с каким большим, мудрым и светлым человеком посчастливилось мне воевать на фронте. Как он был прост, доступен, человечен! Как хорошо знал и любил танкистов! Как гармонично сочетались в нем строгая требовательность и душевность!..
Выходец из многодетной рабочей семьи, начавший в 13 лет трудовую жизнь, Павел Семенович восемнадцатилетним пареньком попал в окопы первой мировой войны, участвовал в Брусиловском прорыве, был ранен и награжден за личную отвагу Георгиевским крестом. А с 1919 года навсегда связал свою жизнь с партией большевиков и Красной Армией.
В период гражданской войны он – командир кавалерийского полка в прославленной дивизии Пархоменко, затем – комиссар кавалерийской бригады. Дальнейший путь молодого краскома неразрывно связан с легендарной 1-й Конной армией.
В 1931 году Павел Семенович Рыбалко был принят в Военную академию имени Фрунзе. Неуемная жажда знаний, глубокая военная эрудиция, широта взглядов все это выдвинуло Рыбалко в число лучших слушателей.
После окончания академии Рыбалко более двух лет являлся помощником командира горнокавалерийской дивизии. А в 1937 г. его направили советником в Китай.
Обостренная обстановка создалась в конце тридцатых годов на Западе. И Рыбалко посылают в качестве военного атташе в Польшу. "Не знаю, когда было труднее: в степях Украины, где мы скрещивали клинки с польской шляхтой, или в бескровной войне с польскими дипломатами", – честно признался он однажды.
Знакомясь с документами Павла Семеновича, относящимися к предвоенным годам, невозможно не удивляться его уму, дару предвидения, умению дать серьезный анализ международной обстановки, сложившейся за несколько месяцев до нападения на Польшу фашистской Германии.
В дальнейшем он снова попадает в Китай, где до предела была накалена атмосфера – страну пытались оккупировать японские милитаристы.
Болезнь почек, отсутствие необходимых лекарств и диеты, тяжелое переутомление (4 года без отпуска!) – все это подточило здоровье Рыбалко. В Советский Союз он вернулся тяжелобольным. Было это незадолго до Великой Отечественной.
В годы войны Павел Семенович рвется на фронт, пишет в высокие военные инстанции, пишет И. В. Сталину.
В мае сорок второго желание П. С. Рыбалко удовлетворили: он был назначен заместителем командующего 5-й танковой армией...
* * *
На одной из широких просек южнее Тернополя выстроилась в пешем строю бригада.
Высокий, статный, внешне подтянутый полковник Бородин отделился от строя, зычным голосом подал команду "Смирно". Глухое эхо разнеслось по лесу.
Медленно, опираясь на свою крючковатую палку, Рыбалко прошел вдоль фронта бригады, сопровождаемый Бородиным. Сзади шагали мы с генералом Ивановым. Все замерло кругом. Все взгляды были устремлены в сторону командарма.
Останавливаясь у каждого батальона, Павел Семенович здоровался с танкистами и обменивался рукопожатием с комбатами.
Никогда в жизни не переживал я такой радости, как тогда: меня вернули в родную семью. Знакомые солдаты и офицеры узнали меня. Не нарушая команды "Смирно", они, казалось, следили за каждым моим движением.
Команда "Вольно" ослабила напряжение. Расплылось в улыбке лицо начальника политотдела бригады Александра Павловича Дмитриева. Маленький, юркий комбат Петр Еремеевич Федоров приветствовал меня поднятой вверх пилоткой. В строю стояли заместителя командира бригады Иван Сергеевич Лакунин, Иван Емельянович Калеников, Иван Михайлович Леонов, офицеры Осадчий, Рой, Засименко, Савельев и многие мои боевые друзья.
Здесь же находились родные и близкие мне адъютант Петр Кожемяков и шофер Петр Рыков. Вспомнились слова этих двух парней, сказанные мне в харьковском госпитале: "Приезжайте, вас ждут".
Что ж, с такими ребятами уверенно пойдем добивать фашистов. Счет у меня к гитлеровцам большой и еще полностью не оплаченный.
Бородин приказал перестроить бригаду, и образовался большой круг. В центре его оказались командарм, комкор, Бородин, Дмитриев и я.
– Я привез вам в бригаду вашего командира, – сказал командарм. – После семимесячного отсутствия он вступает сегодня в командование...
Долго длилась задушевная беседа Павла Семеновича с танкистами. А после того как роты разошлись по своим землянкам, Рыбалко направился к стоявшему в сторонке Бородину.
– Я вас хорошо понимаю, товарищ Бородин, но и вы тоже поймите меня правильно. Этот человек воевал с ~ бригадой на Днепре, участвовал с ней в числе других частей в освобождении Киева, Василькова. Вы, наверное, слышали о рейде бригады в тылу врага в Паволочи, о трудных боях под Фастовом... Там его и стукнуло так, что еле жив остался. А тут сам приехал и нажимает на нас: дайте только пятьдесят пятую бригаду, а не какую-нибудь другую. Что прикажете с ним делать?
Широкая, подкупающая всех улыбка осветила крупное лицо командарма. В тот же миг ожили глаза Бородина.
– Товарищ командующий, я рад, что вы удовлетворили просьбу Драгунского. Его действительно ждут танкисты бригады...
Во второй половине дня уехали Рыбалко и Иванов, ушел собираться в путь Бородин. Группами и в одиночку стали подходить ко мне солдаты и офицеры. Среди них я не увидел многих из тех, кого хорошо знал: кто погиб, кто находился в госпиталях. С болью услышал о гибели многих близких, дорогих моему сердцу людей и храбрых воинов. Я никак не мог смириться с мыслью, что нет в живых начальника штаба бригады, способного и обаятельного офицера Матвея Эрзина.
Вместе с Дмитриевым мы начали обход землянок. Радостно встречали нас танкисты. Старые мои знакомые по; боям комбаты Федоров, Савченков, Осадчий уверенно докладывали о своих подразделениях. Новые комбаты и командиры рот, прежде чем начинать доклад, с любопытством оглядывали меня, а я всматривался в их лица.
Отличное впечатление произвел на меня командир батальона автоматчиков бывший пограничник майор Старченко. Долго засиделись мы у разведчиков. А к ночи забрели на огонек в медсанвзвод, который расположился в деревушке, притаившейся у опушки леса. Всегда гостеприимные медики на сей раз также не подкачали.
Последние дни июня прошли в больших хлопотах, связанных с подготовкой к предстоящему наступлению.