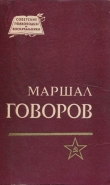Текст книги "Годы в броне"
Автор книги: Давид Драгунский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Драгунский Давид Абрамович
Годы в броне
Драгунский Давид Абрамович
Годы в броне
{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста
Аннотация издательства: Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Д. А. Драгунский в годы Великой Отечественной войны командовал сначала отдельным танковым батальоном, а затем – танковой бригадой. В своих воспоминаниях он показывает мужество и высокое боевое мастерство советских танкистов. Правдиво нарисованы образы видных военачальников Советской Армии, командиров частей и подразделений, политработников и рядовых воинов.
Содержание
Дипломы получате после войны
Прощай, академия!
Встреча с Полем Арманом
Первый поединок
Генерала принимают в партию
Ошибка
Мы будем в Берлине!
Здравствуй, юность!
Фронтовые дороги
Осенью сорок первого
Перемены в моей судьбе
Снова на фронт
Под Киевом
Смерть – не сметь!
На реке Тетерев
Спасибо, товарищи медики!
Опять в строю
Дорогами наступления
Боевая тревога
На польской земле
На оперативных просторах
Правнуки Кутузова
В конце войны
Перед последним броском
Тельтов-канал
В Берлине
Вперед, на Прагу
Идут победители
Примечания
Подвигам павших и живых посвящается эта книга
Автор
Дипломы получите после войны
Прощай, академия!
Война застала меня в крепости Осовец, на одной на дальних точек нашей западной границы. В этом гарнизоне размещались части 2-й белорусской дивизии, в которой мы – слушатели старшего курса Военной академии имени М. В. Фрунзе проходили сборы и стажировку. Мне повезло: я вновь оказался в родном полку, в котором начинал свою службу красноармейцем. Тогда он располагался в живописных лесах неподалеку от Минска.
С тех пор прошло восемь лет. Из новобранца и рядового 2-й роты 4-го стрелкового полка я превратился в командира и слушателя академии.
Попав из Москвы в приграничную зону, я и мои товарищи острее почувствовали приближение надвигающейся грозы. Наша казарма стояла почти у самой границы, по другую сторону которой (мы уже знали это) притаились фашистские войска.
В те дни в районе Белостока и Гродно стояла ясная, солнечная, теплая погода. Лето вступало в свои права, и полевые занятия на наших курсах шли по утвержденным графикам. В субботу, 21 июня 1941 года, нашу группу занесло в лесные дебри: отрабатывалась тема "Действия войск в лесисто-болотистой местности". По плану мы должны были заночевать в осовецких лесах. Однако для нас не осталась тайной странная озабоченность начальника курса генерала Якуба Джанбировича Чанышева и его заместителя по политической части Александра Петровича Чепурных. Посовещавшись между собой, они вдруг отменили занятие. Мы возвратились в свою крепость.
В гарнизоне в предвыходной день все шло как обычно. Широко распахнул перед нами свои двери Дом Красной Армии. В большом зале крутили кинокартину. В боковом крыле – в столовой и у буфета – толпились любители пива.
Последняя предвоенная ночь ничем не отличалась от предыдущих, хотя все, кто находился в Осовце, давно чувствовали приближение войны.
Странно все же устроен человек. Готовишься месяцами к какому-то неизбежному событию, но вот оно наступает, и кажется, что все произошло внезапно.
Так случилось и со мной, когда вблизи нашей казармы разорвались тяжелые снаряды, а над городком появились немецкие самолеты.
Из шокового состояния меня вывела непрекращающаяся стрельба зениток. Вражеский снаряд разворотил угол казармы. Одеваясь на ходу, мы выскочили на улицу, где уже раздавались команды командиров. Войска оставляли гарнизон и уходили занимать оборону на подготовленных позициях.
Выбравшись из горящей крепости, слушатели несколько часов ожидали решения командования. Во второй половине дня нам объявили, что мы должны вернуться в Москву, в свою академию. Колонна машин со слушателями оставила горящий Белосток.
Дороги на Слоним и Барановичи забиты нескончаемым потоком беженцев. Это были в основном женщины и дети, старики и больные. На тележках, велосипедах и пешком двигались они на восток.
Фашистские стервятники не щадили эту беззащитную массу людей, с бреющего полета они в упор расстреливали женщин и детей. Плач, стоны, проклятия фашистским извергам слышались на дорогах. Огромные столбы пыли заволакивали небо. Нещадно палило солнце. Нечем было дышать. Не было воды, чтобы утолить жажду. Обессилевшие люди падали на обочины дорог. Многие больше так и не поднимались...
Миновав Барановичи, Минск, Смоленск, мы через несколько дней добрались до Москвы.
* * *
Наша академия жила войной, и только войной. Родная Фрунзевка напоминала бурлящий поток. В классах и аудиториях, в читальных залах и коридорах шумно и гневно обсуждались тревожные сводки Совинформбюро.
В просторном вестибюле во всю стену висела карта Советского Союза. Синие флажки на ней передвигались все дальше на восток. Видя это, трудно было заставить себя спокойно заниматься в академии.
"Немедленно уйти на фронт!" Эта мысль сверлила мозг, не давала покоя.
Могли ли мы, питомцы академии, выращенные и воспитанные нашей партией и комсомолом, в эти тяжелые для Родины минуты оставаться в стороне?! Заявления а рапорты подавались на имя начальников курсов и факультетов. Просьбы сыпались к наркому обороны. Мой рапорт мне вернули с резолюцией: "И до вас дойдет очередь. Вы проявляете недисциплинированность и невыдержанность. Начальник академии генерал-лейтенант Веревкин-Рахальский".
С этим отказом я носился по коридорам академии, возмущался, грозил написать жалобу.
И я был не одинок. Такие же резолюции получили многие слушатели. А наш старший преподаватель полковник Павел Степанович Мерзляков за проявленное всей группой во главе с ним самим "фронтовое настроение" наработал строгое внушение.
И все же наш выпускной курс постепенно таял. Одних направляли сразу в действующую армию, а других посылали в тыл формировать новые подразделения и части. Посчастливилось пехотинцам, кавалеристам, артиллеристам, саперам и связистам. Нам, танкистам, не везло. Спрос на нас был невелик: не хватало танков.
Занятия чередовались с дежурствами на крыше десятиэтажного дома. Пришел и мой черед в первый раз встать на вахту. Ночь была на редкость темная и безмолвная, совсем не похожая на предвоенные московские ночи. Город-великан погасил свои огни и сурово притаился внизу. Одиночные звезды сверкали в безоблачном небе. Между ними шарили прожекторы.
Дежурить мне посчастливилось с однокурсником и другом Володей Беляковым. Мы проговорили ночь напролет. Вспоминали общих друзей, ушедших в действующую армию, анализировали последние сводки Совинформбюро, мысленно переносились с одного участка фронта на другой.
Коротка летняя июльская ночь, но нам она показалась бесконечной. Быстрыми серыми тенями скользили машины с затемненными фарами. Замаскированные уличные фонари, занавешенные окна домов придавали улицам безжизненный вид. Вдали вырисовывались темные силуэты высоких зданий. Володя Беляков вдруг повернулся ко мне, глаза его сурово сверкнули:
– Скажи, только не виляй, неужели они докатятся до Москвы?..
Что мог я ответить? В те минуты я думал о том же.
Володя крепко сжал мою руку.
– Слушай, Дима, – произнес он непривычно торжественным голосом, – дадим друг другу клятву, что пройдем всю войну рядом, плечом к плечу, как шли до сих пор.
Его настроение сразу передалось мне.
– А если придется умирать, – продолжил я его мысль, – то умрем, как положено мужчинам и солдатам. Клянешься?
– Клянусь! – сказал Володя и обнял меня. – А Паша Жмуров? – вдруг спохватился он.
– Приведем и его к присяге! – пошутил я.
– Когда-то теперь зажгутся огни Москвы? – с грустью спросил мой друг.
– Зажгутся! – уверенно ответил я. – Обязательно зажгутся!
Ночь подходила к концу. Скоро стало совсем светло. Свежий ветерок разогнал сон. Солнечные лучи постепенно рассеяли гнетущие мысли. Мы сдали дежурство и медленно направились в Хамовнические казармы, где находилось общежитие нашей академии.
Прошел месяц. Огонь войны со страшной силой полыхал над просторами Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии.
Очередная сводка Совинформбюро сообщала, что на фронте обозначилось еще одно направление – смоленское.
Синие флажки передвинулись дальше к востоку. Я молча отошел от карты и уныло побрел в аудиторию. В большом вале лекцию читал полковник Евгений Варфоломеевич Леошеня. Тема: "Инженерное обеспечение наступления стрелкового корпуса". Тягуче медленно, не повышая голоса, лектор излагал основы наступательного боя: "Основным видом боя является наступление. Оно, и только оно, приводит к полному разгрому врага и к победе над ним..." Плохо вязались слова лектора с последней сводкой! Подумать только – Смоленщина в огне! Мысли мои блуждали вокруг дорогих мест. Там, между Смоленском и Брянском, я родился, и теперь война вплотную подошла к моему дому. Я думал о судьбе отца, матери, сестер. Надо было принимать какие-то меры к их спасению. Решил сразу после занятий дать телеграмму родным, чтобы обязательно эвакуировались – ведь фашисты их не пощадят. Братьям моим повезло. Все трое на фронте, в действующих войсках, а я, хоть и имею боевой опыт, вынужден сидеть в Москве и заниматься только одним: ежедневно слушать лекции о наступлении и обороне. Дело в том, что наша кафедра стала в те дни более почтительно относиться к обороне. Не обошлось даже без крайностей: некоторые преподаватели начали возносить оборону до небес.
Резкий звонок прервал мои раздумья. Все заволновались: в зал стремительно вошла секретарь нашего курса Ольга Петровна. Звонким голосом она стала называть фамилии слушателей:
– Майор Григорьев Василий Андреевич, майор Федоров, капитан Коткин Григорий Михайлович, старший лейтенант Драгунский Давид Абрамович, в отдел кадров!
От неожиданности я вздрогнул. Неужели свершилось? Володя Беляков и Павел Жмуров, сидевшие рядом, вскочили с мест, стали обнимать и поздравлять меня.
Так каждый из нас воспринимал весть об отправке на фронт.
Григорьев, Коткин, Федоров и я сидели в разных углах лекционного зала. Все четверо сразу поднялись. По установившимся традициям нас пропустили вперед. Прощальным взглядом я окинул своих однокурсников. Медленно, словно торжественным маршем, мы шли по залу.
В коридоре нас покинуло внешнее спокойствие – стремглав побежали в отдел кадров. До чего краток приказ, а ведь в нем определена судьба человека! Григорьев назначен командиром танкового полка, майор Федоров начальником штаба этого полка. Я и Коткин – командирами батальонов. К вечеру мы должны выехать на Западный фронт.
Как угорелые носились мы с бегунками по различным службам. Наконец бегунки с двадцатью подписями заполнены, расчеты с академией закончены и мы предстали перед начальником академии генералом Николаем Андреевичем Веревкиным-Рахальским.
Стройный, подтянутый, он внимательно наблюдал за нами сквозь пенсне. А мы сидели за длинным столом немного усталые и взволнованные.
Как ни рвались мы на фронт, но в ту минуту трудно было расставаться с преподавателями и слушателями, с крепко полюбившейся академической семьей.
Я удивился, когда начальник академии обратился ко мне:
– Видите ли, товарищ Драгунский, в жизни не следует опережать события. Я знал, что вы были недовольны моим ответом, даже резко осуждали меня за отказ, но в такой час не будем ссориться... Желаю всем вам хорошо воевать. Мы верим, что питомцы академии имени Михаила Васильевича Фрунзе достойно проявят себя на фронте.
Мы встали. Торжественно прозвучали ответные слова, произнесенные майором Григорьевым. Потом генерал вышел из-за стола, пожал нам руки, тепло попрощался и уже вдогонку произнес:
– А насчет дипломов не беспокойтесь. Дипломы получите после войны. Мы засчитаем вам успешные действия на фронте и рады будем поставить отлично...
Хлопоты, связанные с нашим отъездом, закончены. Чемоданы уложены, громоздкие вещи розданы. Володе Белякову я подарил свою подушку. Он был явно не в духе, фыркал и отказывался. Володе предстояло остаться в стенах академии и по-прежнему слушать лекции, участвовать в семинарах, решать тактические задачи.
– Замучили вы меня своими подарками, – в сердцах сказал он. – Кто ни уезжает, обязательно сует мне подушку, одеяло и всякое барахло. Скоро открою магазин "Пух и перо".
– Да пойми, дружище, не тащить же все это с собой.
Мы считали Володю богатым человеком: он имел двенадцатиметровую комнату на Трубной площади. Поэтому ненужные вещи, как правило, оставляли у него. Сегодня Беляков выглядел особенно взвинченным. Причиной наверняка был мой отъезд на фронт. Ведь с ним и с Павлом Жмуровым нас связывали долгие годы дружбы и совместной работы.
...Впервые мы встретились много лет назад под Минском, в 4-м стрелковом полку 2-й белорусской дивизии. Я пришел в армию из деревни Ахматово Калининской области. Беляков и Жмуров приехали из Ногинска, где по окончании средней школы работали на "Электростали".
В минских лесах мы крепко подружились. Вместе нам было легче переносить длинные переходы, форсированные марши и тяготы солдатской службы.
Однажды нас вызвали в канцелярию. Командир роты Баранулько объявил приказ командования:
– Решено направить вас в танковую школу. Надеюсь через несколько лет увидеть вас достойными командирами Красной Армии...
Слова ротного вмиг сокрушили мои заветные планы: я мечтал, отслужив в армии, податься в Москву и поступить в МГУ на литературный факультет.
Осенью 1933 года всех троих направили в Саратовскую Краснознаменную бронетанковую школу. А через три года мы успешно окончили ее.
То было хорошее время. Помню позднюю осень 1936 года. Железнодорожный экспресс Москва – Владивосток увозил нашу группу на восток. Павел Жмуров, Володя Беляков и я вместе со Славой Винокуровым и Андреем Барабановым были назначены в один танковый батальон. Девять суток мчал нас поезд. Часами мы простаивали у окна вагона. Мимо, как на киноэкране, проплыли Ярославль, Свердловск, Красноярск, Чита, Хабаровск...
Позади остались Уральский хребет, барабинские степи, забайкальские озера, дальневосточная тайга... В канун Нового, 1937 года мы прибыли к месту назначения. Здесь перед нами открылась новая, овеянная романтикой страница неведомой доселе военной жизни.
Танкисты 32-го отдельного танкового батальона приняли нас в свою дружную семью. Служили мы в разных ротах, но жили в одной комнате. Поздно вечером возвращались домой, и наша маленькая комнатушка наполнялась шумом и весельем. Павел рассказывал о случаях, происшедших с ним в тайге, Володя делился неудачами на полигоне. Меня после тридцатикилометрового лыжного пробега клонило ко сну. Но вдруг оживал наш серый, запыленный, репродуктор. Сиплый голос начальника клуба врывался в комнату: "Сегодня в 21.00 состоится репетиция драматического кружка, после чего будут танцы".
Толкая друг друга, мы спешно одевались, брились, обливались "Шипром" и мчались в наш маленький, тесный, прилепленный к таежной сопке клуб. С первыми звуками вальса "На сопках Маньчжурии" прочь улетала усталость...
Нелегким был путь моего командирского становления. Люди у меня во взводе подобрались отменные. Водители танков Петр Никифоров и Ибрагим Валеев считались танковыми асами, на их счету значилось несколько сот часов вождения боевых машин по крутым сопкам и таежным дебрям. Командиры танков Анатолий Кузнецов, Евгений Богатое и Андрей Швайковский были признанными танковыми снайперами, поражавшими цель с первого выстрела.
Да и танки Т-26 по тому времени были неплохими. Казалось, все бы должно быть в порядке, но тем не менее на первых порах далеко не все ладилось у меня во взводе. Теперь я понимаю, что во многом был виноват сам – допускал неоправданную резкость, не хотел учиться у младших командиров, считая, что это зазорно для лейтенанта. Не знаю, как сложилась бы моя судьба дальше, не вмешайся мои начальники. Присматриваясь к молодым командирам, в том числе и ко мне, они сразу заметили мои недостатки. Основательно повозились со мной и командир батальона майор Михаил Васильевич Алимов, и батальонный комиссар Яков Иванович Ефимов, и секретарь парторганизации Суслов. Труды их, видимо, не пропали даром. Через год я уже командовал танковой ротой и даже одним из первых на Дальнем Востоке в составе экипажа успешно провел свой танк под водой через реку. Это было 13 июня 1938 года. На глазах у всей нашей 32-й стрелковой дивизии мой танк, оборудованный двумя трубами, замазанный суриком и солидолом, вошел в бурную реку Суйфун (Раздольная) и спустя 15 минут пребывания под водой вышел на противоположный берег. Тогда я и получил первую награду. Командир дивизии майор Николай Эрастович Берзарин наградил членов экипажа именными часами.
Однажды в воскресный день я со своей ротой отправился на реку.
День выдался хороший, лов рыбы оказался удачным. В котле варилась тройная уха. Запах душистого перца и лаврового листа приятно щекотал ноздри. Аппетит разыгрался не на шутку. Вокруг костра образовалось плотное кольцо людей. Вытащенные из-за голенищ солдатских сапог ложки, как штыки, засверкали в воздухе. Но... долгожданная уха так и осталась несъеденной. Прибежавший дежурный встревоженно сообщил: "Батальону объявлена тревога". На сей раз она оказалась не учебной, а настоящей, боевой. Через несколько часов мы мчались к советско-маньчжурской границе.
Пройдя свыше двухсот километров по тридцатиградусной жаре, мы оказались в районе озера Хасан лицом к лицу с японскими самураями.
Первая атака вражеских позиций 2 августа 1938 года оказалась неудачной. Три наших танка были подбиты и два сожжены. Вместе с ротой я откатился на исходные позиции.
События в районе озера Хасан многому научили нас. Попытка сбить японцев без разведки, без серьезной подготовки, на "ура" не имела успеха. Враг оказался более хитрым, чем мы наивно полагали. Он хорошо окопался, занял две сопки – Заозерную и Безымянную и пристрелял все подступы к ним. Стоило только нам показаться, как противник открывал огонь.
Через камыши, по болоту танкисты подобрались вплотную к вражеским позициям. Были разведаны все тропинки. Через болото проложена гать. Каждый водитель танка определил свою дорожку. Установили указки, ориентиры.
6 августа начался генеральный штурм неприятельских позиций. Красноармейцы, увлеченные примером своих командиров, воодушевленные героизмом коммунистов и комсомольцев, дружно пошли в атаку.
3-я рота, которой я командовал, наступала на высоту Безымянную. Вместе с нами шла сотня танков. Тысячи пехотинцев ползли и карабкались на кручи сопок. На головы врага сыпались фугаски, сброшенные бомбардировщиками Героя Советского Союза Павла Васильевича Рычагова.
Бои шли на подступах к высотам, на берегу озера Хасан, на самих сотках. Перевалило за полдень, а бои не прекращались.
В танке стояла неимоверная жара, нечем было дышать, снарядные гильзы обжигали руки. Через прицел я видел только ярко-голубое небо. И вдруг что-то рвануло в машине. Мелкие осколки иголками впились в щеки и нос. Дым и грязь пеленой застлали глаза. Танк развернулся влево, стал окатываться вниз. Я схватил водителя за плечо, закричал: "Остановись!" Напрасно! Неуправляемая машина помчалась вниз и, зарывшись по башню в болото, застыла в мертвой судороге.
Только выскочив из танка, я понял, что произошло. Передо мной стояли окровавленные члены экипажа. Среди них не было водителя Андрея Сурова. В танк попало два японских снаряда – первым водителю оторвало ногу, вторым пробило голову. Вышла из строя коробка перемены передач. В правом борту нашего Т-26 зияли две круглые рваные пробоины.
11 августа наши войска завершили полный разгром захватчиков на сопках Заозерная и Безымянная. Кусочек нашей родной дальневосточной земли был освобожден...
Весной 1939 года мы с Павлом Жмуровым и оправившимся от ранения Володей Беляковым переступили порог Военной академии имени Фрунзе.
В одинаковых темно-синих бриджах, в коверкотовых гимнастерках, со сверкающим на груди у каждого орденом Красного Знамени – такими появились мы в лекционном зале академии. "Три танкиста, три веселых друга – экипаж машины боевой", – шутили однокурсники.
Годы совместной учебы в академии пролетели незаметно. Лекции чередовались с практическими занятиями. Военные лагеря, стажировки в войсках, общественная работа, лыжные тренировки, коллективное посещение московских театров – все это заполняло жизнь каждого из нас. И вот сегодня мы должны расстаться. Встретимся ли еще когда-нибудь?..
Молча подошли к автобусу. Шофер открыл дверцу и пригласил нас войти. Накрапывал дождь. Из окна автобуса я видел, как Володя и Павел сняли фуражки и стали медленно махать ими над головой.
Быстро вступал в свои права вечер. В машине было темно, и никто не заметил, что по моему лицу пробежала непрошеная слеза.
Покинув Хамовнический плац, автобус промчался по Садовому кольцу и влился в поток машин, плывших по мокрому асфальту Ленинградской магистрали.
Свет фар образовал две длинные узкие полоски, разрезавшие сгущавшуюся тьму. Крупный дождь выбивал барабанную дробь на стеклах и железном кузове машины. Прижавшись к сиденьям, мы ушли в свои мысли, каждый молча прощался с Москвой.
Немало радостных страниц моей юности было связано с этим городом, хотя детство мое прошло в селе Святск на Брянщине, где жила наша бедная еврейская семья, в которой было двенадцать детей.
...Мое родное село примостилось у самой границы России и Белоруссии. В двухстах метрах от Святска простираются белорусские перелески. Разделяет эти республики ручеек, протекающий по западной окраине нашей улицы. А чуть дальше вклинился к нам кусочек Черниговщины. И получалось, что наши святские петухи, в соответствии с поговоркой, кричат одновременно на три губернии.
Густые сосновые и еловые леса образуют летом зеленые острова в обширных полях. А зимой все покрывает глубокий снег. В это время года мороз разрисовывает диковинными узорами окна нашего покосившегося домика. А внутри – тепло и уютно. Мать, братья, сестры занимаются своими делами, отец строчит на старенькой швейной машинке "Зингер". Когда мать ставит на стол большую миску с вареной картошкой, мы, дети, быстро расхватываем горячие картофелины, макаем их в соль и с удовольствием уплетаем.
Я помню себя с малых лет. Удивительно уютно было в нашем маленьком доме, особенно зимой. А весной... Лишь только растает снег, наш Святск, с его огородами-палисадниками, утопает в зелени, кустах малины, крыжовника, смородины, в высоком бурьяне и чертополохе. Среди лета необозримые поля вокруг покрываются белым и розоватым цветением картофеля.
Не зря называли нас – жителей деревень и местечек "картошниками". Картошка была нашим хлебом, нашим мясом, нашей первейшей и главной пищей.
Святск считался большим селом. Здесь жили русские и поляки, белорусы и украинцы, несколько десятков еврейских семейств. И не случайно, видимо, колхоз, созданный в тридцатые годы, назвали "III Интернационалом".
В старину в наших краях смешанные браки почти не встречались. Зато после революции Ивановы роднились с Гореликами, Соломыкины – с Рахлиными, Усовы – с Германами, Драгунские – с Тихомировыми.
Отношения между жителями села были дружеские. Один почитал другого. Объяснялось это тем, что в течение многих веков здесь жили работящие люди. Русские преимущественно сапожничали. Украинцы любили бондарное дело, мастерили повозки и сани. Белорусы занимались землепашеством. Евреи из рода в род становились портными или скорняками.
Мой отец тоже являлся потомственным портным. Мастерством он не блистал, зато был большим тружеником: мог за один день обслужить со своей старенькой швейной машинкой, которую постоянно таскал с собой, целую деревню. А когда после сбора урожая наступала пора свадеб, он был желанным гостем в любом доме, так как славился остроумием и мог, как никто, провозглашать здравицы...
Деревни, окружающие Святск, были строго поделены между четырьмя портными – братьями Драгунскими.
Отец обслуживал бедные деревушки. Он уходил на заработки сразу на несколько дней и возвращался домой на субботу только вечером в пятницу.
Когда я немного подрос, то частенько убегал в конце недели в деревню, где работал отец, а в пятницу мы вместе возвращались домой.
Ах как я любил эти дни! С утра до вечера валялся с деревенской ребятней у реки или бродил в лесу. Мы прыгали с крутого берега в реку, качались на ветвях, нависших над водой, собирали орехи и ежевику, наведывались в чужие сады и огороды, за что отец не раз лупил меня. "Таскать из чужих садов яблоки – это каждый шалопай может! – приговаривал он при этом. – Ты лучше попробуй сам посади яблоню или грушу!"
А ночью, когда я засылал рядом с ним в сарае на пахучем сене, отец клал руку мне на голову и мягко поглаживал волосы. Я притворялся спящим и улыбался в темноте. Я понимал: отец любит меня, хотя и дал вечером взбучку. И я тоже любил отца: его нельзя было не любить. Он был добр и прекрасно относился к людям. Соседи знали, что у Абрама Драгунского всегда можно одолжить несколько копеек, что он никогда не откажет в просьбе.
Отец ценил людей по их труду, он не выносил бездельников и святош. А нас, детей, с малолетства учил своему ремеслу.
– Они будут хорошими портными, – не раз говорил он матери. – Лучшими, чем их отец. Они не станут бить баклуши, можешь быть в этом уверена.
Мать улыбалась, слушая его, но думала о своем: ей очень хотелось, чтобы нам, детям, повезло в жизни больше, чем им с мужем. Она во всем была верной помощницей отца, хотя забот с двенадцатью детьми вполне хватало. Мама родила одиннадцать сыновей и дочерей, а двенадцатым был ее маленький братишка Сеня, оставшийся на руках после смерти матери. Отец считал Сеню родным сыном, и мы все любили его как родного.
Отец мой был человек простой и бесхитростный, вечно озабоченный, как прокормить семью. Но судьба наградила его тонкой душой и обостренным чувством прекрасного. Женился он на девушке-красавице. Я навсегда запомнил мать молодой, стройной, улыбчивой, доброжелательной, неутомимой и ласковой. Запомнил, что окружающие называли ее красавицей Рахилью.
Когда мы подросли и стали немного разбираться в жизни, то долго не могли понять, как это наша мама, такая красивая, умная, образованная (мы были убеждены, что она знает все на свете, хотя ей удалось закончить только 3 класса), решилась выйти замуж за простого портного. А жили родители, несмотря на бедность, очень счастливо. И не только потому, что любили друг друга: мать была бесконечно благодарна отцу за его человечность...
Семьдесят четыре человека насчитывал род Драгунских. Это была целая династия портных. И проживали они из поколения в поколение в Святске. Забегая вперед, скажу, что из всех нас в живых остались только двое – я да старший брат Зиновий, проживающий ныне в Москве...
В школу я пошел, когда мне исполнилось десять лет. Но учился без особого интереса. Отец частенько говаривал матери, что из меня не выйдет никакого толку, что голова у меня пустая и, видно, мне на роду написано быть портным.
Учеба действительно не прельщала меня. Все чаще и чаще ходил я с отцом по деревням. Хотя проку от меня было мало, он охотно брал меня с собой: в доме становилось меньше одним едоком.
И все же мама заставила меня учиться. Постепенно я полюбил школу, учителей, и особенно преподавателя литературы Николая Александровича Жданова. Я втайне завидовал тем, кто учился лучше, кто знал и понимал больше, чем я. Это заставило меня подтянуться.
Моим лучшим другом с первых классов был Гриша Сапожников. Именно благодаря ему я пристрастился к книгам. Читал до поздней ночи, делал заметки, рассказывал о прочитанном младшим братьям, сестренке, маме...
Наша дружба с Гришей Сапожниковым сохранилась на долгие годы, и оборвала ее гибель Гриши. Накануне войны он был председателем сельсовета. В сорок втором фашисты расстреляли многих жителей Святска. Григорий Сапожников погиб вместе с моими родными, сестрами, дядьями, племянниками. Его имя выгравировано на одном из мраморных надгробий, поставленных на могилах этих мучеников...
Семилетку я закончил в шестнадцать лет. Несколько месяцев ушло на диспуты: продолжать мне учебу или сесть за швейную машинку? Когда мои соученики узнали, что я не подал документы в Новозыбковскую среднюю школу, они целой ватагой ворвались в наш дом и атаковали моих родителей. Услышав, что меня хотят сделать портным, Гриша Сапожников не побоялся возразить моему отцу:
– Стать портным? Не такое уж это достижение. У Давида большие способности, он должен учиться!
На другой день к нам домой зашел Н. А. Жданов. Мать угостила моего учителя чаем и горячими картофельными оладьями. Попивая чаек, Николай Александрович пытался убедить моих родителей и всю семью, собравшуюся за столом, что я должен продолжать учебу.
Держа обеими руками стакан с чаем, он обвел взглядом всех моих братьев и сестер и, обращаясь к отцу, проникновенно сказал:
– Поймите меня правильно... Вовсе не обязательно, чтобы все ваши дети стали портными... Время сейчас совсем другое. Советской власти нужны грамотные и образованные люди, особенно выходцы из трудовых семей. А Давид паренек с головой. Он по натуре активен, полон энергии. Не зря товарищи выбрали его секретарем комсомольской ячейки. Не обрубайте крыльев своему сыну. Пусть летит, он вырастет орлом!
На другой день я отвез свои документы в Новозыбков, в среднюю школу номер один.
Несмотря на большие трудности, школу я все же закончил. О возврате в Святск не могло быть и речи. В 1929 году я попытался поступить в Гомельский железнодорожный институт, но получил двойку по математике. Не теряя времени, забрал документы и безбилетником добрался до Москвы.
Поступить в вуз мне так и не удалось, но особенно не переживал из-за этого. За дни пребывания в Москве я убедился, что человек здесь не пропадет. Случайно встретил земляка – бывшего секретаря Новозыбковского уездного комитета комсомола Бардадына. В Москве он работал в Краснопресненском райкоме комсомола. Бардадын сунул мне в руку пятирублевку и дружелюбно сказал:
– Наведывайся ко мне. Работой мы тебя всегда обеспечим.
И он сдержал слово.
По путевке Краснопресненского райкома комсомола я стал работать в Мосстрое. Так началась моя трудовая жизнь.
Работал с удовольствием. Сначала с утра до вечера таскал наверх по шатким лесам "козу" с несколькими десятками кирпичей. Потом стал бригадиром землекопов, затем возглавил бригаду, о работе которой писала "Комсомольская правда". Вечера проводил в библиотеке имени Гоголя на Красной Пресне. Времени хватало на все, и я твердо верил, что смогу стать литератором, о чем мечтал еще в школе.