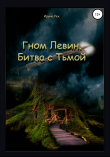Текст книги "Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
III
ЛЕВИН И ОКСАНА
Герой наш очнулся в незнакомой комнате на низенькой, но мягкой постельке. Оглянувшись, он заметил на себе тонкую полотняную сорочку с маленьким воротом, вышитую синими и красными узорами по-малороссийски. Комната была небольшая, но светлая, чистенько прибранная. Перед образами в богатых окладах теплилась лампадка. По стенам висели ружья, сабли, дробницы, пороховницы, торчали сайгачьи рога. Над самой кроватью висели две картины, нарисованные яркими масляными красками. На одной было изображено побоище Козаков с татарами. Для вящего уразумения мысли и тенденциозности картины, художник счел благоразумным на левой стороне картины, внизу, подписать: «Се козаки», а на правой стороне: «А се прокляти татаре». Общая подпись под картиной гласила:
Оттак козаки гостей пріймають,
Доброю горилкою напувають,
На списи мов кабанив здіймають,
Гострыми шаблюками упень рубають.
На другой картине изображен был всем известный запорожец, который сидит под деревом (дерево похоже на пальму, но это – явор), пьет горилку, играет на бандуре, а конь, привязанный к воткнутому в землю «ратищу» (копье), с нетерпением роет копытами землю. Под картиной – также всем известная подпись, поражающая своей неожиданностью: «А чого ты на мене дивишься?» и т. д. Это – историческая картина, целые столетия поражавшая и досель поражающая грамотных украинцев. Подходит человек полюбоваться на картину или на портрет и вдруг с удивлением читает: «А чого ты на мене дивишься?» Невольно человек берется за бока и хохочет.
Улыбнулся и герой наш, взглянув на картину.
В это время дверь комнаты приотворилась, и из-за косяка робко выглянуло прелестное женское личико. Герой наш, пораженный этим видением, невольно приподнялся на локте и перекрестился, словно бы то было ангельское видение. Видение, со своей стороны, радостно воскрикнуло, перекрестилось и, закрыв вспыхнувшее краской лицо рукавом, исчезло за дверью.
«Вася! Грачи прилетели! Весна пришла», – слышится в сердце неведомый голос, и сердце чует, что действительно весна пришла... весной, теплом повеяло к сердцу... Вспоминается берег Днепра, страшная, зеленая вода, омут, скользкие, холодные камни под водой... звон в ушах, точно все киевские колокола сошли в Днепр и звонят-звонят... Но вот нащупывается что-то живое, мягко-упругое... плечи... волосы... груди... а звон все страшнее... солнце, свет, зеленый какой-то, точно вода... И вдруг – грачи, весна...
Дверь опять отворилась, и в комнату с робким, но радостным лицом вошла женщина, уже почти старушка, одетая просто, по-украински, но изящно, как одевались тогда жены козацкой старшины, горожанки.
– Благодареніе Господу, я бачу, що вам полегшало, – сказала старушка, – а нам так страшно було за вас.
И она подошла к постели: «Вы спасли от смерти нашу дочку – Бог наградит вас, а мы весь вик будем за вас молиться...» И она перекрестилась, взглянув на образа. «За кого ж нам молить Господа Бога? Скажить, будьте ласкови, ваше имя, отечество и званіе?»
– Меня зовут Василием, Савин сын, Левин, войск его царского величества гренадерского полка капитан, – отвечал Левин (так звали нашего героя). Говоря это, он приподнялся на постели.
– Лежить-лежить, будьте ласкови, Василій Савич.
Левин чувствовал слабость, но он быстро припомнил все, что случилось.
– Не беспокойтесь, государыня, я совсем здоров. Но как ваша дочка? Что с ней после этого ужасного случая? – быстро заговорил он.
– Слава Богу, слава Богу! Налякала вона нас – и теперь страшно, як згадаю. А Бог миловав – здоровенька, як рыбочка, тилько по вас дуже убивалась бидна дитина. «Я, каже, повинна буду в его смерти». Дуже плакала, як прійшла в себе, глядючи на вас. Теперь треба ій порадовати. Оксанко! Оксанко! Ходи сюда, дитятко! – громко сказала старушка, обращаясь к двери.
Видение повторилось. В двери опять показалось прелестное личико. Но теперь оно, все пунцовое до кончика ушей, не закрывалось уже рукавом. С глазами, полными слез, девушка подошла к матери, не смея взглянуть на своего спасителя, крупные, как горошинки, слезы не удержались на длинных ресницах и покатились по щекам: то были слезы радости, благодарности и – стыда. Последнее, а отчасти и первое чувство заставило ее броситься на грудь матери и разрыдаться совсем.
– Годи-годи, дитятко! Ты бачишь – им легше – вони слава Богу... Годи ж, Оксаночко, – говорила мать, гладя по голове девушку. – Треба ж тоби и подяковати Василія Савича... Не плачь, не соромься – вони тоби тепер як отец ридный.
Девушка открыла заплаканное лицо и перенесла свои большие, серые как шкурка змеи, глаза на Левина. Левин, в свою очередь, весь попунцовел. Ему казалось, что он никогда не видел такой чарующей красоты, хотя очарование это не могло не усиливаться от того потрясающего драматизма, который столкнул его с этой девушкой – где же? – у порога смерти.
– Я рад... – начал было Левин, но на этом и прекратилась его речь – лексикон его истощился.
– Подякуй же, дурна, чого стоишь? – настаивала мать.
– Дякую, – прошептала девушка.
– Я рад... – И опять вышел весь лексикон его.
В это время под окном жалобно завыла собака. Девушка встрепенулась. Большущие глаза ее засветились еще больше.
– Се вона по вас, – быстро сказала она Левину, – так убивалась бидна...
И мигом выбежала из комнаты. Старушка улыбнулась и покачала головой. «Дурна дитина – молода еще». Через минуту девушка явилась с собакой. Последняя радостно взвизгнула и бросилась к Левину, силясь достать до его лица.
– Ну-ну, будет-будет! Обрадовалась? – сказал Левин, гладя собаку и отталкивая ее от себя.
Лексикон его для разговора с собакой оказался обширнее, чем для разговора с девушкой. И последняя, в свою очередь, в присутствии собаки стала смотреть на Левина смелей.
– Ох, яки ж мы дурни! – заторопилась старушка. – И подяковати вас не вмили, а тепер и не спитаємо – чим вас частувати? Чого б, скажить, вам принести покушать? У вас другій день и крошки во рту не було...
– Благодарю вас, сударыня, – мне ничего не хочется. Я только смею спросить вас – у кого в доме я нашел такое гостеприимство? Кого я должен благодарить за оказанную мне помощь?
– Мій муж – сотник малороссійских его царьского величества войск Остап Петрович Хмара. Вин тепер с царем у Туречини, на войни. А се наша дочка – Оксеніею зовуть. Ото ж вона и надилала нам клопот, а вам щи бильш, та спасиби Богови, вызволив вас од смерти... Та що ж се я, дурна, разбалакалась як сорока, а не те щоб вас нагодувати та напоити.
В то время, когда суетливая старушка топталась на месте и тараторила без толку, ее «Оксения» не оставалась без дела. Она, по-видимому, состояла уже в большой дружбе с собакой Левина и охотно разделяла ее радость: пес поминутно скакал то к ней, то к Левину, стараясь поцеловать или хоть лизнуть своего хозяина или хорошенькую панночку. Последней это очень нравилось, и она весело отбивалась от собаки и смеялась, а Левин с удовольствием смотрел на девушку и дружески ей улыбался.
– От – дурна дитина! – опять затараторила старушка, глядя на дочь. – Чи давно ж таки ще Бог та добрый чоловик спасли од смерти, а воно вже и забуло, дурне – с собакою грается... А вже й не маленька – девьятнадцяте лито пишло як пип свяченою водою облив та Оксеніею наименовав... Ох, лишечко! Та с тобою, дурне, я й сама здурила...
И старушка выбежала из комнаты. Остались только Левин, «дурна дитина», как выражалась старушка, и пес. По выходе матери, «дурна дитина» разом присмирела и хотела было ускользнуть, но Левин остановил ее.
– А вы, Ксения Астапьевна, благополучно оправились после того несчастного случая? – спросил он ласково.
– Слава Богу, благополучно, – отвечала девушка, защищаясь от собаки.
– А очень испугались тогда?
– Я не помню.
– Ермак! Не трогай панночку – пошел! – обратился он к собаке, которая совсем заполонила панночку, на что последняя не особенно претендовала. – А скоро вы пришли в себя, когда я вас вынес из воды? – снова спросил он.
– Скоро... Як вы упали... тут я дуже злякалася – я думала вы вмерли.
– А кто эта девушка была с вами?
– То наша Докійка.
В это время дверь растворилась, и сама Докийка влетела в комнату. Она несла поднос, уставленный всякими яствами, питиями и ласощами. Докийка тоже вся побагровела, вспомнив, в каком костюме она познакомилась в первый раз с этим паном – одна распущенная коса защищала тогда ее девическую скромность. Теперь эта коса заплетена была жгутом и представляла подобие доброй оглобли, оканчивавшейся зеленой и голубою лентами. На крепкой шее и высокой труди, выпиравшейся из-за шитой сорочки, рассыпано было с полчетверика всяких бус и стекляруса, при малейшем движении издававших такой звук, словно бы ломовая лошадь встряхивала своею наборною сбруей. Босые, красные, хотя соразмерные ноги ступали твердо; короткая юбка-сподница обнаруживала икры невообразимого в наш тщедушный век размера. Метнув своими большущими, черными как шпанская вишня глазами на пана, она потупила их и снова побагровела, когда счастливый Ермак хотел и ее облапить, полагая, что в этот радостный день со всеми надо целоваться. Докийка поставила поднос на стол и за чем-то снова побежала. За нею хотела ускользнуть и сама панночка, но Ермак, доселе не освободившийся от телячьего восторга и все еще надеявшийся лизнуть свою приятельницу в самые губы, зацепился лапой за ее монисто.
– Не пускай, не пускай, Ермак, – весело сказал Левин, который при всей своей слабости чувствовал какой-то прилив радости и теплоты, – не пускай.
Девушка засмеялась и точно брызнула из своих глаз в глаза Левина током света.
– Ой! Вин манисто порве, – сказала она, отстраняясь от собаки.
Докийка опять вошла своею бойкой походкой, опять метнула на пана черными глазами, звякнула монистами так, что Ермак бросился сначала к ней, а потом к подносу с яствами, и постлала на стол новую, принесенную ею скатерть. Вместе с панночкой они стали расставлять на столе кушанья и тихо перекидываться словами, относящимися к делу.
Левину казалось, что он дома, в родной семье. Что-то давнее, детское проснулось в нем при виде этих милых, приветливых лиц, и ему хотелось встать, обнять всех, рассказать им все, все, что он пережил, передумал, перечувствовал. На душе у него было легко и светло, как в этой светлой приютившей его комнате-светлице.
– Как же это ты, Докийка, не доглядела за панночкой, что она чуть не утонула? – шутя спросил он.
– Вони не слухали, – отвечала Докийка, потупясь. – Вони дуже далеко плавали.
– А теперь уж вы далеко не будете плавать, Ксения Астафьевна? – спросил он саму Ксению.
– Ни, теперь вже нас одних мама не пустиме...
– Таки й правда, буде вже, докупались трохи не до смерти, – затараторила старушка, переступая через порог и таща какие-то новые ласощи. – Сидить тепер дома, або купайтесь у корыти, як утята.
– Ну, мамо – яка ты! – возразила Ксения, ласкаясь к матери.
– Добре, добре, а все ж таки у Днипр – ни ногою.
– Ну-бо, мамцю, – мы у бережечка.
– Ни-ни, и не проси... Другій раз Василій Савич не полизе за тобою, и так он до чого довела чоловика... Сором та й годи! Може ще й не встане...
Ксения как ужаленная бросилась к Левину, закрыла лицо руками и заплакала. Слезы так и закапали сквозь пальцы.
– Ксения Астафьевна! Что с вами? Ради Бога, успокойтесь! Матушка пошутила, – говорил встревоженный Левин, приподымаясь с постели.
Девушка продолжала рыдать... «Я – я...» Рыданья не давали ей выговорить ни слова.
– Господь с вами! Ксения Астафьевна! Да успокойтесь, ради Христа.
И Левин схватил руку девушки. «Успокойте ее, прошу вас!» – обратился он к матери.
– Ну, годи ж, годи... – заговорила та, гладя дочь по голове. – То-то, дурне – само наробило добра, та самой плаче... Ну, буде вже – наплакалась.
– Я, мамо... вони... я не хотела... вони не вмруть...
И она вновь зарыдала... Все пережитое в эти дни – и личный испуг, нравственное и физическое потрясение, стыд, боязнь за другого, который едва не погиб, спасая ее, а может быть, еще и умрет по ее вине, все, что для другой менее крепкой натуры могло разрешиться горячкой, тяжелой болезнью, все это разрешилось рыданьями, которые копились в молодой груди с того момента, когда Ксения, очнувшись на руках своей горничной и собравшись с мыслями, увидела, что ее спаситель лежит мертвым на земле. Теперь, когда мать сказала, что, быть может, «он не встанет», молодая энергия лопнула, как не в меру согнутая сталь, и в Ксении сказалась женщина. Она рыдала неудержимо. Встревоженная мать топталась на месте, гладила и крестила ее. Даже мужественная Докийка струсила и утирала рукавом слезы.
– Постой-постой, я зараз...
И старушка бегом, словно бы у нее были Докийкины ноги, пустилась куда-то из светлицы. Левин сам не выдержал – заплакал (передряга этих дней и у него разбередила нервы). Он потянулся, схватил руки Ксении и, целуя, обливал их слезами... «Ради Бога... ради Господа Всемогущего», – шептал он.
Тут только опомнилась девушка... Она высвободила свои руки и, глядя в глаза Левина и сквозь слезы улыбаясь, говорила: «Я не буду, не буду – не плачьте вы – простить мене!..»
– Ось-на! Выпій, доню... се свячена вода... зараз полегшає, – суетилась мать, притащившая склянку с святой водой, – пій, доню – оттак, оттак...
И она перекрестила дочь. Девушка выпила глоток.
– От-бачишь? Разом усе пройшло од святой воды, – уверенно говорила старушка.
И действительно прошло. «Дурна дитина» успокоилась. Она мельком взглянув на Левина, вышла из светлицы, а за ней вылетел и Ермак в полной уверенности, что ему дадут теперь целую миску хлеба, размоченного в малороссийском борще, вкус которого он уже знал.
Старушка принялась потчевать своего гостя. Докийка стояла у стола, сложив руки на богатырской груди.
– Будьте ласкови, покушайте трошки. Оце печени курчата, оце порося холодне с хрином, оце свижа ковбаска, пампушечки, огирочки... Може выпьете сливянки, медку... Ото яблучка квашени... павидла... покушайте на здоровьячко – вам и полегшає.
– Много вам благодарен, почтеннейшая... Я не знаю вашего имени-отечества, – говорил Левин.
– Олена Даниливна мене зовуть.
– Благодарю вас, Елена Даниловна, но мне теперь ничего не хочется.
– О! Як же ж можно! Ни-ни! Хворому треба пидкрепы... хоч курятинки трошки.
Левин должен был повиноваться и попробовал цыпленка.
«Я бы охотно выпил чего-нибудь холодненького», – сказал он.
– Медку? Кваску?
– Квасу бы.
– Докіе! Бижи – хутко – нациди квасу.
Докия побежала. Монисты ее производили такое звяканье, словно проходил взвод стрельцов, когда они шли убивать князя Долгорукова, сказавшего, что после убитой щуки всегда остаются зубы.
– А вы були на войни? – спросила любознательная старушка.
– Как же, со шведом воевал, тоже и в полтавской виктории участие принимал. За свою службу его царским величеством, а особливо светлейшим князем много взыскан, также и его высочеством царевичем, коего удостоился сопровождать от града Львова, что в Червоной Руси, до Киева, – отвечал Левин служебным тоном.
– Так се вы провожали царевича? – с удивлением спросила старушка.
– Я, Елена Даниловна.
– То-то недаром наша служка Докійка казала, що бачила вас с царевичем у лаври, а потим признала вас, як вы вже лежали у нас хвори. Мы думали, що вона так-соби меле.
Звяканье монист возвестило пришествие Докийки. Она принесла квас. Вслед за нею вошла и Ксения. Она казалась смущенною.
– Мамо, – сказала она тихо, не глядя на Левина, – прійшли москали-драгуны, питаються – чи не у нас их началник, копитан Левин? Кажуть – пропав. Та кажуть, що Ермак – его собака. А Ермак як побачив москалив – зараз до их... такій радый.
– Та так же, доню: Левин Василій Савич – се ж вони, их началник, копитан... Вин же ж тебе, дурна, и из Днипра вызволив.
Девушка при этих словах взглянула на Левина и остолбенела. Краска сбежала с ее лица. Докийка смутилась и покраснела. Ей казалось, что у них – сам царевич. Она вспомнила Днепр, воду, себя...
IV
ПРИЗНАНИЕ И РАЗЛУКА
Время шло, Левин совсем поправился благодаря теплым попечениям старушки Хмары, хорошенькой Оксаны и добросердечной, всею душою преданной им Докийки, которая была ровесница своей панночки, училась у ней разным молитвам, а ей пела песни, рассказывала сказки и не чаяла в ней души. У обеих девушек были прекрасные голоса, и, как кровные украинки, они звенели ими от утра до ночи, особенно когда Левин совсем оправился и девушки заметили, что он любит их пение. А Левин действительно любил песню потому, что сам он был весь исполнен самого страстного лиризма. Энтузиаст по природе и лирик, он, в силу своего времени и тогдашнего мировоззрения, не мог никуда направить мощь своего внутреннего лиризма, кроме как в религиозную страстность, в религиозный мистицизм. Мысль его, как мысль поэта, всегда выливалась в живые образы, в мистические представления. Оттого еще в детстве и ранней молодости, когда молва о стрелецких ужасах, о кровавых расправах Петра со сторонниками царевны Софьи и старых порядков доходила до его родного вотчинного села Левина, в пензенско-саранской глуши, и доходила уже в легендарной форме народного и отчасти раскольничьего творчества, в уме и в пылком воображении молодого Левина созидались целые образы, и в конце концов перед ним выступал страшный образ апокалипсического антихриста, с его соблазнами, направленными на разрушение мира, с его таинственною «печатью» – погибельным клеймом этого всесильного, человеконенавистного зверя. Против реализма начала XVIII века, реализма, в фокусе которого стоял Петр I, боролся такой же могущественный и едва ли не более реализма устойчивый идеализм, который приютился в поклонниках старины, в расколе, ушедшем в леса, дебри и пустыни и умиравшем, умиравшем бесстрашно, геройски, на кострах, на плахе, на кольях и от самосожжения, – идеализма, который господствовал и в мягкой, поэтической душе царевича Алексея Петровича, хотевшего лучше отказаться от могущественного трона всероссийского, чем от своего «друга сердешново Афрасиньюшки» и от своих демократических симпатий. К этому разряду людей – к идеалистам начала XVIII века – принадлежал и Левин. Только это была едва ли не самая энергичная личность из всех тогдашних противников грубого, прямолинейного аристократического реализма, которому должно было служить все, как падишаху, не рассуждая, не чувствуя, даже не понимая его. В пензенском захолустье родилась такая странная личность, как Левин, которого не прельщали ни карьера, ни власть, ни нажива, ни блеск; и между тем все это происходило не от природной инерции духа, а от глубокой поэтичности природы, от лиризма, который не мог найти исхода потому только, что Левин черпал всю свою школьную мудрость у дьячка своего села, где отец его был помещиком-вотчинником, и высшее образование его заключалось в беседах с левинским попом о «сложении большого перста с двумя меньшими». Окончательную шлифовку характер Левина и его симпатии получили в среде мужиков, рассказами которых о своих нуждах и чаяниях он и напоен был как губка. Понятно, что Левин не любил военной службы, и хоть дошел в 10 лет до капитана гренадерского полка, однако гренадерский мундир не наполнял всей души его, как он наполняет души многих.
Зато все, в чем был широкий разгул и простор для фантазии, – все это любил Левин. Любил он и песню.
Вот почему, когда хорошенькая, с своим симпатичным контральто Оксана и звонкоголосая Докийка выходили вечером на берег Днепра и, сидя у воды, пели глубокопоэтические песни своей родины, Левин готов был слушать их пение всю ночь вплоть до зари. Особенно глубоко западала в его душу мелодия песни:
Туман, туман по долини,
Широкій лист на ялини,
А ще ширшій на дубочку,
Поняв голуб голубочу —
Та не свою, а чужую...
И когда песня доходила до того места, где девушка плачет о своем милом, голоса певиц действительно выражали этот безнадежный плач, и Левин чувствовал, что в его жизни начинается что-то роковое и что не легко ему будет оставить этот дом, где весна просилась в его душу... И он слышал в себе эту весну. Тут уж не одни грачи прилетели, а соловьи запели в сердце...
Как бы то ни было, но, поправившись совсем, он должен был оставить дом Хмары.
Раз вечером, когда девушки сидели на берегу Днепра, Левин, стоявший до того времени на крыльце и прислушивавшийся к словам песни —
Пишла б лучче я в черници с чорною косою,
Не терпила б я горечка оттак молодою —
Левин подошел к ним и молча стал глядеть на воду, на то место, где он нашел утопающую Оксану.
– Идить до нас, Василій Савич, – позвала его Оксана. Она уже совсем привыкла к нему и не стыдилась его, как в первый день.
Левин молча подошел.
– Сидайте и вы коло нас, – продолжала девушка. Он сел рядом с Оксаной.
– Я заслушался сегодня ваших песен, – сказал он. – Какую это вы сейчас пели?
– Про чумака да про молодицю, що задумала с своею черною косою в монастырь итти, – отвечала Оксана, которая была на этот раз особенно разговорчива.
– Какой у вас голос славный, Ксения Астафьевна, – сказал Левин, – и у Докийки богатый голос...
– А чом вы нам не заспиваете вашои московськои писни, – перебила его Оксана. – Я чула, як москали спивали – якось – «Не будите мене молоду» – чи-що... Таки гарни писни... Заспивайте ж нам, будьте ласкови.
– Что ж я вам заспеваю, Ксения Астафьевна? У меня все невеселые песни.
– Ну хоч невеселу.
– Да я давно не пел – боюсь, не сумею.
– Ни, ничого, мы послухаємо. А то й мы николи не будем вам спивать.
– Хорошо... Вот разве эту – мою любимую.
И он запел известную тогда, разнесенную по всей России опальными стрельцами и понизовою вольницею песню:
Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...
Левин пел хорошо. Как идеалист того времени, в сердце которого далеко западал всякий протестующий против насилия голос, он принял к сердцу и эту протестующую, предсмертную песню удал-добра молодца, который накануне казни исповедывал всенародно, в песне, ставшей после него народною и бессмертною, исповедывал свою жизнь, свою вину, и Левин пел страстно, словно бы его самого ожидала завтра казнь.
Девушки слушали внимательно, боясь проронить слово, звук, выражение голоса. Они так и замерли при звуках незнакомой им песни, которой смысл и мелодию они, как дети поэтической Украины, чуяли сердцем.
– Оттак у нас недавно Кочубея та Искру посикли – головы одрубали, – сказала Оксана задумчиво. – Тато сам бачив, як их рубали. За то ж Бог и Мазепу покарав. А бидна Мотря Кочубеивна... Я бачила іи, коли вона була вже черникою...
– А Мазепу вы видели, Ксения Астафьевна? – спросил Левин.
– А як-же-ж! Вин у нас часто бувал, коли жив тут у Кіиви на гетманстви. Я тоди була ще маленька, то було посадовить мене до себе на колина та й сміється: «Ой-ой, боюсь, каже, боюсь! Яки в тебе, каже, очи, Оксанко, велики... Як-бы, каже, такими очами замисть пуль стриляли в мене татары, то пропав бы я зовсим». А потим уже казали, що вин хотив узять за себе Мотрю Кочубеивну, а там и сам пропав.
– А в полтавской баталии батюшка ваш принимал участие? – спросил Левин.
– Принимав. Я тоди ще в монастыри вчилась.
– Так вы учились в монастыре?
– Чотыри годы вчилась.
– А я панночци ласощи в монастырь носила, – вставила в разговор свое слово Докийка.
– Вот как! Так и ты была черничкою? – шутя спросил Левин.
– Ни, пане, я так ходила.
– Чему же вы там учились, Ксения Астафьевна?
– Божественному писанію... На крылоси спивали... «Трубу» Лазаря Барановича читали[3]3
Украинский церковно-политический деятель и писатель, сторонник присоединения Украины к России, оставляя независимость церкви от московской патриархии.
[Закрыть]: оце яка бувало в нас провиниться, ту зараз и заставляют читать «Трубу», а вона зараз в слезы.
– Отчего же? И что это за «Труба» такая?
– Книга така, зовется «Труба», Лазарь Баранович написав... И поплакала ж я над сею «Трубою»! Така трудна, така товста, що Господи!
Левин невольно засмеялся – так ему понравилось это наивное признание.
– А вы, верно, большая шалунья были в монастыре? – спросил он.
– Я у матушки игуменьи закладку бувало в «Патерици» перекладую, а вона й забуде, на якому святому остановилась, та зараз и каже: «Се певне лупоока коза Ксенька Хмара переложила...» То вже мени й несуть «Трубу», а я плакать.
В это время на Днепре, вдали от берега, послышались голоса. Сквозь вечернюю темноту можно было различить, что плывет лодка, наполненная людьми. Сидевшие в лодке говорили по-русски.
– Се москали, – тихо заметила Докийка.
Действительно, слышна была великорусская речь.
– И указал он, братец ты мой, запереть все улицы – «прешпехтивы» по-ихнему, чтобы никто по ним, значит, не ходил и не издил, – говорил один голос.
– Как же так? А коли дело есть – идти или ехать надо: как же тут быть?
– Поезжай в лодке по Неве али по Невке.
– Да как же я до Невы-то доберусь? Все же надо улицей идти.
– Ни-ни! Ни боже мой! Пророй прежде канаву, да в лодке и поезжай. А коли ты пошел либо поехал по улице – тотчас ноздри рвать, да в Сибирь.
– Верно.
Далее слов не было слышно, а немного погодя раздалась песня, доселе звучащая по всей русской земле: «Вниз по матушке по Волге».
Оксана и Докийка слушали эту песню, притаив дыхание. Левин тоже сидел молча, не будучи в силах освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него болтовней солдат, болтовней, которую, однако, повторяла вся тогдашняя, взбудораженная и напуганная петровскою дубинкою, Россия.
Из-за сада, за которым стоял дом Хмары, послышались окрики: «Докіе? Доко! Де ты?» То кричала Одарка, наймичка в доме Хмары, ходившая за панскими коровами, телятами и свиньями и отлично умевшая готовить колбасы для самого гетмана Мазепы, до которых покойник был «вельми ласый». «Докійко! Де ты, иродова детина!» – повторился окрик.
– Ось-де я, бабусю, – отозвалась Докийка и бросилась к дому.
Левин и Оксана остались вдвоем. Оба молчали. Первым заговорил Левин.
– Эта песня всегда напоминает мне детство и родную сторону, – сказал Левин. – Я слышал ее на Волге, маленьким, когда мы с отцом были в Саратове. Мимо Саратова проезжала большая косная лодка, и на ней пели эту песню. Сказывали тогда, что то была понизовая вольница. Воевода послал команду перехватить лодку, так те не дались – из ружей палили. Одного казака ранили. А после опять грянули песню – так весь Саратов сбежался на берег. Так пришлась мне по сердцу их песня, что я, маленьким, сам думал уйти куда глаза глядят, чтоб потом стать атаманом, вроде Ермака Тимофеевича, и идти в Ерусалим – отбить его у неверных. Да так на том и остался. Взяли меня в царскую службу, дослужился я до капитана, мыкался по белу свету, и опостылела мне эта служба. Заскучал я. Если б мне не думалось послужить после нашему царевичу, – полюбился он мне, – так я бы давно ушел в монастырь, на Афон, в Святую землю. Опостылела мне Русь, тянет куда-то в страны неведомые. Да я и уйду.
Девушка сидела молча, потупив голову. При последних словах Левина она вздрогнула и еще более потупилась.
– Только у вас, пока я лежал больной, я и увидел свет Божий, – продолжал он. – Да не надолго и это. А теперь опять пойду горе мыкать по свету. Буду вспоминать ваше добро и молиться за вас. Завтра надо собираться в путь, указано мне быть в армии. Не вспоминайте меня лихом, Ксения Астафьевна...
Что-то как бы хрустнуло около него. Он взглянул на Ксению. Она стояла, стискивая руки и ломая пальцы. Белая «хусточка», которую она держала в руках, как-то странно дрожала.
Левин встал и нагнулся к девушке.
– Ксения Астафьевна, – тихо окликнул он ее.
Молчание, только пальцы на руках девушки хрустнули.
– Ксения Астафьевна! Что с вами? – с испугом спросил Левин.
Девушка судорожно рыдала, припав лицом к ладоням, Левин растерялся. В вечерней тишине откуда-то доносились слова песни:
Ой гаю мій, гаю, великій розмаю,
Упустила соколонька, та вже й не піймаю...
А из-за Днепра по воде в гулком воздухе неслось к этому берегу треньканье русской балалайки и слышалось, как под это треньканье солдатик отчетливо выговаривал:
Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...
Девушка застонала и рванулась было уйти.
– Ради Бога! Ради Бога! – взмолился Левин и старался удержать ее. Девушка дрожала всем телом.
– Ксения... Ксения Аста... фьевна... Боже мой!.. Что с вами?
– Вы... вы вже... я...
Голос срывался, слова пропадали. Левина жаром обдало... «Грачи – проклятые грачи прилетели... я упаду...»
– Вы... из воды мене... у смерти взяли... – растерянно бормотала Ксения.
Левин припал губами к ее руке: «Я... я не могу... я пропаду...» – шептал он.
Если бы в это время он взглянул в лицо Ксении и если бы мрак не окутывал его, то его поразило бы выражение этого лица: зрачки глаз расширились как у безумной, страшная бледность покрыла щеки, за минуту до того горевшие румянцем, во всем лице, в повороте головы, в складках бровей разом явилось что-то зловещее. Она вся как бы застыла, превратилась в камень, в мрамор, в статую. Но это было только одно мгновение. Едва Левин, сам не зная что делает, стал гладить ее голову, точно маленькому ребенку, девушка вздрогнула и, обвив руками его шею, заговорила задыхающимся голосом:
– Ох, утопи мене... утопи сам, своими руками... Я не хочу без тебе жить... утопи мене... Чом ты тоди не втопив мене, як я потопала? А тепер покидаешь... Утопи ж, утопи...
Дальше она не могла говорить – нечем было: губы ее были заняты... Ни о каком потоплении дальше не могло быть и речи, потому что...
– Оксанко! Оксанко! – раздался голос матери. – Де ты, донько?
Руки девушки разжались. Разжались и его руки... А за Днепром неугомонный москаль продолжал вывертывать:
Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...
Вот так-то все в жизни идет вперемешку.