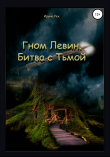Текст книги "Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Левин замолчал и как-то весь осунулся.
– Да, испытание послал тебе Господь Бог, – сказал старик с чувством. – Но, сын мой, надо покориться Его святой воле.
Глаза Левина блеснули зловещим огнем, но он ничего не сказал.
– Что же ты намерен делать теперь? – спросил митрополит.
– Просился, за болезнию, в монастырь... Может, там найду свой саван, хотя бы и черный – белый украли у меня... Да генерал Ренне не пускает без указу, говорит, что царь-де накрепко заказал не увольнять из военной службы в монастыри, а велел-де определять к делам, и в случае болезни для свидетельствования отсылать в Санктпитербурх.
– Так просись туда, и когда туда приедешь, то ни к кому прежде не являйся, а явись ко мне, – сказал митрополит.
В это время в комнату вошел, отстраняя рукою маленького певчего, хотевшего проскользнуть вперед, новый гость, который, глубоко наклонив голову, произнес:
– Черниговский полковник Павло Полуботок прийшов просить благословения высокопреосвященнийшего владыки...
Левин встал и ожидал приказания.
– Да будет над тобой Божие благословение, – сказал митрополит, благословляя его. – Не забудь моих слов.
Затем тотчас же обратился к Полуботку. Левин вышел.
VII
КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ
Стоном стонет Троицкая ярмарочная площадь в Харькове. Всевозможные крики зазывателей, предлагателей и торговок, которые точно об заклад побились покрыть весь ярмарочный гам своими голосами; громкие вопли и глухие, но бьющие в ухо унисоны нищих, ходящих, стоящих, водимых и возимых по всем направлениям, невообразимый гвалт, стоящий над цыганским полем, на котором цыгане устроили ристалище из негодных, заезженных и всеми способами искалеченных лошадей; отчаянная музыка самых негармонических, но голосистых, скрипучих и визгливых музыкальных инструментов; ржанье лошадей, точно одуревших от цыганского экзамена и отчаянно взывающих о спасении; писк, визг, смех и покрывающий все это однообразный гул, в который амальгамировался весь нестройный хаос звуков, – все это как-то особенно приходится по сердцу русскому человеку, любящему ярмарку, ныне вымирающую, любящему окунуться с головой в этот омут звуков, потолкаться в этом примитивном клубе, полюбоваться, как вон, на солнечном припеке, донской казак, привстав на седле, с гиком обгоняет скачущего охляп цыгана и стегает его нагайкой, а запорожец, запродавший рыбу с условием, чтобы москаль, вместо могарычу, поставил ему «музыки», с невозмутимою серьезностью, точно священнодействуя, выбивает гопака в кругу таких же, как он сам, серьезных усатых чумаков, привезших на ярмарку соль и спокойно ожидавших покупателей, тогда как «музыка», состоящая из двух пейсатых жидков с двумя совершенно разноголосыми скрипками, визжала так, как сорок тысяч поросят визжать не могут. А вон там, где особенно людно, сопровождаемые любознательными бабами и детьми и ведомые рябым пареньком, знакомые уже нам по Киеву калики перехожие гудут, буквально гудут, словно шмели, монотонную старо-каличью песню:
Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарится на бабицу,
Со бабою котора стакнется,
Со девкою спарится, —
Зарывать того калику в сыру землю...
– Захар Захребетник! Здорово, старина! – раздался вдруг голос из толпы.
Один из калик, ветхий, но коренастый старик с сросшимися бровями, чуть не уронил при этом неожиданном возгласе своего посоха и невольно остановился. Остановился и его товарищ с поводырем.
– Здорово, Захар! – повторился возглас.
К каликам подошел Левин и стал около старшего из них. Калика страшно ворочал зрачками слепых глаз и переминался на месте.
– Здравствуй, кормилец, как те назвать, не знаю, – сказал он нерешительно, – слепенький вить я, ни синь-пороху не вижу.
– Знаю, знаю, – отвечал Левин. – А давно я тебя не видал.
– Да ты сам-то кто же изволишь быть, родименький?
– Угадай.
Слепец задумался и, беззвучно шамкая что-то, только разводил руками.
– Нету-ти, отец родной, не угадаю – где, чаю, угадать кого слепому на чужой стороне?
– Да как ты сюда попал?
– В Киев тоже, кормилец, идем – к угодничкам.
– А из села Левина давно? В Пензе были?
Калика даже об полы руками ударился и замотал головой, бормоча: «Богородушка-матушка, надоумь... Микола угодник, осени...» – А Левин, улыбаясь, продолжал доправлять свой допрос:
– А что поделывают ваши бары – Левины, Герасим Савич да Василий Савич?
Калика спохватился: «Ах, батюшка-барин, Василь Савич! Как вас Бог милует? Как это вы из-за моря-то в Харьков попали? У нас сказывали, будто вас с немецкую веру раскрестили и за море услали».
– Нет, Бог миловал.
– А братец ваш, Герасим Савич, – дай Бог ему здравия, все с своими мужиками короводится – бегают в мертву голову... Как пошли эти указы на счет некрутства да лесов, чтобы некрут в кандалы заковывать, а за порубку лесу, коли кто дерево срубил, тому ноздри рвать, а коли кто на лапти ободрал, – того кнутом бить, да как стали на деревья казенные «пятна» класть, а народ сгонять в Питер, чтобы таким же побытом, как и лес, пятнать печатьми да селить, слышь, на острове на Буяне, на море на кияне, ну, и стал народ бегать, уйму ему нет.
– Так, так... А пойдемте-ка вы ко мне... Я рад тебя видеть, старого балагура.
– Как же, батюшка-барин, махоньким еще вы любили старого калику Захребетника слушать.
– А кто это с тобой товарищи?
– Что калика слепой – то саратовец... давно со мной ходит. А паренек-ат, коли изволите помнить, так Варварин Полотковой сын.
– Это той, что петь мастерица?
– Ейный. В мать-ту и паренек удался – голосистый.
И вспомнилось Левину его родное село... Вечерний хоровод у мельницы и эта белокурая Варюша, голос которой покрывает все голоса хоровода... А там и Киев, и Днепр... Все бледнее и бледнее становятся знакомые лица за дымкою прошлого... Только по временам обостряется боль воспоминаний и – проходит, как все в этом мире...
Ярмарочный гул едва слышен. Вон и домик, в котором Левин постой держит в своих перекочевках... Опротивела ему эта жизнь цыганская, сторожевая служба то в том, то в другом конце, а вчистую все не увольняют.
Придя с каликами на свою квартиру, Левин велел своему денщику отвести их на кухню и накормить приказал, и вина дать им вволю: «Люди-де странние, притомились, так им подкрепа нужна».
Калики были несказанно довольны приемом барина. «Он, как и малым барчонком был, завсегда любил черный народ, а уж наши калицкие песни и-и как любил слушать; не чета братцу Герасиму Савичу», – пояснял Захребетник.
После угощения Левин велел позвать нищих в сени своей квартиры. Сени были просторные, светлые, и Левин спал в них летом. Левину приятно было порасспросить своих гостей о тех местах, где он провел детство и раннюю молодость и где он не бывал вот уже пятнадцать лет. В то время, когда пути сообщения были совсем примитивны, когда не существовало ни правильной почтовой гоньбы, ни современных нам способов передачи известий, знать, что делается в какой-либо местности за тысячу верст, можно было только по бродячим слухам, переносимым то богомольцами, то беглыми и редко-редко путем переписки.
И Левин услышал много для него нового, но во всем, что он ни слыхал, преобладало что-то мрачное, подавляющее, так что дальше, казалось, жить было невозможно. Население точно в воду исчезало, все уходило в леса, в украйные степи, за Волгу, пряталось в норах и трущобах. Где было по сту, по двести жилых, тяглых дворов, там оставалось наполовину. Масса народу ходила клейменая – с крестами на руках, выжженными порохом: это – царские клеймы за побеги.
– Вот и мне пожаловали царское клеймо, – сказал другой калика, товарищ Захребетника.
Выпив маленько за радушным обедом барина, который тоже возмущался переживаемым страною лихолетьем, этот калика стал посмелее.
– Какое клеймо? – спросил Левин.
– Да вот во лбу, барин... Были и у меня допреж сего глаза, а ноне вместо глаз – клеймы.
– Как так?
– Выкололи царские слуги.
– За что?
– Вот за что. Сошел я с товарищами в Астрахань, бежал, значит. Житье было невмоготу. Как пришли мы в Астрахань – ан там и того хуже. Работы нету. Да и какая, баринушка, работа, коли вся Астрахань собралась было бежать в турскую землю? Такие пошли порядки, что и в пекло бежать так впору. А воевода, Ржевским прозывался, лют-немилостив, коли ты в русской одеже – в Божью церковь не пущает, а коли хочешь войти – на паперти полы велит обрезывать, коли у тебя борода – волосы вырывает, да еще ежели-б по-христиански один волос, а то с мясом и мясо-то с бородой собакам отдает. Такой зверь. А тут прошел слух, что из Казани немцев шлют, чтобы, значит, русских девок на блуд брать: велено-де русских людей в немцев переродить. Ну, кому ж охота дите свое губить? Взяли астраханцы да и порешили: всех девок разом обвенчать со своими же парнями, чтобы немцам не достались. Сказано – сделано. А на радостях и с воеводой покончили: собаке-де собачья и смерть. Тут нам житье стало повольготнее. Да не надолго этого житья-то хватило. Пришел боярин Шереметев с царским войском и разнес Астрахань. Не один топор московские палачи, сказывают, иззубрили на астраханских шеях. Только меня Бог миловал. Я бежал на Дон, к Кондрашке Булавину: в ту пору он атаманствовал над казаками, которые за волю стояли – супротив немецких порядков. Уж и пожили ж мы под рукою батюшки Кондратия: не атаман, а отец родной. А уж коли провинился, расправа недолга: товарищам крикнет бывало: «Судите сами». А суд у нас короток – в куль да в воду – и кончено... Вот эдаким-то побытом, баринушка хороший, и собрали мы круг на Хопре...
– Как же, дядя, ты сказывал, что допреж того вы в Запороги ходили? – вмешался в беседу поводырь, который помнил наизусть все рассказы своего слепого ментора о похождениях голытьбы.
– Верно, ходили, малец-то прав... Это было опосля того, как мы разбили царского воеводу, князя Долгорукова... то-то лихо разнесли мы его на речке Айдарке... Помню, туманное утро было, ни зги не видать... Сиверко так, к зиме время шло... Помню, как и Долгоруков-то князь на осокоре висел... А это мы ему за то, что сам малыих младенцев по деревьям вешал, носы и уши резал, так и доселева на Донце камолые да безносые попадаются, все от ево, от Долгорукова... А как нас казаки-изменники со своим христопродавцем Лукьяшкой стали за ноги вешать, тут мы и махнули в Запорожье. Запорожцы обещали стать с нами заодно. Отселева мы через зиму прошли на Медведицу, на Хопер да на Бузулук. Голытьба аки саранча шла к нам... Вот тут мы и собирались.
– А как вы у изменников-казаков отвоевали царское жалованье? – снова вмешался поводырь.
– Отвоевали – это точно что... Пропили дочиста! А народ – ни-ни-ни! Мизинцем не трогали. Народ – такая же, как и мы, голытьба – люди Божьи: за что его обижать?.. Собрались мы это на Хопре. «Братцы, – говорит атаман, – бояре да немцы всех в еллинскую веру переводят! Хотите, молодцы, в еллинскую веру?» – «Не любо! Не хотим в поганую еллинскую веру!» – Вот тут и написал он граматки на весь мир. Мы сами и граматы эти развозили по всем юртам да станицам. От слова до слова помним слова атаманские... «Ведаете сами, молодцы, говорит, как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились. Допрежь де сего старое то поле крепко было и держалось де, а ныне-де немцы старое поле перевели, ни во что почли, и чтобы вам старое поле не истерять... А мне-де, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белогородская орда и иные орды, чтоб быть с нами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается – и тому-де казаку будет смертная казнь».
– Однако ваш атаман, я вижу, с мозгом был, – заметил Левин, которого не мог не поразить этот смелый рассказ нищего.
– С мозгом, баринушка, у, с каким мозгом! С кашей бы этого мозгу съесть, так поумнеть можно.
– Ну, так что ж было после этого? У нас в армии не то болтали, – сказал Левин, видимо заинтересованный одиссеею калики перехожего.
– Что дальше-то было, баринушка... Ладно, слушай только... Вот словно живой он стоит перед моими потухшими очами, атаман-то наш... Ходит это он по майдану, в кругу-то казацком, в чекмене нараспашку, в кафтане, значит, голубом, да как шаркнет его оземь, как полыснет на себе рубаху от ворота до подола, и ну ее рвать в клочки да бросать в народ... «Вот вам моя рубаха, православные! Берите ее замест кабальной записи... Разнесем мы так Русь боярскую да немецкую, как разорвал я свою рубаху, и разберем по рукам... Эй вы, голытьба не поеная, не кормленая, босая и голая! Эй вы, мыши загуменные, тулупы дубленые, чапаны драные, ноздри рваные, спины сечены, искалечены! Идите к нам, донским казакам, за веру стоять, животов промышлять! Будете вы одеты и обуты, сыты и пьяны! Эй вы, атаманы-молодцы! Голый и Драный, Строка и Хохлач и ты, Игнаша Некрасов! Собирайте вы православный люд, копье к копью, чтобы было чем за веру стоять, бороды и головы спасать!» – Ну, и пошла голытьба сыпать к нам, аки мухи к меду. Разбилось наше войско на шесть концов. Мы с Булавиным кинулись к Черкаску – отнимать атаманскую булаву у изменника Лукьяшки Максимова. Отняли. Самому Лукьяшке голову с плеч долой, советникам его тоже. И пошли на нас рати царские со всех концов на наши концы и конец по концу разгромили. Эх, было времячко! Ели кашу с салом, зеленым запивали, горя не знали. А горе у нас за пазухой сидело, с нами кашу ело, в глаза смотрело... Этот Илюшка Зерщиков, что твой брат родной атаманушке нашему, а Илюшка и продал нас, погубил атаманушку нашего Кондрашу Булавина. Как увидал это Кондрата измену, сам на себя руки наложил.
– Давно это было? – спросил Левин.
– На Казанскую будет ровно восемь лет, восьмой год и я свету Божьего не вижу.
Левин стал считать что-то по пальцам... Его солнышко тоже давно закатилось...
– Ну, рассказывай, что же с вами дальше было?
– Дальше пошло все хуже да хуже, худая-то полоса всегда длинна и широка да гладка, а хорошая-то полоса, что сорока пестра... Как Булавин-то застрелился, мы и метнулись к Игнашке Некрасову. Он еще держался. С Некрасовым мы перекинулись через Дон, за Иловлю-речку, к самому Саратову... Ух и заныло ж у меня сердечушко, как увидал я родной город! Хоть и не знавал я в нем радости, а все ж молодость вспомнилась... Молодое-то и горе – с полгоря, на весеннем солнышке тает, а старое-то горе и на огне не горит, и на воде не тонет... Подошли мы к Саратову, остановились на Увеке – гора эдакая над Волгой. А Игнаша и говорит: «Эх ты, Волга-матушка, нашему тихому Дону сестрица рожоная! Не слезами ль ты дополнена, что текут в тебя слезы со всей россейской земли? Помоги ты нам, матушка, помоги нам, добрым молодцам, эти слезы высушить...» Дак нет, не помогла. Пропало наше дело, сгинул и Игнаша Некрасов.
Нищий махнул рукой. Все молчали. Паренек-поводырь не спускал глаз с рассказчика.
– Так-ту, баринушка, – продолжал последний, – не весел конец нашей песенке... А весела запевка была... Да что делать?.. Мы к Саратову было, а на нас калмыцкая орда налетела... И сломили нас дьяволы косоглазые... Наши назад, степью погнали, а подо мной меренок подбился, меня и взяли. Тут я и глаз своих решился. Полоснул я одного косоглазого, а другие меня сзади схватили, руки связали. Такая это меня злость взяла, что как привели меня к зайсангу, я ему и плюнь в глаза. За это мне мои глазыньки и выкололи.
– Отчего ж тебя не убили?
– Да оттого, думали, что я богатый казак, выкуп большой дам.
– Как же ты спасся потом?
– Бог помог, баринушка. Другой полоняник выручил, саратовец же... Ночью как-то мы и ушли с ним. С тех пор я и стал каликою перехожим.
– Однако ж ты еще счастливо отделался. Если б тебя поймали в Черкаске, так не миновать бы тебе колесованья или четвертованья.
– Так-то так, баринушка, да оно уж разом, а то еще поди, когда до могилы добредешь сослепу.
– А что с Некрасовым сталось? Не слыхал?
– Как не слыхать, слышали... В Саратове уж волжские казаки сказывали: как прибег это он на Дон, из-под Саратова-то, и видит: плывут это по Дону плоты, а на них виселицы, а на виселицах все наш брат – голытьба да казаки... Плывут это, покачиваются. А воронья-то всякого, птицы этой голодной, так все плоты и усеяла, да на виселицах сидят, да на казачьих плечах, глаза казачьи выклевывают... А по берегу-то казачки воем воют, мужьев да братьев своих провожают, малые детушки за ними бегут... Таково, сказывают, жалостно было.
В первый раз Левин слышал эти подробности. Многое доходило до него и до товарищей его по службе из тысячи слухов, бродивших по Руси, но таких подробностей он не слыхивал. И в душе его все сильнее и сильнее звучала нехорошая нота.
– Как увидал это Некрасов с товарищи, а с ним было тысячи две, – как увидал он это – снял шапку, перекрестился и говорит, к тем-то, что на плотах висячи плыли: «Прощайте, братцы-товарищи! Спасибо вам, что за веру постояли... Плывите с Богом вниз по тихому Дону, мимо станиц да куреней родимых. Опоганена земля православная, нечего и ложиться в нее костям казацким. Плывите, родимые, в чужую землю, в турецкую, там легче теперь жить, чем на Руси православной. Я и сам иду в чужую землю, в турецкую... Прощайте, братцы!» И как гаркнет, говорят, за ним все его войско: «Прощайте, братцы!» – как всполохнется с плотов птица, воронье да карга всякая, так точно хмара над Доном пронеслася... Так и уехал Некрасов с своими молодцами в турецкую землю.
– Спасибо тебе, не знаю, как тебя зовут, – сказал Левин.
– Никитой, а прозывался Бурсак, потому маленько учился, дьячков сын, – оттого и слыву Бурсак.
– Спасибо, Никита, за рассказ.
– Не за что, баринушка... Ласка твоя да вино развязали мой язык, ну и вспомнилось старое.
– А теперь прощенья просим, батюшка-барин, – сказал старший калика. – Пора и честь знать, коли господа милостивы. Счастливо оставаться. Коли Бог доведет до Киева, помост слезами омочу перед угодничками за твое здоровье.
– Спасибо, Захар, спасибо. Только на возвратном пути опять заверните ко мне. Я с вами домой письмо пошлю – к брату отпишу, чтоб помог вам чем-нибудь.
– А сам-то, барин-батюшка, когда к домам повернешься?
– Уж и не знаю, и не ведаю когда...
Одарив нищих на дорогу деньгами, он простился с ними и долго прислушивался к странному напеву песни, которую затянули калики, удаляясь к ярмарке: «Ох ты, гой еси, аллилуева жена милосерда!»...
VIII
ЦАРЕВИЧ И АФРОСИНЬЮШКА
Летняя ночь в Петербурге в 1716 году. На Петропавловском соборе любимые куранты царя, вывезенные им из голендерской земли, давно пробили двенадцать, а белоглазая ночь не думает темнеть. Через Неву то и дело скользят лодки, по широким, не везде застроенным улицам двигаются люди. Везде видны признаки стройки, спешной работы. Лес, песок, глина, камни и громадные глыбы гранита наворочены горами, словно титаны сооружают свое мифическое жилище. Да, это титаны, русские люди, строят постылый для них Питер.
Больной царь давно уехал за море, а стройка и без него не останавливается... Растет камень на камне, гранит на граните... Что-то выйдет, – думают русские люди, – из этого нового Вавилона?.. Не запустеет ли он со смертью царя, как запустел старый Вавилон?.. Эти широкие улицы и площади травой зарастут, гранитные горы мохом зазеленеют, каналы плавучим лопухом да водяною лилиею подернутся... И будет смеяться белоглазая финская ночь над развалинами покинутого города... «Се мимо иде – и се не бе...»
– Так, матушка: се мимо иде – и се не бе... Великое это слово, великое.
Это говорил знакомый уже нам старик, которого мы видели в Киеве у ворот лавры в проезд через Киев царевича, а потом слышали таинственный разговор с Левиным в Нежине в лазарете. Теперь он обращался с своей речью к молодой женщине, которая сидела за пяльцами и вышивала золотом, впересыпку с жемчугами, осьмиконечный крест, и изредка взглядывала то на своего собеседника, то на окно, из-за которого виднелась Фонтанка с недоделанною набережною, с изредка скользящими по ней лодками, а за нею – недавно разведенный самим Петром и его «Катеринушкою» «огород», в настоящее время – Летний сад.
По волосам, белокурые с пеплом пряди которые были заплетены в одну косу, и по одеянию можно было сразу видеть, что это девушка. Матовая, без всякого даже намека на загар, белизна лица и недостаток цветности кожи изобличали недостаточность действия на это лицо солнечных лучей. При всем том и это лицо, и серые, продолговатые как у сфинкса глаза, ясные и чистые как у младенца, и исходивший из них ровный свет не изобличали недостатка внутренней жизненности.
Когда девушка поднимала голову от пялец, то на груди ее, прикрытой белою сборчатого сорочкой с кружевцом, виднелся осьмиконечный крест, небольшой, но искрившийся огнями.
– Все мимо идет, токмо слово сие не идет мимо, – повторил старик.
Девушка медленно перенесла на него свои сфинксовые глаза.
– А давно она преставилась? – спросила она.
– Кто, матушка?
– Святая Евфросиния, полоцкая княжна.
– Давно, матушка... Сот пять лет будет, а то и больше.
Девушка перенесла свои медленные глаза на Фонтанку. Она ждала кого-то.
– А устаешь, чай, в пути, дедушка? – снова спросила она.
– Нету, ластушка моя светлая, не устаю... Порой и притомишься, а все ничего... Что я? Мое дело подвижническое, дело для Бога, паломническое, бродячее сиречь. Скитаюсь я по угодным местам и треплю грехи мои старые, аки костригу, пред лицем Господа. Истоптали мои ноги старые всю матушку родную землю, Русь святую, от стока моря соловецких святынь и до святой горы афонской. И роняю я с подошов моих притоптавшихся прах святой земли по всем грешным местам аки бисер многоценен, соловецкая-то святая пылица малая ину-пору отряхается с подошов моих в сем новом Вавилоне, в Питере; (содомская пыль, матушка, лепка и цепка, аки грехи), а питерская-то содомская пыль, прилепившись к моим грешным стопам, питерская-то пыль отряхается в Москве-матушке, у гробов угодников Божиих, а московскую-то драгоценную пыль несу я до Киева святорусского, а из Киева – в Почаев, и переношу я пыль великой земли русской от края до края, аки сердце кровь переносит по жилам моим грешным и по всему телу моему мерзскому...
Он помолчал. Девушка, слушавшая его с глубоким вниманием, встала и подошла к окну, припав головой к его раме. В выражении ее лица, в движениях, во всей ее симпатичной фигуре было что-то совсем детское, целомудренное, хотя полная развитость бюста и всего ее красивого, статного тела говорила о совершенной возмужалости.
– И таково-то сладостно и горько, матушка моя, это скитание по белу свету, – продолжал старик нараспев и несколько в нос. – И голоду-то, и холоду натерпишься, и в лесах, и в дебрях от рыку звериного страху наберешься, а все для Бога, ради костриги-то греховной, что всю душеньку мою исколола... А птички-то Божьи в лесах и дубравах, а цветочки в полях – крины сельные, а солнышко в небе, ручеечки эти самые хвалу Господу звенящи, а эта травушка весенняя, что рученьки свои чистые да головочки безвинные к небесам аки младенец воздевает, тянется эта травушка-муравушка из сырой земли ко Господу Творцу своему... И всякое-то дыхание, козявочка малая, мотыль крылатый, пчелушка, Божия работница, воскодарница, медоделица, – все-то весною красною Бога хвалит... Как сердцем-то да оком умным обоймешь все это, матушка-ластушка, так сердце твое грешное аки воск пред иконою растопится-разойдется, и весь бы, кажись, сам в слезах сладких вылился перед Господом, аки елей, аки миро благовонное...
При последнем монологе девушка повернулась к старику, вся напряженно слушая, затаив дыхание, а из широко раскрытых, изумленных глаз так, кажется, и брызнут горячие слезы.
– Дедушка!.. Голубчик!.. Где ж это?..
– Что, голубица моя чистая?
– Где это, что ты рассказываешь?
– В угодных местах, матушка, да в сердце нашем.
Девушка опять припала головой к окну, перекинув через плечо свою длинную косу и задумчиво перебирая ее тонкими пальцами.
– И вот так-то, дитятко милое, и треплюсь я по белу свету, пока тело мое старое, аки ризу ветхую, аки хоругвь воинскую, в боях со врагом Божием истрепленну, простреленну, издыравленну не донесу до темной могилы. Ветха уже риза моя животная, ветха моя срачица тленная, что некогда крепкою и чистою, паче снега убеленною, вышла из рук Божиих... А все брожу, угомону мне, старому, нет... Так вот и к ангелу твоему, к преподобной Евфросинии полоцкой, бродил ныне аз грешный грешными ногами... Думаю, помолюсь о тебе, матушка, о рабе Божией Евфросинии, да о царевиче нашем благоверном Алексее Петровиче, дабы Господь сердце его, царево, укрепил, разум его на все благое наставил... И вот принес вам с царевичем по хлебцу благословенному да по поясочку освященному от мощей преподобной Евфросинии.
При последних словах девушка подошла к столу, стоявшему под образами, и, перекрестившись, поцеловала лежавшую на нем просвирку.
– Спасибо тебе, дедушка, – сказала она.
Вдруг за окном на Фонтанке послышались голоса и плеск воды. Девушка встрепенулась и поспешила к окну, но плавно, не суетливо.
– Царевич, – сказала она и, отойдя от окна, снова села за пяльцы. Руки ее немного дрожали.
Старик встал со стула, на котором сидел, и отошел в сторону, ближе к дверям.
Скоро за дверями послышались голоса и шаги. Двери растворились, и вошел царевич.
На нем был зеленый кафтан с отворотами и с широкими обшлагами. Кружевная рубашка с манжетами оттеняла его смуглое, худое лицо с кроткими, выразительными, но какими-то запуганными глазами. Он был похож на отца как молодой побег на старое, могучее дерево. Длинные, тонкие, обутые в высокие штиблеты ноги ступали неуверенно. Такие же длинные руки с тонкими, женоподобно гибкими пальцами, которые могли искуснее, кажется, владеть пером, чем топором и саблей. Выражение лица, глаз и очертание рта говорили, что на этом лице скорее виновный мог прочесть прощение, чем суровый приговор. Длинные, редкие, как и у отца, волосы, но как-то особенно спадавшие назад, придавали этой голове что-то дьячковское... Вообще над этим добрым лицом как-то не думалось видеть царскую корону.
– Здравствуй, Фрося, – сказал царевич, подходя к девушке.
– Здравствуй, государь, – тихо отвечала вставшая тотчас из-за пяльцев Евфросинья, опустив глаза.
– Хороший крест выходит, – сказал Алексей Петрович, нагибаясь к пяльцам, – только темно – глаза испортишь.
– Нет, государь, видно.
– А! И ты здесь, Никита Паломник, здравствуй, – обратился царевич к старику.
– Многая лета здравствовати благоверному государю царевичу, – отвечал тот, низко кланяясь.
Алексей, снова обратившись к Евфросинии и к ее работе, сказал с заметной дрожью в голосе, нервно:
– Хороший крест, хороший... Кому это ты?
– В церковь святого Симеона Богоприимца, государь царевич.
– Хороший крест, – повторял он задумчиво, – такой, как ты и мне вышила... на всю жизнь, Фрося... До могилы буду нести твой крест...
Щеки Евфросинии медленно заливались краской... Она не поднимала глаз.
– Да, донесу, донесу... Бремя Его легко и иго Его сладко есть.
В комнату вошли еще двое мужчин. Один – старичок, с прищуренными, близорукими глазами, которые часто моргали и слезились. Вся фигура его напоминала раскольничьего начетника, хотя это был князь Вяземский, Никифор, учитель цесаревича и владелец дома, в котором происходит настоящее действие. В доме его жила и Евфросинья – не то сенная девушка, не то боярышня. Другой был коренастый средних лет мужчина, с энергичным лицом и какими-то упорными, стоячими глазами, которые, по-видимому, не умели потупляться. Голова небольшая, но крепко посаженная на плечи, так крепко, что эту воловью шею мог, кажется, только топор заставить нагнуться. Этот другой был Кикин, денщик царя и, если можно так выразиться, источник воли безвольного, мягкого царевича.
Вошедшие низко поклонились.
– Здравствуй, равви! Здорово, Кикин.
Алексей Петрович называл иногда своего бывшего наставника, Вяземского, по-евангельски «равви» – «учитель». «Здравствуйте!»
– Благоверному царевичу радоватися, – отвечал Вяземский, который, как человек начитанный, любил выражаться по-книжному.
– Здравствуй, государь царевич! – по-военному отвечал Кикин.
Потом, поклонившись Евфросинии и проговорив: «Здравствуй, матушка Овфросинья Федоровна», Кикин обернулся и, заметив в стороне Никиту Паломника, прибавил: «А! Праведный Агасферий! И ты здесь? Все свои люди». А Вяземский, подойдя к Евфросинии, ласково, совершенно отеческим тоном заметил: «Ах ты, Фросюшка, все томишь свои глазки светлые... Брось, дитятко!»
Евфросиния ласково улыбнулась и поцеловала старику руку.
– Я не зашел к тебе, – обратился царевич к Вяземскому, – думал, поздно уж – спит-де, а вот ее белую головку, – он обратился к Евфросинии, – познал в окне и зашел пожурить за полуношничанье... Ан она не одна, с Агасферием праведным.
– Хлебец благословенный принес да поясок от преподобной Евфросинии и заболтался, – отвечал тот, кого звали и Никитою Паломником, и праведным Агасферием.
– Что, царевич, слышно об нашем-то... о кречете... о соколе-то залетном? – спросил Кикин, подходя к Алексею.
– О батюшке-то?
– О ком же ином, царевич? Он один у нас, свет очей наших... Только, вить, и свету у нас что в окошке...
– Что, в заморье-то прорубил окошко-то, как сам сказывал? – заметил насмешливо Вяземский. – Точно, точно – одно у нас окошко-то слуховое... В нево к нам и дым-то идет из заморья, потому, чать, заморская-то изба по-черному топится и заморский-от дым у нас очи выедает...
Алексей Петрович нервно заходил по комнате.
– Так... так... ест очи, ох, как ест дым-от этот заморский, – говорил он как бы про себя.
– А как здравие царево? – спросил Никита Паломник.
– Сказывают, ведомости прислал своему-то... крестничку... Данилычу-пирожнику, пишет, что де доселева недугует, – говорил царевич, продолжая беспокойно ходить по комнате. – Были и в Астрадаме-граде в Голендах, и в других иноземных странах, а ныне поехал чрез всю францовскую землю к самим шпанским пределам, в Пирмонт-град, зальцбруновые воды пить для леченья.
– То-то, – заметил Кикин, – анисовку, знать, выгонять из себя хочет... Не выгонишь ее этими-то водами, она, наша матушка анисовка, стойка, колом ее не вышибешь, чаю.
– Что ж, с анисовым-то настоем в животе оно крепче для нашего батюшки царя Петра Алексеича, – заметил Вяземский. – Вон немец Блюментрост какие спирты для его кунцкаморы стряпает, чтоб в них уродов сажать – целехоньки... Так-то и анисовка – здорово: еще, чай, не одну «шишечку» сделает своему другу сердешному Катеринушке...
– О! Шишечки он мастер делать: у Данилыча, поди, сколько шишек вскакивало от батюшкиной дубинки, – сказал царевич, – да мне-то от того не легче... Господи! Что я ему сделал? За что он меня гонит словно ворога лютого? Теперь вот, словно крокодил нильский приступил ко мне: «Или в монастырь, говорит, или исправься, а то я с тобою, говорит, как со злодеем поступлю». Да батюшки ж мои светы! Куда я денусь! Господи!