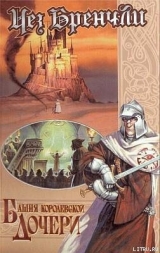
Текст книги "Башня Королевской Дочери"
Автор книги: Чез Бренчли
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
– Я не знаю, мессир, – только и сказал он.
– Не знаешь? А я-то думал, что братья знают Устав назубок!
– Да, мессир. Я вам расскажу, – осмелел Маррон, – а вы судите сами. «Сын мой, слушай наставления своего магистра и открой для них сердце своё. Принимай и исполняй совет любящего отца твоего, дабы путём трудов и послушания вернуться к Тому, Кого ты покинул, совершив грех неповиновения. К тебе, где бы ты ни был, обращены слова мои, дабы ты, отринув собственные желания, овладел истинным оружием послушания, дабы сражаться за истинного Короля, нашего Господина…»
– Хватит, довольно! – засмеялся Радель, зажав рот Маррона широкой ладонью, чтобы остановить поток слов. – Я тебя понял, парень. Мне доводилось слышать Устав и раньше, со всем его благочестием и суровостью, и я не хочу слушать это ещё раз. Давай решим, что он не запрещает тебе звать меня Раделем, начиная с этого момента.
– Мессир…
– А, так ты думаешь, что безопаснее вести себя по-прежнему, боишься, что, раз Устав запрещает слишком многое, он может запретить и это? Так оно и есть, я могу прочитать мысли юноши. Вот девичья голова для меня закрытая книга. – На мгновение лицо его омрачилось, словно туча набежала на солнце; судя по его мрачному виду, он вновь вспомнил о ярости, которую разбудила в нём Элизанда. – Давай-ка разберёмся. В этом кратчайшем из введений ты два или три раза помянул послушание, так? И в остальном тексте оно встречается ещё не раз и не два. Что, если я прикажу тебе подчиниться, поверить, что Устав не запрещает, но обязывает тебя следовать моим пожеланиям? Как тогда?
– Мессир, гости для нас святы, но…
– Вот и прекрасно. Тогда зови меня Радель, не то я отошлю тебя к твоему исповеднику и попрошу, чтобы он задал тебе трёпку. – Даже столь мимолётное упоминание фра Пиета, пусть сделанное по неведению, заставило Маррона вздрогнуть. Если Радель и заметил это, он промолчал. – Ну, так ты хотел задать вопрос?
– Разве?
– Ну да. Мы смотрели на скорпиона…
– Ах да. Э-э… – он почти собрался сказать «мессир», но быстро поправился, изобразив мычание и пытаясь сформулировать вопрос, несмотря на кашу в голове, – вы когда-нибудь видели настоящую магию?
– Видел? Маррон, друг мой, я ведь бродячий менестрель. Ты слышал, как я зарабатывал себе ужин пением, но у меня есть и другие таланты, которыми я тоже могу подзаработать. Я могу колдовать. Вот, смотри…
Он нагнулся и поднял с тропинки три камушка – круглых, гладких, размером с яйцо. Радель взял два камушка в одну руку, третий в другую и откинул рукава, показав обнажённые жилистые запястья. Потом он подкинул камушки в воздух и начал жонглировать ими.
И всё же это была не магия, а простая ловкость рук. Маррон видел жонглёров с детства на каждой ярмарке, на какую ни попадал. Ему случалось видеть людей, жонглирующих четырьмя-пятью факелами одновременно. Утром Радель на его глазах делал большее – жонглировал четырьмя, а в какую-то секунду даже пятью ножами, при этом даже не оцарапавшись. Юноша подавил растущее раздражение и смотрел, но не смог уловить момента, когда камушки превратились в настоящие зеленоватые утиные яйца, каждое вдвое больше самого камушка. Он даже не понял, когда Радель успел разбить их – внезапно яйца распались в воздухе с птичьей песней и ливнем серебристой блестящей пыльцы, похожей на ту, что покрывает крылья бабочки. На мгновение Маррон увидел птиц и бабочек, разлетающихся из скорлупы, однако тут яйца упали в осторожные руки Раделя и превратились в яркие шёлковые платки, лежащие поперёк застывших ладоней менестреля.
Радель рассмеялся и набросил шарфы на шею Маррону. Прикосновение шелка к коже оказалось мягче прикосновения детских пальцев и было совсем не похоже на грубую шерсть рясы. Маррону понадобилась не одна секунда, чтобы заставить себя снять их. Шелка и яркая одежда наверняка были запрещены Уставом – тут он ни капельки не сомневался.
Маррон молча и насторожённо взял шарфы в руки; однако Радель только рассмеялся и сказал:
– Положи их в сумку, если боишься носить открыто. Маррон повиновался, однако упрямо заметил:
– Я имел в виду не фокусы и не ярмарочные трюки. Я говорил о настоящей магии и о настоящих чудесах…
– Слушай, парень. – Радель снова был спокоен, по крайней мере внешне, хотя в глазах у него все ещё поблёскивал смех. – Я всю жизнь прожил в этой стране, по которой однажды прошёл ваш Господь – да и не только он. Я целый год прожил в Аскариэле. Думаешь, я не видел чудес? Да мне случалось видеть исполненных сил джиннов и прочих тварей – между прочим, не таких спокойных и куда более кровожадных в отношении человека.
Похоже, об этом Раделю не слишком хотелось говорить, и он быстро зашагал дальше по тропе. Маррон молча шёл следом, и Радель, обернувшись, спросил у него:
– Ну, что ты видел?
Маррон не знал, сказать или промолчать. Увиденное в холодном сыром подземелье замка могло оказаться секретом Ордена, и потому юноша молчал. Радель зашёл с другой стороны:
– Тебе показывали Королевское Око? А, да наверняка показывали, им они встречают всех новичков. Так вот, гони мысли о нём прочь. Им только этого и надо – напугать тебя, ну, может, ещё и вдохновить, но в первую очередь напугать.
Королевское Око действительно напугало Маррона. Да, оно же и вдохновило его, но благоговение и ужас стояли слишком близко и пугались между собой. А сейчас все касавшееся Ордена заставляло Маррона вздрагивать, словно в разгар жары он чувствовал прикосновение ледяной руки.
Маррон вздохнул, словно ужаснувшись собственной дерзости, и потом всё же спросил:
– А вы видели его, мессир?
– По-моему, ты должен звать меня по имени.
– Прошу прощения, мессир. То есть Ра… Радель. Но… – Тут Маррон торопливо заговорил в порыве откровения: – Я не уверен, что смогу, и не уверен, что мне это можно, и точно знаю, что фра Пиет скажет, что я поступил неправильно, и наложит на меня наказание, если я расскажу ему, что звал вас по имени. А иначе я солгу на исповеди, этот грех ляжет на мою совесть и будет мучить меня…
– Господи Боже мой, да что они делают с такими, как ты! Нет-нет, не отвечай, я сам знаю, что они делают. Насмотрелся. Ладно, зови меня как хочешь. Эх, спросил бы я тебя, кто я есть и чем заслужил такое почтение со стороны столь ревностного верующего, как ты, но ответ мне уже известен. Я всего лишь бродячий фокусник, певец и мастер рассказывать глупые сказки. Правильно? А ты готов оказывать почести даже босоногому нищему и так никогда и не поймёшь, сколько чести это делает тебе. А вот магистры это понимают. Впрочем, сейчас меня больше волнует эта ваша необходимость исповедаться. Ты что, не можешь понять, каково это – хранить секреты? Вспомни детство, Маррон! Бьюсь об заклад, тогда тебя не беспокоили такие вещи!
Маррон помнил детство, но сейчас воспоминания доставляли ему боль, потому что все детские секреты были связаны для него с Олдо. Маррон решительно отбросил эти мысли и задумался о другом секрете, а может, и не секрете – том, что был связан с менестрелем.
– Мессир, а вы видели Королевское Око?
– Да, но, наверное, не так, как ты. Вас небось приводят в какое-нибудь тёмное подземелье и показывают спрятанное там светлое чудо. Так вот, могу заверить тебя, что оно ничуть не менее ярко сияет и при свете дня, в шуме, страхе и пылу боя…
Маррону показалось, что Радель ничего больше не расскажет ему и придётся довольствоваться этим обрывком скользнувшей мимо тайны. Однако менестрель вздохнул, горестно покачал головой, не то думая о прошлом, не то сожалея о людской глупости, и продолжал:
– Я сражался при Лёсс-Арвоне. Это было двадцать лет назад. Тогда все мои песни и всё, что я умел, было связано с войной. Я служил у герцога, у Крошки-Герцога, ты наверняка слышал про него множество баек. Так вот, я участвовал в некоторых из описанных там событий.
Время было тяжёлое. Шарайцы штурмовали восточные горы; в обоих лагерях царили насилие и бесчестье. То тут, то там случались партизанские нападения, замки переходили из рук в руки. Пленников, разумеется, убивали – так тогда было принято.
Герцог сам вёл свою армию до конца, когда уже казалось, что он вот-вот захватит новые земли. Он отбросил шарайцев назад, однако слишком увлёкся преследованием – он вообще был человек увлекающийся. Ну и, понятно, позади осталось множество людей – пехота ведь не может тягаться с кавалерией на марше. Что до меня, я всегда подозревал, что кто-то из семьи герцога взялся за дело и завёл нас в беду. Очень уж многие из подданных герцога считали, что его владениям будет гораздо лучше, если их возьмёт в руки человек помоложе и поспокойнее.
Ладно, это к делу не относится. В общем, нас оставалось меньше двух сотен, когда до герцога вдруг дошло, что мы оторвались от своих. Мы слишком углубились в землю, ставшую предметом раздоров, заблудились и в довершение всего были окружены врагами. Мы не видели, где собираются шарайцы, но точно знали, что они своего не упустят. Такая у них была тактика – напасть, нанести удар, отступить, а потом снова напасть. Запомни на всякий случай. Шарайцы – сущие черти по части верховой езды, и лошади у них небольшие, но отличных статей, скачут со скоростью ветра, а развернуться могут на пятачке. Это ты тоже запомни.
Одно мы знали точно – нам не вернуться тем путём, которым мы пришли. Мы выслали в ту сторону разведчиков, чтобы проверить, следует ли за нами наша армия; шарайцы вернули нам их изрубленными прямо в сёдлах. Ну и без глаз, языков и прочего. Но разведчики были ещё живы, и нам пришлось самим проявить милосердие и добить их.
Честно говоря, я думал, что нам конец, что мы все уже, считай, мертвецы. Особенно когда из пустынных земель прилетали стрелы, а мы не могли разглядеть лучников. Мы теряли и людей, и лошадей; я думаю, отряд разбежался бы, если бы люди знали, куда бежать.
Среди нас был отряд монахов. Они всегда выходили в поле первыми. Их старший, исповедник, достал витую свечу, поставил её на камень и зажёг. Он забормотал какие-то слова, я был рядом, но ничего не понял – язык был мне не знаком. Я решил, что это обряд Ордена, чтобы наши души вознеслись в рай. Но тут исповедник погрузил руки в пламя, и оно не обожгло его; оно засияло ярче солнца, заполнило всю низину, где мы собрались, и окрасило деревья в золотой цвет.
Все были потрясены, даже сам герцог. Я стоял ближе всех и первым обрёл дар речи. Я спросил монаха, что это было, и он ответил: «Ты стоишь в Королевском Оке, сын мой, и оно вернёт тебя домой целым и невредимым».
Так оно и случилось. Стрелы перестали сыпаться на нас, и одно это уже было благословением; однако на этом монах не остановился. Укрепив свечу на седле, он повёл нас назад по долине. Она сияла, словно золото, и была совсем пуста. Лошади перепугались чуть ли не до смерти, и нам приходилось идти пешком, однако за всю дорогу мы не встретили ни единого шарайца и ни одного человека из оставшегося позади отряда. Свеча наконец догорела, хотя горела необычайно долго для простой восковой свечи; тогда монах собрал последний огонь в ладони, и он горел там так же ярко, и свет сочился меж пальцев исповедника.
Земли, по которым нас вели, казались нам и знакомыми, и незнакомыми одновременно. Холмы были такие же, но воздух был горяч и сух, он драл нам глотки, хотя на дворе стояла осень. Земля и камни были тёплыми и даже немного обжигали кожу. Мы переправлялись через реки, но вода исходила паром, и её нельзя было пить; она текла очень медленно и светилась странным светом. Вокруг не было ни птиц, ни насекомых.
Наконец мы вышли на равнину, которая была пуста – ни единого следа жизни. Тут монах вдруг развёл руки и прокричал несколько слов – я их не запомнил. Золотое свечение исчезло, на землю спустились сумерки, а вокруг нас засновали люди, устраивающие лагерь по приказу своих командиров.
К концу рассказа Радель понизил голос и немного замедлил речь, со всем искусством менестреля произнося слова так, чтобы сделать из них маленькое представление и поразить слушателя. Маррон даже вздрогнул.
Рассказ вёлся на ходу – Радель так и не остановился. Солнце шло по небосводу вслед за ним, если, конечно, оно могло идти без ног. Теперь оно поднялось выше замка и изливало на путников жаркие лучи, словно воду. Тени стали совсем крошечными. До полудня оставалось всего несколько минут. Это заставило Маррона оглядеться вокруг и узнать место: на дороге всё ещё стоял странный алтарь, оставленный Мустаром. Однако теперь на его вершине лежал всего один голубой камушек, и это слегка озадачило Маррона: кому могло прийти в голову взять камень, нет, два камня, и оставить алтарь в целости и сохранности? Разве что дрозд, которому нужно было разбить раковину улитки. Если, конечно, в Святой Земле есть улитки и дрозды…
Маррон мог бы спросить Раделя, который, казалось, знал все об окружающем мире, однако любопытство мелькнуло и исчезло, когда вспомнилось гораздо более важное дело.
Надо было помолиться, причём Маррон сомневался, что Радель захочет молиться с ним, даже если его попросить. «Твой Бог», – сказал Радель, и это была ересь, а не просто так сказанные слова. Он ведь даже не обратил на них внимания…
Наедине Маррону доводилось молиться только с сьером Антоном. Всякий раз это было нечто особенное, и ему не хотелось запятнать память об этих часах, перекрыть её памятью о голосе другого человека и собственными сомнениями по поводу веры этого человека.
Он не мог отойти в сторонку и помолиться, но существовал ещё один выход – ускорить шаг. Деревня была совсем недалеко, если идти быстро и целенаправленно, а в деревне стоял храм. Вскоре его колокол начнёт звякать, призывая людей на службу. Что ж, пусть обряд будет незнаком, а вокруг окажутся незнакомые люди, зато не будет вопросов. Лучше встать, преклонить колени, даже простереться ниц в этом храме, хоть он там и чужой.
Он шёл все быстрее и быстрее, и Радель шагал вслед за ним. Их подгоняли глухие удары Брата Шептуна, доносившиеся из замка и словно толкавшие в спину, к храмовому колоколу, притягивавшему их к святому месту.
Они вошли в деревню и прошли сквозь неё, когда колокола наконец умолкли. Однако на деревенской площади перед храмом они застали не тишину, благочестие и покой, а гомон, беспорядок и страх.
Вместо того чтобы стоять на молитве, деревенские жители, включая стариков и детей, сбились в толпу и рассматривали что-то перед собой. Бородатый священник стоял перед открытыми дверями храма, держа одну руку на запоре и подняв другую вверх, словно призывая гнев Божий на стоявших перед ним людей – мужчину и женщину, державшую на руках ребёнка.
А хуже всего – худшего Маррон и представить не мог – было то, что его собственный отряд был на площади. Монахи стояли, окружив беспокойную лошадь исповедника, и переговаривались между собой, а сам фра Пиет шёл к ступеням храма, держа руку на рукояти топора.
Маррон застыл в нерешительности: ему хотелось подбежать к братьям и спросить, что произошло, но побоялся, что его вновь осмеют и отвергнут.
Зато Радель колебаться не стал. Менестрель выругался про себя и поспешил, почти побежал к фра Пиету. Исповедник был в капюшоне, поэтому Маррон не видел, уделил ли он Раделю хотя бы один взгляд, однако менестрель достиг ступеней одновременно с ним и стал подниматься по лестнице бок о бок с монахом.
Маррон нерешительно последовал за ним, то и дело озираясь по сторонам. Братья смотрели в основном на священника и фра Пиета – только двое из всего отряда следили за лошадью, которая приплясывала и вертелась среди монахов. На Маррона посмотрел только Олдо.
Маррон остановился у первой из широких пологих ступеней; наверху ему, делать было нечего. Отсюда всё будет слышно и можно будет понять, в чём причина смятения.
– Что тут происходит?
Это, само собой, фра Пиет. Радель, наоборот, отступил на шаг назад, довольствуясь ролью наблюдателя. На бороде священника блестела слюна. Брызжа ею, он заговорил, шлёпая побелевшими губами:
– Добро пожаловать, добро пожаловать, святой брат! Посмотри только на этих собак, на этих неверных, посмотри…
Он схватил мужчину за уже разорванный грубый ворот. Действительно, на шее пленника на кожаном шнурке висела голубая бусина, известный по всей Святой Земле знак еретика-катари. Маррон слышал, что шарайцы презирали подобные знаки, говоря, что знают своего бога так же хорошо, как он знает их, поэтому они не нуждаются в опознавательных знаках. Однако все остальные порабощённые и покорённые народы носили эти бусины. Они делали это не только по собственному желанию, но и по приказу новых хозяев: это давало возможность с первого взгляда отличить еретика от истинно верующего.
Так оно и случилось. Эти люди не могли ничего отрицать, и фра Пиет уже снял с пояса топор, как вдруг рука Раделя сомкнулась на рукояти оружия, на палец ниже руки исповедника.
Топор застыл, застыли неподвижно двое держащих его мужчин, застыли все, кто был на площади и смотрел на них. Однако в неподвижности угадывалось ужасающее напряжение. Маррон подумал, что рукоять топора может не выдержать, что напрягшиеся, невидимые под одеждой мускулы стоят друг друга и что ни один из этих людей не уступит другому.
Они устояли; уцелел и топор. Тогда фра Пиет, слишком гордый, чтобы отбирать у наглеца собственное оружие на глазах всего отряда, избрал иную тактику.
– Ты берёшь на душу большой грех.
– Беру, но не я. По закону – по королевскому закону – катари пользуются такой же свободой, как и остальные жители Королевства, пока они живут мирно и платят налоги.
– По закону – по закону Святой Церкви, – скрипучим голосом ответствовал фра Пиет, – еретики не имеют права входить в церковь, храм, часовню и в любое другое место, посвящённое Господу, ибо тогда их будет преследовать правосудие Ордена.
Это тоже было правдой, и Маррон знал это. Радель не стал спорить.
– Так, значит, это и есть правосудие Ордена, – спросил он, – казнь на ступенях храма, без защитников, даже без оглашения имён осуждённых? Вы собираетесь казнить и мужа, и жену, и даже ребёнка?
– Наказанием для таких, как они, должна быть смерть, – ответил фра Пиет. – Они осквернили храм Господень одним своим присутствием.
– Да, обычно это карается смертью, – согласился Радель, но каким-то непонятным образом в его ровном голосе появились сардонические, даже порицающие нотки. – Для таких, как они. Независимо от проступка. Но их казнь – не твоё дело, брат исповедник. Здесь должны решать главы Ордена, священник этого храма и деревенский староста. Кто эти люди, почему они решили вознести молитвы богу, в которого не верят?
Фра Пиет со свистом втянул воздух – «Осторожнее, – торопливо подумал Маррон, – не то он обвинит и тебя, менестреля, перед главами Ордена», – но исповедник сказал только:
– Они лазутчики, которые пытаются спрятаться среди верных!
– И младенец тоже лазутчик? Больше похоже, что они испугались, оказавшись в тени замка, и решили спрятаться. Где тут староста?
Мимо Маррона, расталкивая толпу, прошла группа человек в двенадцать – должно быть, староста был одним из них. Они шустро поднялись по ступеням, говоря сразу со всеми: со священником, с Раделем, с фра Пиетом и друг с другом. В этом гаме Маррон мог расслышать только плач ребёнка, который мешался с засевшим у него в голове плачем совсем другого младенца, со страшным звуком и с молчанием того же младенца.
Наконец спорившие на ступенях люди приняли своеобразное решение. Мужчину и женщину привязали к колоннам – при этом руки женщины оставили свободными, чтобы она могла держать своего ребёнка. Всех троих надлежало забрать в Рок после молитвы, дабы над ними свершился суд прецептора.
Деревенские жители ринулись в храм, и отряд по команде фра Пиета последовал за ними. Радель поманил за собой Маррона, и они тоже вошли и преклонили колена у самой дальней стены, чуть ли не в дверях – больше места в храме не оставалось.
Фра Пиет сам вёл службу, разрешив все сомнения Маррона касательно незнакомого обряда. Исповедник предпочитал заставить местных сбиваться и путаться в незнакомых словах, бормотать и замолкать при звуках незнакомой речи в их собственном храме – только бы его собственный отряд оставался чист.
Маррон, умевший обратить все свои мысли и свой духовный взгляд к Господу почти всегда, когда молился с сьером Антоном, не мог сделать того же, слушая, как вёл службу фра Пиет. Как бы глубока ни была вера исповедника, он не обладал даром делиться ею. Его голос звучал так, словно он выполнял какую-то обязанность, необходимую, чтобы заставить остальных провести полчаса жаркого полдня среди потных тел и пения заученных слов.
Рука Маррона болела, глаза его бегали, а мысли никак не были связаны с тем, что произносили его уста. Всё его внимание было обращено наружу, на дверь за спиной, на троих людей, которые должны были заплатить за свой проступок земным хозяевам юноши. Он не сомневался в том, что они будут приговорены к смерти; ему уже доводилось видеть, как фра Пиет поверг весь отряд в безумство, и был уверен, что на суде исповедник сумеет склонить на свою сторону самого прецептора. Даже ребёнок умрёт, расплачиваясь за глупость родителей. А ведь Маррон уже видел, слышал, чувствовал, как в его руках умер ребёнок, умер по приказу фра Пиета. Второго раза он не мог вынести. Он должен был заплатить за эту смерть собственной жизнью или чьей-нибудь ещё, чтобы только заставить замолчать слышавшийся у него в голове плач, который обрывался молчанием. И не важно, как Господь управит эту сделку, лучшего выбора всё равно не оставалось, и Маррону нужно было совсем немного, чтобы решиться…
Недовольно много времени ушло, чтобы набраться храбрости и сделать первое движение. Он всё ещё стоял на коленях, однако уже отодвинулся чуть назад, к солнцу и свету. Только Радель заметил его движение; из прочих молящихся его мог заметить только фра Пиет, да и то, если бы сумел посмотреть поверх всех стоящих на коленях людей. Маррон шевельнулся ещё раз и оказался в луче солнца, бьющем из двери.
В ответ на вопросительный взгляд Раделя Маррон постарался посмотреть на него как можно выразительнее, чтобы сказать сразу несколько вещей: «Я должен сделать это», «Молчи» и, наконец, «Спасибо. Мне было приятно побыть в твоём обществе». Он догадывался, что больше у него никогда не будет таких светлых дней. Он знал, что пощады не будет, что впереди его ждёт безнадёжность и потери – а ведь он уже столько потерял! Смел или не смел его поступок, глупым его можно было назвать не задумываясь.
И всё же юноша не собирался останавливаться. Вытянув шею, он увидел, как фра Пиет простёрся перед грубо отёсанным алтарным камнем.
Пора…
Так тихо, как только мог, так быстро, как только получилось, Маррон встал, повернулся и шагнул наружу. Всего один шаг перенёс его из липкой тени в полуденную жару, из братства – в одиночество, из повиновения – в преступление, всего один шаг, которого сам он даже не заметил.
Стараясь двигаться как можно быстрее, Маррон зашагал вдоль храмовой стены туда, где к деревянным, поддерживавшим крышу колоннам были привязаны двое пленников. Ребёнок на руках женщины уснул – это уже обрадовало Маррона. Тёмные глаза вопросительно уставились на юношу, и он прижал к губам палец: «Ни звука, молчите, как ваш ребёнок, ради вашей собственной жизни…»
Он полез в суму Раделя, все ещё свисавшую у него с плеча, нащупал лезвие ножа, схватил его за рукоять и вытащил наружу.
Маррон увидел, как удивлённо расширились глаза мужчины, однако вначале поспешил к женщине. Он перерезал перехватывавший её шею ремень, наклонился и освободил талию и ноги. Быстро скользнув к мужчине, провёл ножом по ремням на шее, запястьях и щиколотках, а потом поманил их за собой туда, где стояла стреноженная лошадь фра Пиета.
Чтобы рассечь путы, хватило двух ударов ножа. Маррон выпрямился, придержал гарцующую лошадь за повод и подтолкнул вперёд пленников.
«Вы умеете ездить верхом? Ну, скажите, что умеете…» Он не знал их языка, чтобы спросить, но в этом не было нужды. Мужчина легко взлетел в седло; женщина последовала за ним немного неуклюже из-за ребёнка на руках. Мужчина коснулся изгибающейся шеи лошади, пробормотал что-то в подрагивающее ухо – и та успокоилась. Всадники нетерпеливо взглянули вниз, мужчина вытянул руку и отбросил капюшон Маррона, впившись глазами в его лицо. Потом он прищурился и кивнул. «Я запомнил тебя, брат». Женщина чуть улыбнулась, и лошадь, повинуясь поводьям, повернула прочь. В этот миг их, казалось, совсем не заботила близкая опасность, хотя, как помнил Маррон, перед священником они явно перетрусили.
Юноша смотрел, как они уезжали, радуясь, что лошадь шла шагом до тех пор, пока не исчезла из виду и уже не могла встревожить молившихся стуком копыт.
С исчезновением пленников на Маррона обрушилось осознание содеянного им. Дрожащей рукой он осторожно отправил нож к остальным, лежавшим в сумке, снял её с плеча и отложил в сторону. В ней были и другие вещи, не только ножи – например, деньги. Совершив свой ужасный поступок и поправ обеты, Маррон мог схватить деньги и бежать, бросить рясу прежде, чем её с него сдерут, и избежать грозивших ему мук. Но он не стал этого делать. Он нарушил обеты, предал Орден и Господа, но трусом быть отказывался.
Так он и стоял, греясь на солнце, пока негромкие голоса в храме не сменились гомоном выходящей из дверей толпы. Маррон смотрел на тёмный проем до тех пор, пока не увидел вышедшую оттуда фигуру, пока фра Пиет не вздрогнул, не напрягся, не стал осматриваться. Исповедник спустился к Маррону, не шевельнув при этом ни единым мускулом лица.
Юноша открыто встретил взгляд фра Пиета и честно ответил на все вопросы.
– Где они?
– Сбежали.
– На моей лошади?
– Да.
– Как?
– Я освободил их. – «Ради того ребёнка, которого ты заставил меня убить», – добавил он про себя, но не стал говорить вслух. Не сейчас и не исповеднику. Наверное, он скажет это только прецептору или по крайней мере тому, кто спросит, зачем он так поступил.
Фра Пиет с шипением втянул воздух и задал ещё один вопрос, в то время как его рука скользнула к висевшему на поясе топору.
– В деревне есть верховые лошади? Маррон моргнул и честно ответил:
– Я видел только одного верблюда, но он старый и слепой.
Топор слетел с пояса и качнулся. Последним, что видел Маррон, был его обух, прижатый к запястью фра Пиета.








